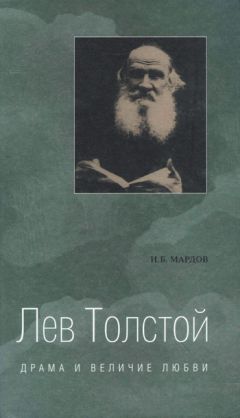
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц)
5(47)
Супружеская сторгическая связь обеспечивается (и то не всегда) не тогда, когда «выбираешь ее», а когда «узнаешь ее». Путеносному мужчине хорошо бы не столько выбирать женщину для семейной жизни, сколько узнавать свою жену в женщине – и тогда жениться. В известном смысле Толстой – неудачник. Он верно представлял какая «соответственная ему» женщина, какая «она» была нужна ему, но не встретил (или, как мы понимаем, пропустил) ее. Толстой женился на С.А. Берс, отчетливо не прочувствовав возможность сторгического единения с ней, не зная ни действительных своих чувств к ней, ни ее к себе, толком не понимая, на ком женится. «Похоже» – вот все, что оно мог сказать себе. Вплоть до дня свадьбы его мучили сомнения: какая она, верно ли, что любит его, и вообще: его ли эта женщина, та ли, которая одна ему нужна, «она» ли или «не она». Да и мудрено это понять за месяц, прошедший с момента, когда он впечатлился вдруг повзрослевшей Соней, и до того, как сделал ей предложение.
Пять дней после свадьбы Толстой не открывал Дневник и только 24 сентября, уже в Ясной Поляне, фиксирует то, что случилось за эти дни. «В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства. Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она всё знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна… – Ночь, тяжелый сон. Не она».
Вся запись сделана задним числом, и в ней стройный сюжет, зачин которого – то, что происходило с ним в день свадьбы, – и до финала: того, что он почувствовал в Ясной Поляне. После первой брачной ночи в Ясной Поляне, когда естественно схлынул порыв чувственной страсти, Толстой утренним мужским взглядом увидел и сделал почти не закамуфлированную запись: «Ночь, тяжелый сон.[266]266
Какой «тяжелый сон» в первую брачную ночь?! Но читающей дневник жене легко объяснить смысл записи: «не она» в его «тяжелом» сне.
[Закрыть] Не она» (48.46). «Не она» – не моя мечта, не Маша «Семейного счастья». «Не она» – это, собственно, и есть не свое, а «чужое счастье». И Софья Андреевна, как свидетельствует ее дневник, вскоре это почувствовала и страдала. И в страданиях своих уже через две недели после свадьбы поняла то, что долго не мог понять великий мудрец, ее муж: «У нас есть что-то очень непростое в отношениях, которое нас постепенно совсем разлучит в нравственном отношении».[267]267
Гусев Н.Н. Т. II. С. 581.
[Закрыть] Сам же Толстой после женитьбы был деморализован, да так, что в первые месяцы женатой жизни не знал, что с собой делать, и с головой ушел в хозяйство. «Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много накипело на душе; я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелее, и я ничего не могу сказать ей – да и нечего. Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело» (48.49). Это видела «тетушка» Ергольская, к которой Софья Андреевна отнеслась весьма враждебно. Что более чем показательно.
Вполне искренне писать Дневник Толстой не может. Кое-какие записи он делает исключительно для нее.[268]268
И сам предупреждает об этом: «Должен приписать, для нее – она будет читать, – для нее я пишу не то, что не правда, но выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать». «Я не дал ей читать своего дневника, но не пишу всего». И, более того: «Всё писанное в этой книжке почти вранье – фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду».
[Закрыть] В Дневнике множество реверансов любви к жене и появляются они, как правило, после фраз, которые неприятно читать ей. Через неделю после приезда в Ясную Поляну: «В Ясной. Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю всё так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал.[269]269
Толстой говорил ей, что не верит ее любви к нему. «И как жаль мне его в те минуты, когда он не верит мне, и слезы на глазах, и такой кроткий, но грустный взгляд…» (Гусев Н.Н. Т. II. С. 580).
[Закрыть] Она прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши» (48.46).
Слова «все мои ошибки» камуфлированы множественным числом. Читать надо «ошибка» – ошибка брака. За это говорит и заранее отвергающая такое толкование следующая за этой фраза о любви к ней. Но «работать не могу». От чего? От любви? Или от того, что себя не узнает и от «сцен»? Опять следует запись, подтверждающая «ошибку». И откровенный камуфляж о любви в дальнейшей фразе (он, оскорбленный ею, «заплакал», а «она прелесть», но «нет ли фальши»). Весь текст выстроен так, что для чужого чтения невинно, а Толстому ясно.
В январе 1862 года у Толстого возник сюжет – столкновение мужа и жены из-за различия в чувствах. Любовь мужа «строгая к себе, все поглощающая, сделавшаяся делом всей жизни» и любовь жены «с увлечением вальса, блеска, тщеславия и поэзии минуты». Весь интерес жизни восемнадцатилетней Любочки в «Зараженном семействе» состоит в том, чтобы полюбить, выйти замуж, и больше ничего.
Между образами молодой жены князя Андрея Болконского и молодой жены графа Льва Толстого нет – и, понятное дело, – ничего не могло быть общего. Одни глухие намеки, не предполагающие узнавание. И все же, взгляните на рисунок Софьи Андреевны, сделанный Толстым в начале 1863 года (см. во вкладке), и сравните его с описанием маленькой княжны: «Ее хорошенькая с чуть видными усиками верхняя губка, как будто была коротка, но тем милее она открывалась и тем еще милее стягивалась иногда и опускалась на нижнюю». И еще: «Всем казалось весело смотреть на эту брюхатую, полную здоровья и живости, хорошенькую женщину». То же самое Лев Николаевич не раз говорил и о своей молодой жене. Как и порой Толстой, так и князь Андрей «стал несправедлив и зол, убеждаясь, что он только справедлив». «Она не в состоянии ни почувствовать, ни понять моих страданий, – думает герой Толстого. – А я не в состоянии унизиться, чтоб сказать ей. Боже мой, зачем я женился».[270]270
Не решаюсь приводить в основном тексте предшествующую этой фразу из черновика Толстого: «И ничего, ничего, кроме порханья, болтания и этой вечной веселости (вспомните слова Фета о сестрах Берс. – И.М.), прикрывающей тупость и бесчувственность».
[Закрыть]
Мать Александра Михайловича Исленьева Дарья Михайловна, узнав о том, что ее внучка Люба выходит за врача, выговаривала своему сыну: «Ты, Александр, будешь скоро своих дочерей за музыкантов отдавать».[271]271
Кузминская Т.А. С. 45.
[Закрыть] Жена князя Андрея – дочь музыканта, так что старый князь Волконский был бы недоволен выбором внука ровно так же, как старый князь Болконский – выбором сына. Князя Андрея постигла та же участь мигом возникшей и после брака прошедшей страсти, что и Толстого. Маленькая княжна, как и молодая жена Толстого, сразу же забеременела, что ограничивало мужу свободу выбора дальнейшей жизни. Отношение князя Андрея к жене, по-видимому, создано по резко усиленной модели ситуации, пережитой самим Толстым в самое первое время после свадьбы.
Монолог князя Андрея о роковой ошибке брака существует в самых ранних черновиках романа. Основные тезисы его таковы. Во-первых, князь Андрей признает: его жена «прекрасная женщина, я ни в чем не могу упрекнуть ее, но чтобы я дал, чтобы разжениться». Во-вторых, князь Андрей утверждает, что такому человеку, как он, который «ждет от себя чего ни будь впереди», нельзя женится «до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным… А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам». И в-третьих:
«– Ты не понимаешь, отчего я это говорю, – продолжал он. – Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, – сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. – Ты говоришь Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, – и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной – и как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И всё, что есть в тебе надежд и сил, всё только тяготит и раскаянием мучает тебя» (13.28–29, 84–85).
Чтобы критики не думали об этих словах героя Толстого, все же ясно, что мысль Толстого 1910 года о роковом значении своей женитьбы в «Дневнике для одного себя» не была совершенно нова для него.
Княгиня Мария в «Семейном счастье» – прирожденная аристократка и вела себя соответственно. Графиня Софья Толстая умела «обмелчить, опакостить отношения так, что я как будто жалею дать лошадь или персик». «С утра я прихожу счастливый, веселый, и вижу Графиню, которая гневается и которой девка Душка расчесывает волосики, и мне представляется Машенька в ее дурное время, и все падает, и я, как ошпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелуи, по привычке нежные, и начинается придиранье к Душке, к тетеньке, к Тане, ко мне, ко всем, и я не могу переносить этого спокойно, потому что всё это не просто дурно, но ужасно, в сравнении с тем, что я желаю» [272]272
Характерный штрих: «Уже 1 ночи, я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышат, а теперь спокойно храпит. Проснется и в полной уверенности, что я несправедлив и что она несчастная жертва моих переменчивых фантазий». Эти свои слова Толстой мог бы дословно переписать в Дневник последних десятилетий жизни.
[Закрыть].
Старший сын Толстого Сергей Львович четко определил, в чем тут дело. Вот что, по записи Д. Маковицкого, он говорил в 1910 году:
«Сергей Львович объективно говорил про родителей, какая у них разница характеров, умственного, нравственного склада. Софья Андреевна происхождением буржуа, с городскими буржуазными взглядами, которых Л. Н. терпеть не мог».[273]273
ЯЗ. Кн. 4. С. 368.
[Закрыть] Примерно о том же самом говорила и старшая дочь Толстого Татьяна Львовна.[274]274
Можно отметить еще и то, что некоторые нынешние критики Толстого видят в Софье Андреевне человека нового века, столь любезного их сердцу человека «среднего класса», противостоящего придури человека века ушедшего.
[Закрыть]
Софье Андреевне в первые годы, конечно, нелегко. Легко ли быть самым близким человеку, который видит все – и тебя – насквозь; у тебя же, молодой девушки, нет и не может быть таких проницательных возможностей. Легко ли быть супругой человеку такой мощи, которой нельзя не подчиняться. Легко ли быть женой человека, высоко возвышающемуся над всеми другими, и над тобой в том числе. Да и без всего этого: легко ли для девушки быть наравне с мужчиной на 16 лет тебя старше и другу детства твоей матери? Молодая жена сразу же стала звать своего мужа так, как его звали семейные в детстве и как при ней звала его ее мать: «Левочка».
И князь Андрей и Пьер Безухов женились случайно. И тот и другой живут с сознанием сделанной ошибки и беды супружества. Для князя Андрея в супружестве заключена угроза погубить себя, ничего достойное его не совершить в жизни. Супружество для Пьера – это постоянная и неустранимая угроза поругания мужского достоинства, угроза, перед которой невозможно жить, особенно такому человеку, как Лев Толстой. Это видно из его Дневников.
«Нынче ее видимое удовольствие болтать и обратить на себя внимание Эрленвейна и безумная ночь вдруг подняли меня на старую высоту правды и силы. Стоит это прочесть и сказать: да, знаю – ревность, и еще успокоить меня и еще что-нибудь сделать, чтобы успокоить меня, чтобы скинуть меня опять во всю, с юности ненавистную, пошлость жизни. А я живу в ней 9 месяцев. Ужасно». «То, что ей может другой человек, и самый ничтожный, быть приятен – понятно для меня и не должно казаться несправедливым для меня, как ни невыносимо, – потому что я за эти 9 месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек».
«Изредка и нынче всё страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня, и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет».
«Одно, что меня может спасти, ежели она не полюбит никого другого, и я не буду виноват в этом».
Надо ли говорить, что позиция Толстого в отношении светских развлечений жены кардинально отличается от той, которую занял Сергей Михайлович в «Семейном счастье». В отличие от героя его повести Толстой никогда не стеснялся «проявлять власть», чтобы устранить потенциальную угрозу супружеской измены. Что же до угрозы погубить себя (то есть не совершить то, что мог и должен был совершить), которой опасался князь Андрей, то и эту беду он отвел от себя.
Вот что он пишет 2 июня 1863 года, после 9 месяцев совместной жизни:
«Всё это время было тяжелое для меня время физического и оттого ли, или само собой нравственного тяжелого и безнадежного сна. Я думал и то, что нет у меня сильных интересов или страсти (как не быть? Отчего не быть?[275]275
Читай: куда ж девалась прежняя страсть?…
[Закрыть]). Я думал и что стареюсь и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои – деньги, или пошлое благосостояние.[276]276
И, отметим, видел в этом порочное влияние жены. В этой записи отчетливо слышны мотивы монолога князя Андрея.
[Закрыть] Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется. Люблю ее и будущее,[277]277
Первый ребенок в семье Толстых родился через три недели после этой записи.
[Закрыть] и себя, и свою жизнь. Ничего не сделаешь против сложившегося. В чем кажется слабость, в том может быть источник силы» (48.53–54).
Слабость – в приземленности жены, ее бесполезности в качестве жены-соратника и сопутника духовной жизни Льва Толстого. Это может стать источником его силы, если поставить ее в известные и жесткие рамки, приспособить ее к себе в чисто семейном отношении, дать ей, рядовой земной женщине, верную и посильную установку, то есть направить все ее силы на воссоздания того образа семейно-писательской жизни,[278]278
Софья Андреевна далеко не сразу стала полноценной писательской женой. Когда муж запрещал ей при ремонте комнат оклеивать стены черновиками его рукописей, Софья Андреевна – и это через несколько лет замужней жизни! – не могла понять: почему? – ведь они больше не нужны ему? Первые годы она плохо понимала, чьей женой она стала и что такое быть женой Льва Толстого. Потом она приняла свое исключительное положение как должное.
[Закрыть] который ему нужен на многие годы, для работы над «Войной и миром». У Софьи Андреевны были потенциальные возможности для этого. Она была человеком долга.
23 марта 1863 года исполнилось полгода со дня их свадьбы. Словно подводя итоги, Толстой в письме к младшей сестре жены в полушутливой импровизационной форме сочинил не то сказку, не то притчу. Софья Андреевна в ней вдруг сделалась маленькой фарфоровой куколкой.
«Но все было так хорошо (сделано. – И.М.), натурально, что это была все та же наша Соня. И рубашка, та, которую я знал, с кружевцом, и черный пучок волос сзади, но фарфоровый, и тонкие милые руки, и глаза большие, и губы – все было похоже, но фарфоровое. И ямочка на подбородке, и косточка перед плечами. Я был в ужасном положении, я не знал, что сказать, что делать, что подумать, а она и рада была бы помочь мне, но что могло сделать фарфоровое существо. Глаза полузакрытые, и ресницы и брови – все было как живое издалека…»
«Сказка о фарфоровой кукле» была впервые опубликована в 1926 году и вызвала споры. Одни полагали, что это незначащая шутка, другие пытались угадать заложенный в ней глубокий смысл. Н.Н. Гусев считал, что сказка эта – «письменный след глубочайшего переживания Льва Николаевича в его взаимоотношениях с Софьей Андреевной в первый период его брака с ней», его ощущения отчужденности от нее и, в этом смысле, переживания ее «фарфоровой».[279]279
Жданов В. Любовь в жизни Льва Толстого. М., 1993. С. 68.
[Закрыть] В.Жданов находил, что здесь «бессознательно отразилась интимная сторона отношений», осложненная тогдашним болезненным отношением Софьи Андреевны к «физическим проявлением любви».[280]280
Там же.
[Закрыть] Я думаю, что в читательском восприятии «сказки» неверно выставлялось ударение на «фарфоровости» (то есть холодности ее или отчужденности его), тогда как тут вернее ставить акцент на «кукольности».[281]281
Уже через месяц после поселения в Ясной Поляне Софья Андреевна записывает для себя (и, конечно, для читающего ее дневник мужа): «А если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я так жить не могу и не хочу. Конечно, я бездельная, да я не по природе такая, а еще не знаю, главное, не убедилась, в чем и где дело. Он нетерпелив и злится».
[Закрыть] Да и кем первое время семейной жизни могла быть молоденькая жена, почти ребенок, в яснополянском доме? Своего рода «куклой», которая делать ничего не умеет (или умеет быть куклой), ничего не делает, с которой не о чем разговаривать, а только играть. Так ее и должен был воспринимать рядом с собой Лев Толстой. Вопрос только в том как ее воспринимать: любимой или не любимой куклой? Князь Андрей разлюбил «свою куклу» и тяготился ею. Что-то похожее временами переживал и Лев Толстой. Но «сказка» написана уже в другое время совместной жизни и смысл ее не в том, что она «фарфоровая» и даже не в том, что она – «кукла», а в том, что, несмотря на все, они счастливы. Об этом-то Толстой и сообщает в письме свояченице:
«Я испытал странное чувство. Мне вдруг стало приятно, что она такая, и я перестал удивляться, – мне всё показалось натурально. Я ее вынимал, перекладывал из одной руки в другую, клал под голову. Ей все было хорошо… Она не тяготится этим, и я тоже. Признаться откровенно, как ни странно это, я рад этому, и, несмотря на то, что она фарфоровая, мы очень счастливы…»
На следующий день, 24 марта 1863 года, Толстой записывает в Дневник:
«Я ее все больше и больше люблю. Нынче 7-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею, потому что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не вполне счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою» (48.53).
Тут, как и в некоторых других обращенных к жене дневниковых записях Толстого той поры, немало литераторского. Но здесь Толстой объясняется с читавшей его Дневник женою по поводу своего раздражения и своих мучений, разъясняя ей (как видите, не совсем достоверно), почему он не вполне счастлив с нею. И все же из всего вышеприведенного можно сделать определенный вывод, что уже через полгода содружество в супружестве Льва Николаевича и Софьи Андреевны состоялось.
Жизнь много раз доказывала, что Софья Андреевна, как и ее мать, была в высшей степени обязательным человеком. Одним этим обеспечивалось благополучие семейной жизни, которая так была важна для Толстого. К тому же вскоре оказалось, что Софья Андреевна отменная мать, и прежде всего мать. На ее фотографии 1863 года лицо не открытое, но и не закрытое, властность уже наметилась, но общий вид еще смятенной, не установленной в жизни женщины. На фото 1866 года – строгая и умная мать, достоинство и совершенная женская устойчивость, доля упрямства, но без кокетства. Идя на вершины жизни, Толстой мог быть уверен в тылах своей семейной жизни, пока жена его живет жизнью матери, – той жизнью, «которую он для нее избрал» и которую по потребностям своей женской натуры она избрала сама себе. Толстой, чтобы потом ни происходило с ними, не в умозрении, а по собственному опыту знал то, что через много лет запишет в «Круг чтения»:
«То, что муж и жена становятся одной плотью, не есть предписание, но подтверждение того состояния, в которое вступают муж и жена, живущие нравственной жизнью».
6(48)
Как нельзя смотреть на высокие художественные образы с точки зрения бытовых отношений, так нельзя смотреть на взаимоотношения Льва Николаевича и Софьи Андреевны с позиции заурядных мужчин и особенно заурядных женщин. Супружеская драма Толстого, кроме того, что она несет специальный смысл, столь поучительна, что заслуживает особого внимания.
Лев Николаевич выбирал себе молоденькую жену из родственного дома, женился, а потом узнал: «не она». Что делать? «Ничего не сделаешь против сложившегося». Значит надо не думать «в своих семейных отношениях», а чувствовать, и самому «избрать жизнь для жены», сделать ее и ее жизнь такой, какая ему нужна. Первейшая задача Толстого: переделать чужое в свое, сделать из «чужого» «свое счастье». Человек способен осуществить сторгическую свитость сам – даже тогда, когда к этому нет особых оснований; и тем более способен, когда он, как Лев Николаевич в то время, живет в сторгическом периоде жизни.
Сторгия предусмотрена в Замысле человека. И потому ее можно создавать искусственными приемами (в том числе внушения и самовнушения), но это опасно. Искусственно созданная принудительная сторгия то и дело подвергается испытаниям, результат каждого из которых может быть катастрофическим.
В дневниках Софьи Андреевны за первую половину 63-го года, констатирует Гусев, «видна любовь к мужу и одновременно требование полной отдачи его ей». Это – борьба: кто кого или, вернее, кто под кого. Мы кое-что уже знаем об этой борьбе. Рождение первенца (28 июня 1863 года) не успокоило борьбу, а, напротив, обострило ее.
«Ее «несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня… Я пересмотрел ее дневник – затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни часто тоже, – пишет Толстой в дневниковой записи 6 августа 1863 года. – Если это так, и всё это с ее стороны ошибка – то это ужасно. Отдать всё – не холостую кутежную жизнь у Дюссо и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего, что освещает семейную жизнь, без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуев и т. д…Нет, она не любила и не любит меня».
Толстой пишет в сердцах, но рассчитывает на то, что она прочтет и сделает выводы. Это не единственная запись такого рода. Еще в конце декабря 1862 года в Москве, впервые увидав ее в обществе в качестве жены, он выговаривает ей в Дневнике: «Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался» (48.47). Серьезное предупреждение. В какой-то момент ей, надо полагать, стало страшно за свою дальнейшую супружескую судьбу. Она начала стараться. Через два года после женитьбы она называет себя «старшей дочерью» мужа, обещает «все время помнить твои родительские наставления». «Я такое ничтожное существо без тебя», – пишет она ему и считает минуты разлуки с ним «нравственным заключением».
В свою очередь, и Лев Николаевич пошел по всему фронту жизни на серьезные уступки ей. Мы приводили его слова о слабости, которая может стать источником силы. Он смерился за мир в семье. «Выбирать незачем, – решает он. – Выбор давно сделан: литература – искусство, педагогика и семья».
«Отношения наши с Соней утвердились, упрочились, – заносит он в Дневник 16 сентября 1864 года. – Мы любим, то есть дороже друг для друга всех других людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно». Возникло семейное содружество двух людей, нашедших верный характер взаимоотношений, ровный и спокойный. И Софья Андреевна отмечает: «…нам все делается лучше и лучше жить на свете вместе».
В 1866 году Софья Андреевна первой испытала то, что потом испытали великое множество читателей «Войны и мира». «А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман, – пишет она мужу. – Как только сяду переписывать, унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне покажется, что это не роман твой так хорош (конечно, инстинктивно покажется), а я так умна». Она духовно растет от мужа, и это доставляет ей наслаждение такого рода, которое она вряд ли бы познала без него.
«Теперь я все время и нынче переписываю (не читая прежде) роман Левы. Это мне большое наслаждение. Я нравственно переживаю целый мир впечатлений, мыслей, переписывая роман Левы. Ничего на меня так не действует, как его мысли, его талант. И это сделалось недавно».
Это написано 10 ноября 1866 года, то есть тогда, когда Толстой завершал работу над вторым томом «Войны и мира».[282]282
С подачи брата Софьи Андреевны в обществе принято считать, что она то ли пять, то ли семь раз переписывала «Войну и мир». Это легенда. Одна часть рукописей переписывалась несколько, но никак не семь раз, другая, и немалая часть, переписывалась единожды и включались в состав наборной рукописи. Всю остальную работу Толстой впоследствии проводил по специально для него неоднократно перенабираемым в типографии корректурам.
[Закрыть] Наверное, в это время и образовалась сторгическая свитость их. Супружеская сторгия Льва Николаевича и Софьи Андреевны, судя по всему, возникла через его роман. «Я теперь стала чувствовать, что это – твое, стало быть, и мое детище, и, отпуская эту пачку листиков твоего романа в Москву, точно отпустила ребенка и боюсь, чтоб ему не причинили какой-нибудь вред. Я очень полюбила твое сочинение. Вряд ли полюблю еще другое какое-нибудь так, как этот роман».
В девятнадцатом веке культура супружеской сторгии – во всяком случае, в соответствующей среде – была неизмеримо выше, чем в наше время. Вскоре сторгия «через роман» перешла в непосредственную сторгию. В конечном счете Софья Андреевна вполне покорилась могучей силе мужа, так что через 10 лет смогла на своем опыте сделать общий вывод о супружеских потребностях Льва Толстого:
«Левочка привык бы к самому безобразному лицу, лишь бы жена его была тиха, покорна и жила бы той жизнью, которую он для нее избрал».[283]283
Запись в дневнике Софьи Андреевны от 1873 года.
[Закрыть]
Середина 60-х годов – время сторгического роста супругов Толстых, то есть такого духовного действия, в котором только и создается совместное сторгическое существо.
Прошло еще четыре года семейной жизни и десять лет со времени создания «Семейного счастья». Дневник Софьи Андреевны:
«Скоро 6 лет я замужем. И только больше и больше любишь. Он часто говорит, что уж это не любовь, а мы так сжились, что друг без друга не можем быть. А я все так же беспокойно и страстно, и ревниво, и поэтично люблю его, и его спокойствие иногда сердит меня». Вот когда стали отчетливо слышны мотивы первых глав «Семейного счастья», мотивы большой толстовской мечты. Победа?
Дабы ответить на этот вопрос, напомню читателю так поразившее Толстого в старости его письмо к А.А.Толстой от 18 октября 1857 года. Письмо это – своего рода манифест, в котором впервые объявлена чисто толстовская стратегия личной духовной жизни. Одна из основных мыслей этого письма в том, что душевное спокойствие, которого мы ищем, губительно прежде всего для нашей души.
«Мне смешно вспомнить, как я думывал, и как Вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь все только хорошее. Смешно!» «Вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек». Для роста души необходимо преодоление. «Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называется счастьем. Да что счастье – глупое слово; не счастье, а хорошо», так как «бесчестная тревога, основанная на любви к себе, это – несчастье». «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться». Приспособленчество душевное или даже любовь как средство достижения душевного комфорта есть своего рода подлость внутреннего мира человека. «А спокойствие – душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, нечеловеческого, а оттуда».
23 января 1865 года, во времена семейной идиллии, Толстой в письме тому же адресату прямо отказывается от того, что он постиг десять лет назад и что будет исповедовать всю жизнь:
«Помните, я как-то раз Вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо. Я тогда ошибался. Такое счастье есть, и я в нем живу третий год (!! – И.М.). И с каждым днем оно делается ровнее и глубже… Я страшно переменился с тех пор, как женился, и многое из того, что я не признавал (и душевную подлость спокойствия? – И.М.) стало мне понятно, и наоборот».
Прошло еще десять месяцев и Толстой прочно «вошел в ту колею семейной жизни, которая, несмотря на какую бы то ни было гордость и потребность самобытности, ведет по одной битой дороге умеренности, долга, нравственного спокойствия. И прекрасно делает! Никогда я так сильно не чувствовал всего себя, свою душу, как теперь, когда порывы и страсти знают свой предел» (61.114–115).
Много позднее Лев Николаевич определял свою жизнь с 34 до 50 лет как «глубокий сон, сон душевный, от которого особенно трудно пробуждение» (34.347). То, что происходило в нем в 36 и 37 лет, – не сон, а в лучшем случае обморок души, в худшем же – падение души и духовная измена самому себе. В низину своего Пути жизни Лев Толстой спустился не в 21 год в Петербурге с Костенькой Ислантьевым, а в 37 лет в Ясной Поляне с племянницей Костеньки.[284]284
18 июня 1863 года в Дневнике: «Где я? Тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает. Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю».
[Закрыть] Тому немало свидетельств.
В 34 года Толстой в «Казаках» определял человека как «рамку, в которою вставилось часть единого Божества» и полагал, что «счастье есть наибольшее захватывание Божества в ширину и глубину». Теперь от этих мудрых мыслей о счастье не осталось ничего.[285]285
«Кто счастлив, тот и прав!» – таков девиз его (Дневник. 3 марта 1863 года) и первоначальное название произведения, которое стало «Войной и миром».
[Закрыть] На четвертом году семейной жизни, в октябре 1865 года, он пишет удивительную статью о религии, в которой утверждается, что религия не есть потребность человеческой души, как таковой, а есть только «произведение человеческого ума, отвечающая на известную склонность» некоторых людей иногда задавать себе главные вопросы своей жизни. В противовес этим «верующим», которые всегда испытывают «темное чувство сомнения», люди неверующие честны перед собой и «взамен успокоительных ответов» обладают «гордым сознанием того, что человек сам себя не обманывает».
Вспоминая эту пору своей жизни, 80-летний Толстой говорил, что он тогда «был глуп до невозможности».[286]286
Гусев Н.Н. Т. II. С. 646.
[Закрыть]
В «середине жизни», в 35–77 лет для личностно рожденного человека наступает ответственный момент – первая критическая точка Пути восхождения, где решается участь его Путепрохождения до второй критической точки лет в пятьдесят. Удачно прошедшему первую критическую точку разрешен подъем Пробуждения (в 40–42 года) и далее уготованы благодатные годы на плато Пути. В первой критической точке Толстой явно изменил своему эденскому существу и, казалось бы, должен сорвать свой Путь восхождения. Но это определяет не человек и не по понятиям человеческим. В каком состоянии души оказался человек при прохождении критической точки – пусть и в глубоком душевном обмороке – может иметь, а может и не иметь решающего значения. Само по себе это состояние проходящее. Срыв Пути зависит от чего-то другого, определяемого тем эденским существом, которому предстоит взрастать в человеке.
Определяя себя в эти годы, Толстой не раз говорил, что это «была только эгоистическая жизнь» (34.347). Если это и верно, то с существенной оговоркой. В первые годы работы над «Войной и миром», пишет Н.Н. Гусев,[287]287
Там же. С. 649.
[Закрыть] Толстому «удавалось отгонять все мучавшие его ранее сомнения и колебания в разрешении главных вопросов жизни и современной ему действительности. Его умственные силы направились по одному единственно открытому для него руслу: они целиком уходили на художественную деятельность». В «эгоистической жизни» середины 60-х годов в Толстом безраздельно господствует Гений. Его душевное спокойствие не душевная подлость, так как оно возникло не ради животной личности или самости, а нужно было Толстому для свободной работы Гения в себе. Примечательно, что в 1866–1867 годах на Пути Толстого не обнаруживается «остановка жизни», которая должна быть при переходе к подъему Пробуждения. Ее проглотил его Гений. «Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна» (48.116). Это сказано в конце 1866 года, на 39-м году жизни.
Экспромтом женившись, Толстой, вынужденный бороться за «свою жизнь», на непродолжительное время загнал сам себя в ненормативную низину Пути жизни. Толстого, как это уже бывало в его метафизической биографии, выручил его Гений.[288]288
Можно сказать и иначе. В каком-то парадоксальном смысле люди обязаны безответственной женитьбе Льва Николаевича тем, что имеют возможность получать духовное наслаждение от чтения великой книги Льва Толстого.
[Закрыть]
В начале 80-х годов Тургенев в известном письме к Толстому утверждал, что художественное творчество проистекает из того же источника, что религиозная и нравственная жизнь. И был не прав. Мы уже говорили, что художественный (и любой другой) Гений вовсе не оттуда, откуда эденское существо, не из Эдена и не откуда психофизиологическая личность человека, а из другого источника. Жизнь Гения до определенного путевого предела – это резервная духовная жизнь. Такова она была для Толстого на четвертом и пятом десятке его жизни. Культурно-интеллектуальная работа в эти годы совершенно законна и восхождению на Пути не мешает. Переключение центра тяжести души на работу Гения эденское существо, видимо, не воспринимает (во всяком случае, в определенное время жизни) как признак путевой ненадежности того человеческого лона, в котором оно обитает. Именно поэтому на Пути Толстого вслед за душевным обмороком в «середине жизни» последовал мощнейший подъем Пробуждения, – потому, быть может, и мощнейший, что ему ассистировал Гений.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































