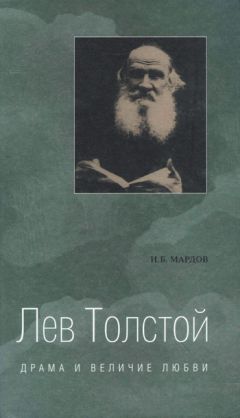
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)
Не каждый гениальный человек знает перед собой такую задачу, хотя она, видимо, всегда поставлена и поставлена свыше. Но и тот, кто знает и желает, далеко не всегда способен выполнить ее. Тогда это духовная драма, духовная драма гениального человека. Гений, предоставленный самому себе, либо сразу же покидает душу, либо начинает мучить и разрушать человека, в которого он с особо серьезной целью вселился, а потом покидает. Гений Толстого никогда бы не смог оставить его, хотя бы потому, что он научился держать его на поводке.
Прежде чем завладеть исполняющей волей (как это произошло через пятнадцать лет, на подъеме духовного рождения) эденское существо сорокалетнего Толстого на подъеме Пробуждения вполне завладело его Гением. Иногда оно давала Гению волю жить, играть, являть себя так, как ему хотелось. Иногда Гений принуждался жить и являть себя так, как в данный момент нужно было эденскому существу. Но единожды Толстой самовольно попытался заставить свой Гений делать то, что делать Гению в нем уже не было свойственно. И потерпел неудачу.
16(40)
На самом пике подъема Пробуждения, в разгар трудов по «Войне и миру», в 1868 году сорокалетний Толстой, как записала в дневнике Софья Андреевна, задумывает «книгу для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки», и таким способом намеревается продолжить прерванную педагогическую деятельность. В следующем году он замышляет нечто совсем удивительное: роман из современной жизни, герои которого повторяют характерные черты русских богатырей от Ильи Муромца до Миколушки-мужика. Можно ли придумать более яркое и явное произведение о русской Общей душе?… Сразу же после завершения «Войны и мира» Толстой готовится к работе над романом из эпохи Петра и даже написал начало романа. Потом «вдруг» взялся за изучение греческого языка.
Энергия подъема Пробуждения иссякла в нем к середине 1871 года. В очередной раз начался процесс перехода с личной духовной жизни на общедуховную. Процесс этот, как всегда в нем, ознаменовался и болезнями, и общей подавленностью, и ожиданием близкой смерти.[202]202
Во избежание недоразумений важно отметить, что «арзамасский ужас» к этому отношения не имеет. Толстой испытал его за год до того, на подъеме духовной жизни.
[Закрыть] В июне Толстой писал Фету, что он «был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря по тому, как называть конец. Упадок сил, и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет». Толстой переживал момент «остановки жизни», такой же, что и девять лет назад. И как и тогда он отправился в башкирские степи пить кумыс и даже остановился в той же, что тогда, деревне. «На все смотрю, как мертвый, – пишет он отсюда жене, – то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть; понимаю, соображаю, но не вижу насквозь, с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, – хочется плакать». Это состояние прошло к осени 1871 года, когда ударение сознания вполне переключилось на общедушевную жизнь. Лев Николаевич активно взялся за «Азбуку» и книги для детского чтения. Работа шла хорошо. В январе следующего 1872 года возобновились и школьные занятия с крестьянскими детьми. Тогда же он стал членом-учредителем предполагаемого «Общества любителей русского народного пения».
Работа над «Азбукой» продолжалась без перерыва около года и сразу же по завершении ее Толстой в феврале 1872 года с радостью взялся за роман о Петре Первом. Он называет его своим «задушевным сочинением» (61.271), «большой вещью», «о которой я давно мечтаю» (61.323).
Еще два года назад, при первом приступе к роману о Петре, Толстой среди прочего читал капитальный труд С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». Из чтения этой книги само собой выходило, что «рядом безобразий совершалась история России». Лет через двадцать Толстой согласился бы с этим, но тогда он думал иначе. С.М. Соловьев ненамеренно создает ложное впечатление, решает он, и создает потому, что у историков нет и быть не может данных о народной жизни, необходимых для всеохватывающего описания. Историки опираются на «памятники-вехи», между которыми волей-неволей им приходится протягивать «воздушные, воображаемые линии». Задача историка сделать так, «чтобы все было ровно и гладко и чтобы никто не заметил, что под этой гладью ничего нет». Поэтому место истории-науки должна занять история-искусство, «которая не имеет той связанности и невыполнимой цели, которую имеет история-наука. История-искусство, как и всякое искусство, идет не вширь, а вглубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке» (48.126).
Толстой возвещает не «правду жизни», не «правду науки» истории и не «правду искусства», а правду истории через искусство. Создать образец истории-искусства и создать, разумеется, толстовскими художественными средствами – одна из сверхзадач романа о Петре Первом. Другая сверхзадача выражена в словах письма к Н.Н.Страхову от 17 декабря 1872 года: «Весь узел русской жизни сидит тут». Эпоха Петра для Толстого – это время, когда завязался узел для дальнейшего развития русского народа и его Общей души. «Петр, т. е. время Петра, – разъясняет себе Толстой, – сделало великое, необходимое дело» – открыло «путь к орудиям европейской цивилизации». Иное дело, что орудиями этими следовало пользоваться «для развития своей цивилизации. Это и делает народ. Во времена Петра сила и истина были на стороне преобразователей, а защитники старины были пена, мираж». Век же спустя – наоборот: «защитники русского – истина и сила, а западники – пена старого, бывшего движения» (48.123). Своим искусством Толстой намерен был раскрыть силу и истину преобразователей петровского времени и его самого. Видимо, он рассчитывал и на то, что верное изображение переломной исторической эпохи позволит увидеть в ней – как бы со стороны – нечто важное в самой по себе русской Общей душе. Гению как духовному существу, настроенному на такое дело, надобна установка.
«Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И это правители – несчастные, долженствующиеся отречься от всего человеческого» (48.124). Однако исторически, объективно, они выполняют свою общедушевную миссию. Сам царь Петр для Толстого «был орудием своего времени, ему самому было мучительно, но он судьбою был назначен вести Россию в сношения с европейским миром». Изначально Толстой был вполне лоялен не только к деятельности Петра, но и сочувственно постигал его самого. «Любопытство страстное в пороке, преступлении, чудесах цивилизации. До чего могут дойти? Материально только… Роковое – это страсть изведать все до пределов. Бес ломает… Анатомировать, операции, зубы дергать. Щекотать, заставлять делать противное» (17.437). Толстой в восторге от толкований Декалога Моисея, сделанных Петром I под конец жизни: «Объяснение заповедей гениальное» (17.391). Вызывает у него уважение и Меншиков – «чисто русский и сильный характер, только такой мог быть из мужиков».[203]203
Записные книжки Софьи Андреевны. Цит. по: Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. Т. III. М., 1963. С. 8.
[Закрыть] Прошел год усиленной работы над романом. Гостивший 18 и 19 февраля 1873 года в Ясной Поляне Страхов обнаружил, что Толстого постигает творческая неудача. «Всею душою желаю, чтобы пошла наконец Ваша работа, которая так глубоко и серьезно Вас занимает (как я люблю эти Ваши волнения, и как они меня самого волнуют!), – пишет Страхов Толстому через месяц, 15 марта 1873 года. – Но помните, Лев Николаевич, что, если Вы и ничего не напишете, Вы все-таки останетесь творцом самого оригинального и самого глубокого произведения русской литературы. Когда русского царства не будет, новые народы будут по «Войне и миру» изучать, что за народ были русские».
Вполне может быть, что одна из сверхзадач Толстого состояла в том, чтобы на века дать миру понять, «что за народ были русские» в момент взрыва их исторического существования. Замысел не удался. Отчего?
Одному собеседнику Толстой говорил потом, что царь Петр был от него очень далек, другому, что ему было «трудно уловить дух того времени по отдаленности эпохи», третьему, что ему – Льву Толстому! – воображения не хватило, что он, досконально изучив тот век, все же «не мог в своем воображении восстановить обыденную жизнь в ту эпоху русских людей, народа, общества, двора и пр.». Вряд ли это достоверно; тогда и правда истории через искусство невозможна, и исторический роман незаконен в литературе.
В середине 60-х годов у Толстого возник замысел романа о Павле I, в котором он, по его словам, «нашел своего исторического героя». Лет через пять он «нашел своего исторического героя» в Петре I. Но, вникая и вникая в образ первого русского императора, Толстой понял, что, как он говорил своему шурину С.А. Берсу, «личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные». Толстого не могла не поразить несусветная жестокость Петра, его нарочитая умопомрачительная кощунственность и его страсть к глумлению.[204]204
Особенно возмущала Толстого история гибели царевича Алексея. «26 июня 1718 умер Алексей. 27-го празднование Полтавской битвы. Веселье. 29 – воскресение, именины и спуск корабля и пьянство до двух ночи. 30-го похоронен» (17.430)
[Закрыть] Конечно, он и раньше знал об этом, но полагал, что Петр исполнял исторический заказ и «ему самому было мучительно». Теперь Толстой увидел убогость личного внутреннего мотива всех нововведений Петра.[205]205
Так, по мнению Толстого, Петербург был основан для того, чтобы Петр, удалившись, был свободнее в своей безнравственной жизни.
[Закрыть] Гений Петра был поставлен на службу не нации и ее Общей душе, а всевозможным его похотям, и прежде всего его похоти власти. Каков бы ни был исторический результат петровских реформ, сам Петр преследовал низменные индивидуальные цели и ничего иного.[206]206
В записной книжке более позднего времени есть интересная запись Толстого о человеке толпы: «Если он говорит, что желает чего-нибудь для блага общего, поищи, зачем ему этого хочется, и поймешь» (48.323).
[Закрыть] И через четверть века Толстой с отвращением упоминал о «зверски жестоком пьяном Петре, ругающемся со своей пьяной компанией над всем, что свято людям» (36.169). Толстовский метод художественного милосердия в изображении такого лица не работал. Петра и людей его окружения Толстой стал воспринимать как нечто неправдоподобное. И через много лет объяснял Г.А. Русанову: «…мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас».
Нам же, читателям, нелегко поверить в творческое бессилие Льва Толстого. Тем более, что через семь лет Толстой приступит к другому огромному роману из петровской (а то и более ранней) эпохи, вовсе не считая, что у него не хватит воображения вникнуть в людей шестнадцатого – семнадцатого веков. Во всяком случае в личность Аввакума он вошел вполне свободно.
Толстой утверждал, что тогда, в начале 1873 года вся петровская эпоха «сделалась ему несимпатичной». Пусть так. Хотя и много лет спустя он считал, что «какое бы оно (время Петра I. – И.М.) ни было, в нем начало всего» (61.291).[207]207
В томе 61 ПСС, как обнаружил Н.Н. Гусев, ошибочно проставлен год письма к А.А. Толстой от 5 июня 1879 года, из которого мы приводим эту цитату.
[Закрыть] Пусть писатель понял, что ошибся в выборе героя и темы. Но почему же на осознание своей ошибки Льву Толстому потребовался целый год гигантских творческих усилий? И какой год! 44-летний Толстой, вступив на плато Пути, жил в благословенную пору равновесия всех сил души, ровного и глубокого течения внутренней жизни, в лучшее время для творчества. И тем не менее Лев Николаевич приступал писать роман по меньшей мере тридцать три раза и ни разу не продвинулся дальше начала.[208]208
Один из вариантов начала отчетливо напоминает начало известного романа А.Н. Толстого о Петре I.
[Закрыть] Это огромный материал, занявший большую часть 17-го тома юбилейного издания. Гений Толстого на полных оборотах пробуксовал целый год. И все без толку. Стопор какой-то. Что за напасть нашла не него?
В «Войне и мире», как и во всех других законченных произведениях, Толстой прежде всего ставил перед собой личнодуховные задачи. История народа в «Войне и мире» увидена с откровенно субъективной точки зрения – если, конечно, взгляд эденского существа в человеке можно назвать «субъективным». В романе о Петре задача другая: историческая и общедушевная. Такова была принципиальная установка автора. Толстой занимает здесь не личную позицию, связанную с давлением свободной воли эденского существа, а своего рода объективную историческую позицию, дающую, на его тогдашней взгляд, возможность голосом истории-искусства неискаженно говорить самой Истории о себе. Это единственный случай, когда Толстой как бы разъял эденское существо и Гения и вознамерился услать последнего на дальний промысел – поработать на Историю, дабы послужить Общей душе как таковой. Но Гений его, как не мучился Толстой с ним, отказывался трудиться. Толстой не так пользовал его. Видимо, для каких-то высших целей симбиоз Гения и эденского существа в Толстом не только не должен быть нарушен, но и не ослаблен. Разумеется, Гений Толстого мог работать на Общую душу, но не иначе, как вместе с его эденским существом.
Как только Толстой в муках расстался с замыслом романа из эпохи Петра, так он не медля, буквально в ту же неделю, с радостью и облегчением взялся за «Анну Каренину» – роман, по большей части обращенный к личной душевной и лично духовной жизни.
17(41)
Каждое эденское существо нацелено на свою конечную точку дистанции Пути. Одно только издалека показалось высшей душе при душевном рождении и не вошло в нее, когда наступила пора личностного рождения. Другое спустилось в человека при личностном рождении, помогло ему обрести себя и свое и далее предоставило его самому себе. Третье одолело подъем Пробуждения и, словно выполнив свою миссию, встало на Пути. Происходит это, быть может, потому, что эденское существо способно не единожды пускаться в навигацию земной жизни; и каждая последующая его навигация имеет некую путевую точку, с которой начинается та задача, для исполнения которой это эденское существо выпущено в человеческую жизнь.
Толстой легко и незаметно (даже для самого себя) прошел личностное рождение, столь же свободно преодолел крутой подъем Пробуждения, о котором следует сказать несколько слов. В моменты прозрений на подъеме Пробуждения человек видит и постигает то, что было недоступно ему прежде. Темное и светлое откровение могут служить указателем задания, которое получило эденское существо, и цели, к которому оно стремится. Но только в том случае, если содержание и того и другого откровения относится либо к области общедуховной, либо к области личнодуховной жизни. Но бывает и не так. Темное откровение Толстого – откровение темного ОНО, откровение Власти и подвластности – несомненно общедуховное, светлое же откровение Толстого – откровение Птицы Небесной – внеобщедушевное откровение бессмертия, достижимое на вершинах личной духовной жизни.
Эденское существо Толстого не получило однозначного задания на подъеме Пробуждения; ему, видимо, была дана возможность свободно определиться после него.
Подъем духовного рождения – самый тяжелый и продолжительный на Пути жизни. Мы знаем, как тяжело преодолевал его Лев Толстой. Подъем духовного рождения и есть, видимо, то место Пути восхождения, где Толстой сам, по своей духовной силе сначала решал к какой духовной вершине ему идти и на котором затем его эденское существо должно было свершить то, что ему назначено.
Подъем духовного рождения возник со знакомой по «Исповеди» остановки жизни. «Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее» (23.12). Но эта остановка жизни, в отличие от прежних, несет на Пути особый смысл.
Впоследствии Толстой много раз возвращался мыслью к тому времени. Иногда его можно понять так, что в нем сразу же после указанной остановки жизни произошло духовное рождение. Это не верное впечатление. После подъема Пробуждения центр тяжести всей жизни прочно водворяется на высшей душе человека. При путевом духовном рождении этот центр тяжести переносится на эденское существо высшей души человека, и это вызывает в нем нечто вроде отвращения к себе. Не столько за свои пороки, грязь, эгоизм, не по стыду за прошлые мерзости, не в преддверии очищения себя, а в преддверии отречения от «самости».
В момент прозрения, озарения истиной душа пребывает в сознании душевного восторга, но на прозрение это заявляет права самость, высунувшаяся откуда-то и сразу же, одним своим присутствием лишающая душу духовного наслаждения. Так, разумеется, бывает всегда, во всех чистых, высоких, духонаполненных состояниях. Самость, которая тщеславится, обижается, влюбляется, выкручивается, боится, этот крошечный, в любой момент готовый лопнуть пузырек земной жизни, внутри которого человек живет с младенчества, вдруг начинает мешать ему, заслонять только что появившийся неземной Свет. На подъеме духовного рождения человек пытается отделаться от него, позабыть его, но еще не может и тогда начинает ненавидеть свою самость, за всегдашнюю ее настырность в себе, из-за которой не видно Света. Хочешь отречения от самости и молишь об этом. Она лишает блага.
Всё это навеки обрисовано Толстым в «Исповеди». Процесс духовного рождения мужчины начинается с отречения от самостности и сопровождается родовыми муками «личности», которое заполняет своими тщетными страданиями всего человека, не давая ему духовно видеть и дышать. Самость, погибая, захлебывается собою, и центр тяжести жизни в акте самоосвобождения и самоотречения в итоге перемещается в эденское существо. С акта духовного рождения эденское существо обретает «Я» человека, выставляет на себе ударение сознания и становится тем, кого Толстой называл «духовным Я» или «отцом». При этом назначающая воля высшей души из «своей» становится «моей и твоей» и подлинно правит волей исполняющей.
С началом подъема духовного рождения процесс духовного рождения только начитается. В эту пору, как об этом говорил и сам Толстой, человек (и не только путевой человек) определяет вектор всей дальнейшей внутренней жизни. В путевом же человеке, вышедшем на старт непосредственного восхождения к духовному рождению, окончательно выбирается направление его дальнейшей духовной жизни. Пятидесятилетие – одна из «критических точек» на Пути, вторая его «критическая точка». Решение в ней принимается не только свободной волей человека, и не только эденским существом, но тем, кто послал эденское существо с определенной задачей в навигацию человеческой жизни. Иными словами, во второй критической точке подтверждается, корректируется и окончательно устанавливается должный результат всей духовной работы эденского существа в человеке. Как же в ней решалась духовная жизнь пятидесятилетнего Льва Толстого?
Подъем духовной жизни Левина начался со встречи с «правдивым стариком» мужиком Федором, который жил по правде-совести. Поиски этой правды-совести и привели Левина в Церковь; ему казалось, что «под каждое верование Церкви могло быть поставлено верование в служение правде вместо нужд».
Летом 1877 года Толстой каждый день становится на молитву, рано утром ездит к заутрене, пешком ходит к обедне, по средам и пятницам ест только постное, посещает в Оптиной пустыни отца Амвросия, которого называет «удивительным человеком», устраивает в Ясной Поляне двухгодичную «учительскую семинарию» на шесть зимних месяцев, «университет в лаптях», с полусотней слушателей.[209]209
Пришло только 12 человек, и потому замысел не осуществился.
[Закрыть]
«Если бы я был один, я бы не был монахом, – сообщает он Страхову в ноябре 1877 года, – а был бы юродивым – т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому зла». В эти месяцы создается «Христианский катехизис», где говорится о «вселенской церкви», которая составляется из всех верующих в добро, без различия вероисповедания. «Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах всех людей и на всей земле и выражающуюся в знании добра моего и всех людей и в жизни людской» (17.363).
В марте 1878 года Толстой каждое утро навещает всю жизнь преданно церковно верующую А.А. Толстую. Она свидетельствует: «После многих лет искания истины, он наконец у пристани. Эта пристань, конечно, построена им по-своему…» Эта – пристань «вселенской Церкви», но она же и пристань Церкви православной. Толстой объяснял, что последняя была необходима ему для духовного сближения со своими предками и единения со своим народом. Мотив единения с народом движет Толстым столь же властно, что и мотив служения правде-совести. Поэтому и известный по «Исповеди» эпизод с причастием, хотя и произвел на Толстого сильное впечатление, но заметно не повлиял на его отношение к православию.
Эпизод этот произошел в апреле 1878-го. «Но когда я пошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резануло по сердцу». Смущенному этими словами читателю хорошо бы понять, что Толстой взглянул на таинство причастия со свойственной ему личнодуховной точки зрения и потому ощутил то, что с общедуховной конфессиональной позиции не ощущается. Носитель совести и милосердия в нем, его эденское существо содрогнулось, но не только от «фальшивой ноты» священника, а от жестокости требования съедать тело и пить кровь кого бы то ни было. Тот, кто установил это «жестокое требование», определил Толстой, «очевидно, никогда не знал, что такое вера». Впрочем, Толстой тогда никому не рассказал о своем переживании причастия. Он весь был наполнен милосердием ко всему на свете. Милосердие – главная черта его духовной жизни того времени.
В январе 1878 года начат роман «Декабристы». Задача: «Смотреть на историю 14-го декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать».[210]210
Из дневника Софьи Андреевны.
[Закрыть] Художественное милосердие становится в «Декабристах» высшим религиозно-художественным принципом. «Я хочу показать, – разъяснял он А.А.Толстой, – что в деле декабристов никто не был виноват – ни заговорщики, ни власти». В новом романе Толстой решает дать своему Гению возможность развернуться и показать все, на что он способен, и на созданным им огромном творческом полотне вполне явить религиозное сознание своего эденского существа на подъеме духовного рождения.[211]211
Надо сказать, что сохранить позицию художественного милосердия на этом материале было не так-то просто. В июне 1878 года Толстому по секрету доставляют записку Николая I о том, как провести казнь; этот план «утонченного убийства» возмутил совесть Толстого.
[Закрыть]
Надо отметить, что весь 1878 год на Толстого ни с того ни с сего накатывали состояния упадка сил, унылости, ощущения убитости духа. Что предвещали ему эти остановки жизни? Как обычно в таких случаях он в июне уехал в Самару на кумыс, в августе возвратился обратно и почувствовав себя «очень бодро, особенно духовно» (62.434).
Вполне Толстой включился в работу через три месяца, в ноябре 1878 года. А еще через два месяца, в начале января 1879 года – новый поворот. Именно с этой минуты Толстой стал мечтать о том, чтобы закончить жизнь бездомным странником. Его захватил образ знатного человека, уходящего из дома ради того, чтобы раствориться в народе. Образ этот затем преследовал его всю жизнь и чуть было не реализовался в 1905 году в «Посмертных записках старца Федора Кузмича».
В «Исповеди» Толстой упоминает о своей «странной физической любви к народу». С юности он душою и телом стремился слиться с ним. Духовный подъем последних месяцев 1878 года совершил в его высшей душе нечто фундаментальное. Это не было очередное переключение с лично духовной на общедуховную жизнь. Лев Толстой во второй критической точке Пути должен был решить направление развития своей дальнейшей духовной жизни. И, как это ни странно, он не выбрал восхождение эденского существа к вершинам личной духовной жизни самой по себе. Не выбрал он и путь внедрения общедуховной стороны своей высшей души к своему общедушевному Сару. Толстой метафизически внедрял всего себя – и своего Гения, и свое эденское существо – в лоно общедуховности, отдавал свою личную духовную жизнь русской Общей душе. К этому он шел всю свою жизнь. Теперь его эденское существо приводилось к семье Саров русской Общей души и помещалось в недрах общедуховности вместе с ними. Так Толстой в 50 лет решил направление течения своей духовной жизни. В этом смысл фразы, написанной им в одном из писем того месяца: «Дело, которое занимает меня (то есть разработка образа растворяющегося в народе человека. – И.М.), для меня теперь почти так же важно, как моя жизнь».[212]212
Гусев Н.Н. Т. III. С. 528.
[Закрыть]
Уже в январе 1879 года Толстой приступил к новому произведению, содержание которого соответствовало выбранному направлению его духовной жизни, и вскоре совершенно прекратил работать над «Декабристами». О замысле и построении эпопеи «Сто лет», пришедшей на смену «Декабристам», мы уже подробно рассказывали.[213]213
Во Вступлении моей книги «Лев Толстой. На вершинах жизни» (М., 2003).
[Закрыть] И в «Сто лет» Толстой не намеривался «судить людей» в их борьбе. Но тема его – не та борьба людей между собой, при описании которой действенен метод художественного милосердия. Это борьба духовных сущностей в человеке и в Общей душе. «И об этой борьбе между похотью и совестью отдельных лиц и всего народа я хочу написать то, что я знаю» (17.229).
Во внутреннем мире зрелого путевого человека такая борьба идет между его эденским существом и его животной личностью. Такую же борьбу в Общей душе народа ведет Сар. Толстой становится исследователем духовной битвы в русской Общей души за истекшее столетие. На эту битву он смотрит с точки зрения своего эденского существа, погруженного в общедушевную и общедуховную жизнь. На творческом поле, создаваемым Гением Толстого, эденское существо его высшей души выступает в роли Сара русской Общей души особого рода – Сара Совести [214]214
Кредо Толстого этого времени – это кредо совести: «Я желал бы как можно поменьше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей; и думаю, так легче не ошибиться» (62.494).
[Закрыть]. Его носитель – простой русский крестьянин, и особенно крестьянка,[215]215
Заметим впрок, что женщина «Сна» – простонародная женщина. Видение Сара Совести первоначально возникло у Толстого в бестелесном образе простой русской женщины.
[Закрыть] описание души и жизни которой вызывает такое восхищение и сочувствие, как никогда раньше у Толстого. Все происходящее в «Сто лет» предполагалось рассматривать с точки зрения мужика. Сохранившиеся страницы этой эпопеи и написаны языком, который был бы понятен и близок ему.
Пришла весна 1879 года. Чуть ли ни каждый день Толстой на киевском шоссе, со странниками, паломниками, просто прохожими. Постоянные разговоры с ними много значили для Льва Николаевича. Лучший знаток жизни Толстого Н.Н. Гусев пишет, что «религиозное настроение паломников вполне гармонировало с настроением Толстого, который переживал тогда такой подъем религиозного чувства, до которого он, быть может, уже не доходил во всю свою дальнейшую жизнь». Принятое в глубинах души решение о внедрении эденского существа на новое место, в общедуховность, приводилось в действие. Перед нами ближайший результат его. Эденское существо Толстого полнокровно зажило в общедушевной и общедуховной жизни. Чего стоят его капитальные занятия русским народным языком – носителем общедушевной культуры и мудрости. Толстой, писал Страхов, «бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским». Надо ли говорить, что в это время Толстой твердо верит в истинность православной церкви.
В середине июня 1879 года Толстой поехал в Киев и посещал местных архиереев. Они произвели на него совсем не то впечатление, что старец Амвросий два года назад. Толстой имел вид приказчика и ни прозорливец-схимник, ни знаменитый старец не разглядели в нем значительного человека и отказались беседовать с ним. Тут он узнал о том, что мощи святых набиваются соломой, подделываются. Возмущение Толстого вызвал не примитивный обман ради поощрения веры, не кощунственность в благих целях, а бессовестность тех, кто приказал делать это. Видимо, с этого момента Толстой стал «разворачивать сам себя» (62.492), но не против Веры Церкви, а против ее иерархов.
В августе 1879-го Толстой в «удивительном духе», «в самом расцвете своих сил», как писал друзьям Страхов. Он ходит в церковь, соблюдает посты. И, видимо, внутренне ощущает себя полноправным церковным деятелем современной действительности. И в таком качестве у него возникают сомнения, сомнения его воцерковленного эденского существа, сомнения его совести. Все они вызваны событиями текущей общественной и государственной жизни. Это и вопрос об отношении Церкви к войне, и вопрос об отношении Церкви к смертной казни, и вопрос о духовной власти, возникающий в связи с нетерпимостью Церкви к другим христианским конфессиям. По всем этим мучившим его вопросам совести [216]216
Вопросы совести по самой природе совести не возникать не могут. Но с точки зрения церковных иерархов такие вопросы есть несомненный признак гордыни, в которой Церковь вот как век официально обвиняет Льва Толстого. Любые сомнения или несогласия, глядя с такой позиции, могут возникнуть лишь у того, кто вздумал возомнить себя умнее и правдивее самой, установленной Господом Церкви и людей, законно властвующих в ней.
[Закрыть] Толстой в октябре решил побеседовать в Москве с высшими иерархами. Беседовал Толстой с московским митрополитом, с викарным архиереем, с наместником Троице-Сергиевой лавры. «Все трое прекрасные люди и умные, но я больше еще укрепился в своем убеждении» (62.499) – т. е. в неправильной позиции Церкви по вставшим перед ним вопросам совести.
Страхов разъяснял Толстому, почему архиереи не могли дать ответ на его вопросы: «Они не признают за собой право решать вопросы, а умеют только все путать, все сглаживать, ничему не давать ясной и отчетливой формы, много говорить и ничего определенного не сказать». После беседы с иерархами, которые не помогли и, как Толстой понял, не могли помочь ему, он решил сам «дойти до корня» в догматическом и нравственном учении Церкви. Он пишет так и не получившее название (и доселе неопубликованное) сочинение религиозного содержания, в котором есть и мотивы «Исповеди», и критика богословской веры и «Соединения и перевода четырех Евангелий» и разбор «Катехизиса» Филарета. В этом сочинении дается убийственная характеристика Церкви. «Церковь – все это слово – есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими. И другой нет и не может быть Церкви».
За несколько месяцев Толстой резко развернулся против Церкви. В другой книге мы объяснили это неприятием Толстым духовной Власти как таковой. Неприятие духовной Власти – свойство личной духовной жизни самой по себе. В общении с людьми духовной власти эденское существо Толстого возмутилось и отвергло похоть властвования и бессовестность властвующих.
Всего через полтора месяца, в начале декабря 1879 года, Толстой беседует на те же темы с тульским архиереем и ставит перед ним свои вопросы. Тот рекомендует ему обратиться к тульскому ученому богослову, который, в свою очередь, посоветовал ему обстоятельно ознакомиться с наиболее тогда авторитетным «Православным догматическим богословием» митрополита Макария и «Догматическим богословием» Филарета Черниговского. Толстой тотчас нашел книги и сел штудировать их. «Если бы мне рассказали то, что я там нашел, я бы не поверил» (63.13), – пишет он по прочтении этих книг.
«Я читывал так называемые кощунственные сочинения Вольтера, Юма, но никогда я не испытывал того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытал относительно составителей катехизисов и богословия… И я понял наконец, что всё это вероучение, то, в котором мне казалось тогда, что выражается вера народа, что все это не только ложь, но сложившийся веками обман людей неверующих, имеющих определенную и низменную цель» (23.62).
Русский народ обманут. Его надо спасать от «обмана людей неверующих».
«В исповедании веры, – пишет Толстой в первой своей антицерковной работе, – я нашел ложь хуже, чем я ждал, – яркую, режущую глаза ложь. Но вера в эту ложь – вот чудо… Чудо, совершающееся на наших глазах. Бессмысленно так, что петух не стал бы верить, а верят…» Можно ли спасать тех, которые верят в то, во что, казалось бы, невозможно верить?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































