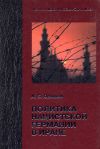Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 5"
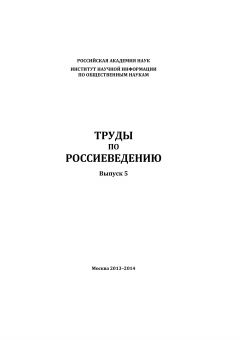
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
К столетию Первой мировой войны
Еще один камень в фундамент российской идентичности: вспоминая «забытую» войну 212212
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 13-01-00061.
[Закрыть]
И.И. ГЛЕБОВА
«Забытая война» – так все чаще стали у нас определять последнюю войну Российской империи 1914–1918 гг. в преддверие ее столетнего юбилея. В народе ее называли сначала «германской», потом – «империалистической», а с разворачиванием военного конфликта 1939–1945 гг. она получила имя Первой мировой. Все эти определения верны: они точно указывают, как в разные времена воспринималась у нас та война. Для нынешних россиян Первая мировая – «забытая», «чужая» война. Ее как бы нет в национальной памяти, она не является чем-то важным, тем более установочным для нации.
О глоризации и репрессировании памяти
Для Европы война 1914–1918 гг. стала Великой, конечно, прежде всего для французов и англичан; немцы воспринимали (и воспринимают) ее по-другому. Однако в целом та война превратилась в одно из главных оснований европейских самоопределения и самопонимания. То, что Первая мировая – величайшее событие мировой истории, по существу открывшее ХХ в., – так по-разному вошла в память европейского и российского обществ, имеет свое объяснение.
Великой в памяти европейцев война 1914–1918 гг. стала потому, что во многом сформировала современную Европу – ее устройство (политическое, социальное и проч.), ее проблемы, ее культуру. По существу, из войны 1914–1918 гг. вышел современный европеец. К тому же война задала Европе вполне очевидную перспективу: не случайно Вторую мировую многие воспринимали как непосредственное продолжение Первой.
Повторим: у нас это не так. Мы, если так можно выразиться, лишили себя многих последствий мировой войны. Они не сыграли в русской истории (и для русской истории) никакой роли. «Забытая» война, к примеру, не произвела необходимого, как мы это теперь понимаем, «продукта». А вот на Америку и Европу оказала существенное влияние – причем, как на победителей, так и на поверженных.
Речь идет о культурной и мировоззренческой роли «потерянного поколения». Чтобы далеко не ходить за примерами, сошлемся на прозу Хэменгуэя, Ремарка, Олдингтона, Арагона и др. Если угодно, это поколение «произвело» модальный тип личности западной цивилизации 1920-х годов. Эти люди создали принципиально новую литературу и философию (экзистенциализм, персонализм). И эта литература, и эта философия на протяжении всего ХХ столетия оказывали (наверное, оказывают и поныне) сильнейшее воздействие на формирование европейского человека.
К нам это пришло лишь в 60-е годы прошлого века – но именно пришло: из Европы и Америки. Отсутствие подобного доморощенного опыта сильно обеднило и нашу культуру, и русскую личность. И даже такая талантливая генерация отечественных литераторов, как аксеновская, в полной мере не сумела восполнить этот пробел. При всем уважении к этой линии шестидесятничества признаем, что это была (в значительной мере) поздняя реплика западного опыта.
Можно сказать, что современная Европа вышла из Первой мировой войны. Современная же Россия – из революции; точнее, серии революций 1917 г. и Гражданской войны, а также социального переворота 1930-х годов213213
Впрочем, и Россия вышла из Первой мировой – только в другом значении этого слова. Вышла, как выходят из поезда или трамвая на ходу, не дотерпев до остановки. Подобные выходы, как правило, заканчиваются трагедией.
[Закрыть]. Вполне понятные усталость от войны, напряженное ожидание ее окончания разрядились у нас в Февральской революции, по существу поставившей точку в той исторической драме. Февраль как бы подменил собой победу; точнее, общество, народ разменяли победу в войне на революцию.
Революции 1917 г. выбросили Россию из стана победителей; несостоявшиеся победители ушли в Гражданскую войну. С февраля 1917 г. главной темой для России стала сама Россия, страна переключилась на внутренние проблемы. Они перекрыли собой влияние войны – масштаб и воздействие событий 1917–1939 гг. оказались неизмеримо выше. Первая мировая забылась поэтому как-то очень естественно и быстро. Воспоминания о ней вытеснил невыносимо тяжелый, безысходно трагический постреволюционный опыт, в свете которого военные испытания уже не казались концом всего.
В деле забывания войны 1914–1918 гг. существенную роль сыграла и историческая политика Советского государства. В 1920–1930-х годах в Стране Советов культивировалась память о революции как начале новой исторической эры, о закономерной победе «красной России» в гражданской. Это было главным, определяющим – все остальное несущественно. В 1930-е годы вспоминать о мировой/империалистической в СССР и вовсе стало не принято, неловко, более того – опасно. Вот один частный эпизод – маленькая история, отражающая картину большого прошлого. В 1938 г. за вредительскую деятельность, участие в антисоветском военном заговоре был арестован и расстрелян А.И. Верховский, генерал-майор, военный министр в последнем кабинете А.Ф. Керенского, служивший во время Гражданской в Красной армии и с конца 1920-х преподававший в высших военных учебных заведениях214214
См. недавнюю публикацию фрагментов его военного дневника: Верховский А.И. Бессознательное чувство долга (Россия на Голгофе: Из походного дневника 1914–1918 гг.) // Стратегия России. – № 1. – М., 2014. – Янв. – С. 87–96.
[Закрыть]. Одним из «доказательств» его причастности к подготовке терактов против руководителей партии и правительства послужил найденный при обыске наградной пистолет, полученный Верховским в 1916 г. за отличия в боях с немцами.
Память о Первой мировой в нашей стране выбита, расстреляна; ликвидирован сам ее субъект. Герои, участники той войны были в массе своей репрессированы. Их опыт, вынесенный из мировой, оказался попросту брошен – не проработан, не осмыслен, не превращен в социальный факт. Воспоминания целого поколения участников войны остались в «тени» – как частные истории для частных людей. В лучшем случае они сохранились в семейной памяти, в большинстве своем растворились в советской жизни. Память о Первой мировой отчасти использовалась в 1920–1930-е годы – с военно-технологической точки зрения: на этом опыте в СССР готовились к новым войнам. В период поражений 1941–1942 гг. власть обратилась к истории прошлой большой войны для поддержания боевого духа, чтобы напомнить народу: бил немца русский солдат. В остальном войну 1914–1918 гг. в СССР предавали забвению, искажали. Советская власть попросту не дала этой памяти состояться.
Окончательно тему Первой мировой закрыла Победа 1945 г. Это был своего рода реванш за недавнюю (менее 30 лет прошло) военную «неудачу», пик нашего самоутверждения в истории. Русские почувствовали себя и главными революционерами, и главными победителями – вообще, главными деятелями ХХ в. Потому именно 1945 год окончательно сделал их советскими, смирил с советским. 9 мая 1945 г. – установочная для советского человека дата, сделавшая малосущественным весь прежний опыт. Советское в его сознании отчасти слилось с русским. При этом СССР культурно и ментально возобладал над «исторической» Россией, подчинил себе память о ней.
Как возвращаются воспоминания
Тот факт, что в современной России стали говорить о Первой мировой как о «забытой» войне, свидетельствует о стремлении вернуть ее в культурную память общества. И это тоже объяснимо. Возрождение памяти происходит на волне общего подъема интереса к военной истории. Ее двигатель – тема Победы в Великой Отечественной войне. Именно на этом событии строятся самопонимание и самоидентификация российского общества, в нем оно находит себе оправдание, источник жизненных сил.
Так сложилось, что в России каждое новое поколение конституируется через войну – память о прошлой великой Победе и ожидание будущего столкновения с внешним врагом. В XIX в. точкой отсчета была Отечественная 1812 г., в 1920–1930-е годы жили воспоминаниями о революции/Гражданской и предчувствием мировой. Послевоенные поколения самоопределялись через войны Отечественную и холодную. Новизна настоящего момента – в том, что у общества нет исторически близкой «своей» войны (афганская, чеченская и т.п. на эту роль не подходят), а также (хочется верить) реальной нацеленности на будущее военное противостояние. Поэтому основой нашего самоопределения может быть и является теперь только Отечественная215215
Показательно, что покорение/присоединение Крыма, да и вообще позиция России в украинском конфликте в пространстве массовой информации выстраивалась отчасти по «сценарию» Отечественной (патриотической и потому священной) войны.
[Закрыть]. Это наша Великая война – как Первая мировая для европейцев.
В определенном смысле война 1914–1918 гг. призвана составить в памяти россиян фон для Великой Отечественной – служить для нее резонатором, усиливая ее величие, ее победный блеск. Для нее самой это шанс на «улучшение»: подпитавшись энергетикой победной Отечественной, она может стать наконец для России «своей» войной. Сейчас для этого очень подходящий момент. Возрождением памяти о Первой мировой как бы восстанавливается связь не только двух глобальных войн ХХ в., но и советской истории – с дореволюционной. Через мировые войны, рассмотренные в основном в победно-парадной логике, можно протягивать связующие нити и дальше в прошлое: к Отечественной 1812 г., ко всем воспоминаниям о доблести и славе русского оружия, будящим в россиянах восторг и гордость за себя. Тем самым реализуется популярная в наши дни идея исторического синтеза, обеспечиваются целостность и непрерывность российской истории.
Правда, при таких реализации и обеспечении возникают разного рода казусы, исторические недоразумения. У нас, к примеру, до сих пор остается не выясненным вопрос: когда для России закончилась Первая мировая война? Сегодня вполне зримой стала тенденция назначить ее русским финалом Брестский мир. Это, собственно говоря, советская точка зрения, давно нам известная. Однако в новом историческом контексте и она становится неожиданно новой.
Теперь Первая мировая в нашей памяти – уже не империалистическая по преимуществу, а отчасти даже и Отечественная (кстати, так и называли ее в 1914 и 1915 гг. патриотически настроенные публицисты). Конечно, реабилитация войны 1914–1918 гг. (ее трактовка как очередного исторического подвига России) вступает в логическое противоречие с попыткой «завершить» ее Брестским миром, позорным и похабным (Ленин). Но в том-то все и дело, что такая комбинация совершенно соответствует нынешнему типу исторического самоопределения российской власти и ее идеологов. Этот тип сознания не боится никаких противоречий (в том числе и моральных). Ведь если бы правящий режим признал выход из войны и тот мир действительно позорным и похабным, то за этим неизбежно следовал бы ценностный пересмотр начального этапа существования советской власти (ее рождения и мужания). А за этим – и всего советского.
Тогда получается, что СССР вырос из беспрецедентной (как для нашего Отечества, так, наверное, и для всех стран мира) национальной измены. За то, чтобы сохранить свою власть и развязать Гражданскую войну, большевики не только пожертвовали огромными пространствами и многочисленным населением, но и перечеркнули жертвы и подвиг русского народа, действительно достойно сражавшегося на фронтах Первой мировой. Брестским миром они спасали не Россию, а свою революцию. За это их вождь, 90-летие смерти которого ознаменовалось (слабой и малозаметной, но все-таки) линией на реабилитацию216216
Ленин остается в близких запасниках общественной памяти как положительный символ связи революционного и государственного, партийного, советского. Ведь он не только вождь социальной революции, но и основатель Советского государства, создатель СССР. Для официальной памяти, отрицающей революцию и порицающей ее вождей (Владимира Ильича – и как немецкого шпиона), Ленин-государственник может быть полезен. Должен же кому-то наследовать Сталин.
[Закрыть], готов был сдать Петроград, отступить за Урал. Совсем как в 1812 г. Александр I – во имя спасения России (за готовность дойти аж до Тихого океана, но не сдаться врагу его насмешливо стали называть при дворе императором Камчатским).
Государство, неважно по каким причинам назвавшее себя правопреемником СССР, и общество, всеми своими нитями связанное с советским, восстанавливающее мемориальные доски Брежнева и Андропова и тоскующее по Сталину, никогда – в обозримое время – не признают ни факта этой национальной измены, ни преступности советского режима. Отсюда и непрямое, но совершенно очевидное оправдание Брестского мира. Надо сказать, даже отец этого мира Ленин относится к нему определеннее и прямее (по-своему, разумеется).
Первая мировая для России – не проигранная, а незавершенная война, причем обидно незавершенная: она должна была, но не успела окончиться победой. Что бы ни происходило, военные события 28 июля 1914 – 3 марта 1917 г. (ст. ст.) никогда не порождали необходимости капитуляции или переговоров типа брест-литовских. Враг не стоял под стенами столицы, не угрожал центральным великорусским губерниям, страна располагала боеспособной армией, тыл не изнемогал от непосильного труда, не голодал, не отдавал фронту последнего. В начале 1917 г. царская Россия – как и все державы, воевавшие против Германии, – была готова к победе (противники же Антанты, напротив, – к поражению). Это понимали руководство армии и ее верховный главнокомандующий – именно желанием победно завершить почти трехлетнюю военную эпопею во многом объяснялось отречение.
По существу, «слабый и безответственный» Николай II пытался разменять корону на победу, себя на Россию – об этом свидетельствует его последнее обращение к войскам217217
«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые войска… Нынешняя небывалая война должна быть доведена до полного поражения врагов. Кто думает теперь о мире и желает его – тот изменник своего Отечества, предатель его. Знаю, что каждый честный воин так понимает и так мыслит. Исполняйте ваш долг как до сих пор. Защищайте нашу великую Россию из всех сил. Слушайтесь ваших начальников. Всякое ослабление порядка службы только на руку врагу…». Как бы высокопарно это ни звучало, отречение было для Николая II жертвой, подводившей черту под его жизнью (видимо, не случайно после этого он много читал о русской Смуте и Французской революции). Ни современники, ни потомки жертву не оценили: считали и считают отречение проявлением слабости, малодушия, уходом от ответственности. Вину за падение империи, за революционный хаос вменяют последнему царю. В этом есть логика: в русской системе персонификатор отвечает за всё. Но нет правды – образ Николая II, впечатанный в массовое сознание с советских времен, так же мало соответствует истории, как наша память о Первой мировой.
[Закрыть]. Чтобы победить, нужно было воевать, но это оказалось невозможно по внутренним причинам. Россия царская, не потерпев военного поражения, пала; ее падение «закрыло» победную перспективу. Военные неудачи 1917 г. и Брестский мир – дела России революционной. Это не доигрывание Первой мировой (Россия тогда уже перестала быть воюющей державой), но разворачивание Гражданской. Брест принадлежит другой войне; он возможен и понятен только в контексте внутреннего социального противостояния.
О потенциале памяти
Конечно, Первая мировая война интересна и российскому правящему классу, и российскому обществу не только как дополнительное воспоминание, своего рода поддержка памяти о главном: Победе в Великой Отечественной. Сейчас, как никогда, актуальны темы столетней давности, непосредственно связанные с войной 1914–1918 гг.: распад империи, отношения власти и общества, синдром врага (внешнего и внутреннего), механизм революции, отношения России и Европы. Сквозь призму опыта Первой мировой эти сегодняшние проблемы видятся иначе, приобретают особый – исторический – смысл.
«Забытая» нами война – вполне современное событие. Не древности и давности, а уже наша автобиография. Причем это событие для нас в той же мере установочное, что и для Европы. В войне 1914–1918 гг. интенсифицировался процесс перемола традиционно-патриархальной социальности, рождалось современное, т.е. массовое – российское общество. Она окунула нашего человека в экстремальный опыт выживания и насилия, с которым он не мог развязаться почти весь ХХ век. В ней сложился тот человеческий тип (или человеческие типы), который стал модальным для раннесоветского мира: «помазанный» войной, нацеленный на воспроизводство новых – массовидных, технизированных, анонимных, чрезвычайных – социальных форм, управленческих технологий. Этот человек строил социализм и разрушал прежнюю общественную жизнь, воевал, умирал, побеждал, восстанавливал. Он создал современную страну, поэтому наша связь с ним до сих пор неразрывна.
В этом и во многих других отношениях Первая мировая – история для современного человека: она позволяет понять мир, в котором мы живем. Переживание таких историй и делает русского русским, давая ощущение принадлежности к этим пространству, традициям, культуре. Однако, возрождая это событие в памяти, важно не совершать старых ошибок, уже искажавших наши воспоминания.
Война 1914–1918 гг. – это первый для России в ХХ в. опыт мирового противостояния и сотрудничества. Было бы непростительным упрощением превратить эту войну только в «свою» – событие исключительно национальной истории. Напротив, она дает нам основание для интеграции в единое европейское пространство памяти, истории, культуры («евроинтеграции»). Нельзя закрыться и от многих «внутренних» смыслов Первой мировой, сведя ее к одному, сейчас модному: «Гром победы, раздавайся!».
В понимании той войны во всей ее сложности – ключ к осмыслению революции, «родившей» СССР. Но препятствием для такого понимания является советский опыт. До сих пор наша память (в значительной мере и наша наука) находится в плену того представления о войне 1914–1918 гг., которое сложилось в советское время. Историческая легитимация советской власти требовала решения большой задачи: опорочить царизм, весь дореволюционный строй русской жизни. Официальный взгляд на Первую мировую (а другого, напомню, не было) базировался на презумпции неизбежности (исторической закономерности) военного поражения, которое подтверждало недееспособность, бессилие, разложенность царской России. В свете этого взгляда война 1914–1918 гг. выглядела чужой, позорно проигранной; все, что этому представлению противоречило, изгонялось из национальной памяти. Советские люди привыкли именно так воспринимать войну. Этот взгляд, ставший одним из оснований мировоззрения советского (и постсоветского) человека, препятствует познанию войны, ее интеграции в национальную память. Он должен быть и неизбежно будет пересмотрен.
И тогда у нас появятся совсем иные, чем раньше, вопросы к Первой мировой. К примеру: чем так непохожа была она на Отечественную 1941–1945 гг. – почему не стала для России священной войной, почему Победа в ней не превратилась в национальную задачу? Иначе говоря, почему «военноотечественные» смыслы не стали для Первой мировой определяющими, сдали позиции смыслам революционным? Только ответив на этот вопрос, мы поймем, каково место войны в нашей истории. А оно, повторим, вовсе не проигрышное, как мы его традиционно понимали.
Первая мировая была вытеснена на периферию российской памяти как историческая «неудача» (так она воспринималась и воспринимается теперь): не завершившись, подобно войне 1941–1945 гг., убедительной и блестящей победой, она выглядела как цепь ошибок, неудач, поражений, предательств и т.п., как какая-то бессмыслица. Нам долго казалось: здесь нечем гордиться, это незачем помнить. Конечно, Первая мировая не соизмерима со Второй – для нас Отечественной. Не стала она вровень и с войной 1812 г., юбилей которой страна торжественно отметила буквально накануне 1914 г. На то были разные причины, но главная – в том, что тогда речь не шла о жизни и смерти народа, о самом его существовании в истории. Первая мировая, которую Россия не могла игнорировать: просто потому, что принадлежала Европе, была связана европейскими отношениями и обязательствами, не подчинила себе всю жизнь страны и все жизни. Она не заставила наших людей пойти на подвиг, стоять насмерть, забыв о цене побед и поражений. И логика власти не определялась тогда формулой: «любой ценой», которая в действии способна на столетия вперед обескровить любой народ.
Были и еще причины, по которым Первая мировая не могла стать Отечественной, в отличие от войн 1812 и 1941–1945 гг. В начале XIX в. русское общество после столетнего обучения у Европы было готово к созданию собственной современной, мирового уровня культуры. Но для этого требовался какой-то важнейший и, может быть, даже единственный обряд инициации. Все великие культуры рождаются из подвига. Или, другими словами, подвиг является главным импульсом для формирования высоких культур. Так было начиная с древнего мира. Так родились, к примеру, современные Соединенные Штаты. У нас это произошло в 1812 г. Мы не можем представить себе ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Л. Толстого, которые и есть великая русская культура, вне и без этого события.
В начале второй Отечественной, к осени 1941 г., мы оказались на краю пропасти. И вновь, как за 130 лет до этого, огромная страна встала – поднялась дубина народной войны. Но и тогда была еще одна (не военная, не внешняя) причина для начала Великой Отечественной. Она, конечно, рационально не осознавалась, но ощущалась наиболее проницательными людьми. Как всегда в России, это поэты: от Ахматовой и Пастернака – до молодежи, создававшей военную лирику. На исторической повестке дня стояли две задачи, которые волею судьбы слились в одну: спасение Родины от того безусловного зла, которое несли немецкие армии, и освобождение себя от более чем 20-летнего большого террора, таившего в себе не меньшие опасности. Для решения этих исторических задач требовался всенародный подвиг. Современная Россия во многом есть его результат.
В 1914 г. ничего этого не было – ни экзистенциальной угрозы Отечеству, ни необходимости формирования новой культуры, ни настоятельной потребности остановить самоуничтожение (перманентную внутреннюю войну). Россия жила в своем «золотом веке». Месту для национального подвига в той ситуации не было. Поэтому Первая мировая – при всех ее трагичности (а такова любая война), невиданном (по существу, планетарном) масштабе, убийственной технологичности (это первая война новой – массовидной, механистической – эпохи, нормализовавшая практику массового анонимного убийства) – оказалась для России просто войной, не более и не менее.
О проигранном будущем
Для нас война 1914–1918 гг. гораздо важнее не в военном, а в социальном отношении. Прежде всего потому, что именно в этом отношении Россия ту войну проиграла. Страна не выдержала испытания «империалистической». Все – власть, общество, народ – оказались тогда на удивление не на высоте.
Конечно, армия в общем достойно сражалась, выполнила свои союзнические обязательства; не редки были случаи героизма, проявления мужества. Да и тыл выдержал почти три года страшной войны, много делал для помощи фронту (особенно поражает пример милосердия, поданный «элитами» – крайне редкое явление в суровой русской жизни). Однако не было тогда того непреодолимого стремления к победе, той стойкости, благодаря которым столетие назад удалось отразить наполеоновское нашествие и которые через какие-то четверть века, в 41-м, спасут СССР. Не заметно и того, что охватит многих русских людей уже очень скоро, в Гражданскую: смело мы в бой пойдем – и как один умрем. Накал противостояния в социальной войне оказался не сравним с мировой; там все понимали, за что сражаются.
А в Первую мировую у нас все как-то очень быстро «расстроилось». Скажем несколько слов о фронте, о России воевавшей. Конечно, фронт – это то, что не может быть оценено с рациональных позиций. Место, где умирают, – за пределами отстраненного, критического анализа. Но все-таки. Вот что писал в 1915 г. в Москву известному (даже знаковому – как для революционного, так и для монархического движения последних двух царствований) общественному деятелю и публицисту Л.А. Тихомирову родственник с фронта: «…не дождусь, когда война кончится; очень надоела»218218
Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 274.
[Закрыть]. Ничего неожиданного – вполне понятная человеческая реакция на войну, особенно позиционную, окопную (Вторая мировая такой, напомню, не была). Но когда она становится массовой, превращается буквально в формулу жизни воюющих (а именно на это указывают современные исследователи), это свидетельствует о неблагополучии фронта – падении мотивации к войне. А вот еще один поразительный факт: как показывает анализ писем окопников, по существу они не видели в противнике врага219219
См.: Асташов А.Б. Русские солдаты и Первая мировая война: Психоисторическое исследование военного опыта // Социальная история: Ежегодник, 2001. – М., 2003. – С. 414–416.
[Закрыть]. Острой, концентрированной ненависти и потребности убить, наказать, отомстить противник (неважно, немец или австрияк) не вызывал. Смыслообразы «народной войны» и «смерть врагам» отсутствовали в сознании солдатской массы; их не смогли сформировать извне, усилиями государственной пропаганды. Ненависть к врагу не стала для русского солдата мотивом, внутренне понуждавшим его воевать. Добавим к этому массу пленных и массовое же дезертирство, масштабы которых несравнимы с другими армиями220220
Только по официальным отчетным данным военных и жандармских учреждений, на фронте и в тылу в 1915–1916 гг. было задержано свыше 350 тыс. человек, что на порядок превышает количество дезертиров в германской (35–45 тыс.) и британской (35 тыс.) армиях (Асташов А.Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 гг.: Военный опыт и современность. – М.: Новый хронограф, 2014. – С. 478–479). В целом же по стране за время войны до марта 1917 г. было задержано около 700–800 тыс. дезертиров; если же учесть находившихся в «бегах», то эта цифра может подняться до 1–1,5 млн (там же. – С. 479–480). Исследователи полагают: к моменту Февральской революции «около 1–1,5 млн. солдат прошли путь дезертира», т.е. приобрели опыт уклонения от военной службы (там же. – С. 480). А опыт этот таков: побеги из эшелонов, шедших на пополнение действующей армии, бродяжничество («праздношатание», «гульба»), «проматывание» обмундирования (гражданское население в массовом порядке скупало вещи у солдат), мародерство, драки с полицейскими и жандармами на железных дорогах, участие в беспорядках, поджогах, грабежах в тылу армии (там же. – С. 466–475). Проблему дезертирства не удалось решить не только из-за управленческих слабостей, обширности территории, малочисленности полиции. Бежавших с фронта укрывало население – и в прифронтовых городах, и на родине (там же. – С. 485), т.е. дезертирство не было объектом всеобщего осуждения, не считалось неприемлемым поведением. Это принципиально отличалось от народного отношения к дезертирам в Великую Отечественную.
[Закрыть]. Такое отношение к войне и противнику – совершенно особый фон для историй о снарядном голоде, кризисе снабжения, отступлениях и проч. Этот настрой не просто исключал Отечественную – его было мало даже для просто войны.
А теперь поговорим о тыле. Его состояние современники характеризовали как «неустройство», как развал221221
Здесь на память приходят слова одного из самых известных широкой публике героев советской литературы – профессора Преображенского: «Что такое… “разруха”? …Да ее вовсе не существует! …Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза.., в уборной получится разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».
[Закрыть]. В тылу так и не возникло настроения Отечественной: как бы ни были тяжелы испытания – выстоим! победим! После патриотического подъема 1914 г. как-то странно быстро ушло отношение к войне как к делу защиты Родины, иссякли воля и вера в победу. У русского тыла (т.е. всего невоюющего населения) в Первую мировую было две, если так можно выразиться, проблемы: тыл хотел жить так, как будто войны не было (сытно, вольготно, свободно); тыл желал наживаться на войне (жить с войны). И то и другое по-человечески понятно, было всегда и везде, характерно для всех воевавших в 1914–1918 гг. стран. Но в России это привело к внутреннему разложению. Все буквально сломались на этих желаниях, своих естественных потребностях, частных правах и интересах, на индивидуальных (а также групповых, корпоративных и проч.) эгоизмах.
Русский тыл не соответствовал задачам войны нового, современного типа. А она была тотальной: предполагала полное взаимодействие фронта и тыла. Так вот, в тылу не чувствовалось энергии сопротивления, стремления сплотиться в помощи фронту. Невоюющая Россия не смогла стать надежной опорой армии. Тыл более всего волновали не дела на фронте. Тыл был занят собой, озабочен бытовыми вопросами – как и на что жить. Поначалу война воспринималась обывателем как досадная помеха обычной жизни. Накануне краха старой России она уже ощущалось как нечто невыносимое. Вся обывательская Россия слала проклятия тяготам войны, войне как источнику всех ее бед. Обретала разрядку в этих проклятиях – да еще в поиске «предателей»/«врагов», из-за которых война пошла не так, как надо: не скоро, не споро, не победно.
К осени 1916 г. произошел окончательный нравственный слом. Тыл сдался обстоятельствам, стал «зоной саботажа»: не просто был готов саботировать войну, но и действительно саботировал – неверием, уклонением, отрицанием за собой каких-либо обязательств. Тылу нечем было поддержать фронт. Тыловые смотрели на себя как на жертву; фронтовикам в основном сочувствовали, но – никакого «единства в борьбе». Более того, тылу и незачем было поддерживать фронт, как бы ни странно это звучало. В обывательской среде возникло общее убеждение, переданное упоминавшимся уже Л.А. Тихомировым (он тонко чувствовал «социологию» жизни): «Наш способ ведения войны делает ее чем-то абсолютно бессмысленным. Даже хуже: он рождает мысль, что мы не можем победить немцев. Но это мысль страшно деморализующая, способная отнять все силы, заставить опустить все руки»222222
Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. – С. 274.
[Закрыть]. В дневниках осени 1916 г. Тихомиров постоянно повторял эту «формулу»: «Собственно, я не слышу ни единого слова о том, чтобы заключить мир… Но, не допуская мысли о мире, никто не верит в победу, плохо верят даже в безопасность от немецкого завоевания. Так и оцепенели в какой-то безнадежности» (16 октября 1916 г.); «Насколько замечаю, в народе пропадает всякая вера в победу, но в то же время ему стыдно сознаться, что хочется мира… Печально вообще состояние духа народа…» (10 ноября 1916 г.)223223
Там же. – С. 295, 303.
[Закрыть]. К 1917 г. тыл уже не видел военного выхода из ситуации; фронт был готов воевать, хотя и испытывал крайнюю степень усталости224224
Асташов А.Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 гг. – С. 660–663, 667–676.
[Закрыть].
Когда «наблюдаешь» за русским фронтом и тылом (особенно тылом) в Первую мировую, хочется сказать только одно: так не рождается общий (военный) интерес, так не достигается патриотическое сплочение, так войны не выигрываются. Тыл объединяло не желание победить, а мощный антивоенный настрой, внутреннее пораженчество, которые искали выхода. Тыл дезориентировал, деморализовывал фронт – своими настроениями, валом проблем, неверием в победное окончание войны. Потом «ударил» по нему революцией. И фронт перестал существовать как внешний – развернулся, перенес вовнутрь свою энергию (неизрасходованный потенциал насилия и то, что можно выразить словом «недовоевал»). Война стала внутренней – Гражданской.
Что же произошло с обществом, народом в Первую мировую? Откуда пораженческий настрой, эти неустойчивость и неуверенность в ситуации, когда надо воевать, побеждать, когда ощущение близости конца войны – и именно победного ее конца для России, – кажется, витало в воздухе? Почему власть, общество, народ не смогли упереться, сделать над собой усилие? Ведь не психоз же это (хотя высказывается и такая точка зрения). Тому можно найти множество объяснений. Но, как мне кажется, причины – не столько в характере и способе ведения войны (в просчетах командования, слабости управления, неумении перестроить тыл на военные рельсы, активизации в войну социальных проблем) и даже не только в природе общества. Важно понимать, какими были для России «кануны» мировой войны.
Предвоенную русскую жизнь наш человек привык оценивать по негативу. Над его памятью довлеют образы, вынесенные из советской школы, навязанные советским кино, советской пропагандой: о невыносимой тяжести народного существования при царях, о «глухости» и мрачности предвоенного десятилетия, о несвободе, полицейщине и т.п. Но поведение народа столетие назад, в лихую военную годину, свидетельствует об обратном. Страна отвыкла от лиха такой интенсивности, разучилась напрягаться в самоограничении, никак не могла собраться из мирных (и милых, и трудных, и невыносимых – но по меркам мира) «частностей» в воюющее единство. Контраст ситуации «хронической» войны (видимо, в этом случае больше года – уже «хроника»; недаром все начало надламываться в 1916 г., а осенью-зимой 1916–1917 гг. налицо были признаки всеобщего внутреннего разлада) с обычной мирностью был так разителен, что жизнь казалась людям невыносимой. Здесь истоки их внутреннего пораженчества.
Менее чем через четверть века после Первой мировой население другой страны, возникшей на месте царской России, тоже почувствует разительный контраст между войной и миром. Однако два этих исторических ощущения несравнимы – как несравнимы два народа, воевавшие в мировых войнах ХХ в. Вся межвоенная советская жизнь была построена на самоограничении: научила людей выживать в отсутствии самого необходимого, отучила от нормального быта (бытия), смирила с постоянством чрезвычайщины, безвременных смертей, дефицита, страха. В этих условиях сформировались соответствующие типы личности (модальные типы «раннего» советского человека), привыкшие к терпению, смирению, самоотречению, прошедшие «воспитание ненавистью», в значительной степени милитаризованные («военно-спортивного» склада, по определению Н.А. Бердяева, – рассчитанные на подвиги: трудовые и ратные), десятилетиями управлявшиеся с помощью насилия. Поэтому когда пришла война и потребовала от народа полного самоотвержения, он оказался к этому готов. Выдержал, выстоял. И на фронте, и в тылу. Да, собственно, во многом фронт и тыл были равны – жили по закону Отечественной: все для Победы. Этот тип существования вполне соответствовал задачам тотальной войны.
Все сказанное – вовсе не о том, что для победы в войне плохая невоенная жизнь лучше хорошей, что в любой войне наш народ должен умереть, но не сдаться, не о том, что Сталина на них не было. Это о том, как разительно та – дореволюционная – страна отличалась от наших о ней (т.е. советских) представлений, что мерить ее нужно другой (несоветской) меркой. Собственно, сам социальный разлад, выраженный формулой «развал тыла», говорит о том, насколько нормальной была довоенная жизнь. Она не давала оснований для той остроты ненависти и смиренной покорности судьбе, которые народ проявил во Второй мировой. Что вовсе не плохо: в этой нацеленности на мир и крылись источники для развития. Та (дореволюционная/несоветская) страна привыкла жить и не хотела умирать, чтобы победить. Продолжение же войны уже в 1916 г. казалось медленным умиранием. В «империалистическую» русские люди пожалели себя. А вот во Вторую мировую жалости к себе не было: разучилась страна себя жалеть – безжалостная была жизнь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.