Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 2"
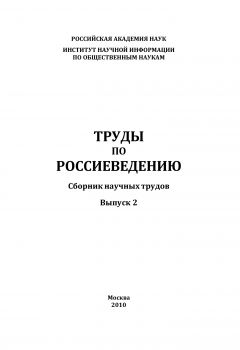
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
Вместе с тем надо иметь в виду, что процесс научного творчества всегда – до известной степени, конечно, – носит иррационально-подсознательный характер. Так устроена человеческая «психика». Искренне полагая, что сохраняет традицию и восстанавливает «историческую справедливость», на самом деле исследователь по преимуществу создает совершенно новую – «желательную» (себе самому или «правильным» читателям, на которых он рассчитывает) – историю. Помимо того, в каждом конкретном случае результат работы исследователя далеко не одинаков, а его нравственная оценка – частная, субъективная точка зрения. Кстати, из-за различий в исходных позициях и целях, которые преследуют историки, попытки свести оценки, которые они дают одной и той же личности, к «общему знаменателю» (по принципу: если уж академик А., профессор Б. и даже известный в науке скептик В. положительно характеризовали личность Г., то исследователь Д. не имеет права дурно отзываться о нем) лишены смысла.
Но тогда какую же из этих характеристик считать «судом Истории»? На такой «статус», думаю, не может претендовать ни одна, в том числе и та, что послужила основанием для канонизации православного святого. Тем более нет никаких причин именовать «судом Истории» результаты историографического анализа. Историка (даже самого маститого) никто не уполномочивал быть «учителем жизни», раздавать оценки от имени науки, которую он представляет. Правда, в XX в. историческую науку нередко превращали в подобие судилища, на котором выносится «приговор» предкам – за их «недомыслие», «незнание», «политическую близорукость». «Судьи», как правило, не несли за подобные «приговоры» никакой ответственности (если только они не входили в противоречие с постоянно колебавшейся «генеральной линией партии»).
К тому же задним числом, как известно, легко быть умным и храбрым. При всей внешней привлекательности этот подход нес в себе опасность поверхностных суждений, прививал склонность к анахроническому мышлению, когда представления и поступки людей, живших за десятилетия, а то и за столетия до нас, объясняются с позиций сегодняшнего дня. Рецидивы такого подхода заметны и сейчас. Однако постепенно все большую популярность приобретает иной подход. В нашей стране еще недавно его ярчайшим представителем был А.Я. Гуревич. Он подчеркивал, что История не должна воспитывать чувства собственного превосходства, – она должна учить взаимопониманию. Не судить, но понимать – таков девиз историка вообще и в особенности историка конца XX века.
Трудности научной реконструкции
Как ни парадоксально, если с образами памяти об Александре Невском все более или менее понятно8787
Немалая заслуга в этом принадлежит фундаментальному труду Ф.Б. Шенка (15).
[Закрыть], то работа по научной реконструкции биографии реального князя Александра Ярославича и событий, с ним связанных, еще далека от завершения. Казалось бы, это странно, тем более что исторических источников, несущих информацию об этой личности, чрезвычайно мало. Как писал один из апологетов Александра Невского, «к великому сожалению, в рассказе о св. Александре Невском нам приходится довольствоваться скудными историческими известиями» (14, с. 10). Компенсировать недостаток сведений об Александре Ярославиче в какой-то степени можно, совершенствуя источниковедческие подходы и приемы. Однако такой путь возможен лишь в том случае, если нас интересует научная историческая реконструкция прошлого. Большинство же дискутирующих о том, является ли Александр героем или злодеем, использует иные приемы, суть которых была откровенно сформулирована М. Хитровым: «единственное средство сколько-нибудь помочь горю – это самому автору проникнуться благоговением и любовью [или, видимо, противоположными чувствами, если речь идет о “дискредитаторах”. – И.Д.] к предмету изображения и чутьем сердца угадать то, на что не дают ответа соображения рассудка» (14, с. 10–11).
Первый путь предполагает привлечение всей совокупности исторических источников, в которых так или иначе нашли отображения свидетельства очевидцев и современников князя. При этом историк-профессионал должен руководствоваться рядом правил, соблюдение которых позволит накопить достоверную информацию об интересующей нас личности и создать научную реконструкцию его исторического облика. Речь прежде всего должна идти об общей характеристике каждого из этих источников.
Так, скажем, житийная повесть о святом благоверном князе, очевидно, была призвана выполнять совершенно иные социальные функции, нежели летописные рассказы о нем. Поэтому странно читать, что «содержанием жития является краткое изложение основных, с точки зрения автора, эпизодов из его жизни, которые позволяют воссоздать героический образ князя, сохранившийся в памяти современников, – князя-воина, доблестного полководца и умного политика» (7, с. 602). Недоумение вызывает и такая характеристика: «В житии Александра Невского… главным образом представлены эпизоды, которые говорят о нем, как о непобедимом князе-полководце, известном всюду своими военными подвигами, и как о замечательном политике» (13, с. 23). Агиографические произведения никогда не составлялись с целью прославления героических полководцев или талантливых политиков. Известно, что жития писались по определенным канонам для доказательства и прославления святости своих персонажей. Достаточно открыть любую богословскую энциклопедию, чтобы понять: житие святого – это не столько биография, сколько описание пути к спасению, типа его святости. Поэтому набор стандартных мотивов отражает тот путь спасения, который проложен данным святым. Житие абстрагирует эту схему спасения, и поэтому само описание жизни делается обобщенно-типическим.
Другими словами, уже общая характеристика источника дает возможность выявить тот «фильтр», который его автор использовал в отборе и анализе «информации» о своем персонаже и связанных с ним событиях. Не учитывать этого нельзя. В противном случае историк рискует принять за описание того, «как это было на самом деле», тот или иной штамп, топос или художественный образ, метафору. Что, собственно, и происходит при так называемом потребительском отношении к источнику.
Однако общей характеристики источника недостаточно для квалифицированной работы с заключенной в нем ретроспективной информацией. Дело в том, что сама эта информация сложна по своей структуре. В самом общем виде она включает верифицируемые сведения (могут быть проверены показаниями других независимых источников), уникальные данные (их можно проверить, только исходя из общих соображений) и, наконец, повторяющиеся известия (прямые или косвенные цитаты из других произведений). Каждый вид информации имеет свою специфику и играет (точнее, должен играть) разную роль в исторических реконструкциях и характеристиках.
Так, верифицируемая информация составляет (или, лучше сказать, должна составлять) основу исторических построений. Это костяк научных исторических реконструкций. Уникальную информацию следует использовать очень осторожно, с непременной оговоркой, что эти сведения не могут быть проверены, а потому и доказаны. Наконец, то, что мы называем цитатами, безусловно, должно быть исключено из рассмотрения как информация о реальном ходе событий. В то же время цитаты не следует полностью исключать из исторического построения, как это обычно делается8888
Так, обнаружив безусловные текстуальные параллели в летописном рассказе об ордынском нашествии с «Поучением о казнях Божиих», читаемых в Повести временных лет, один из самых авторитетных современных российских историков В.А. Кучкин утверждает, что эти параллели «представляют значительный интерес для суждений об источниках новгородского свода 30-х годов XIV в. или его протографов, но не для суждений о том, как понимал и оценивал иноземное иго новгородский летописец… Детальный анализ цитаты вскрывает уже не мысли людей XIII–XIV вв., а идеи XI столетия» (4, с. 24, 61, прим. 49).
[Закрыть]. Такая повторяющаяся информация может (и должна) играть чрезвычайно важную роль в качестве непосредственного свидетельства о том, как оценивалось, характеризовалось то или иное лицо, то или иное событие автором источника (и, соответственно, его «актуальными» читателями)8989
В примере, приведенном в предыдущей сноске, В.А. Кучкин был бы, несомненно, прав – в случае, если бы речь шла о попытке восстановить конкретные детали описываемого летописцем события («как оно происходило на самом деле»). Однако речь идет не об этом, а об оценке события, о раскрытии его смысла для читателей летописи. Между тем автор летописного рассказа об ордынском нашествии явно не случайно вспомнил цитату из «Поучения». То, что он использует «идеи XI столетия» для описания, а главное, для характеристики произошедшего в XIII в., несомненно, свидетельствует о схожести – для автора и читателей анализируемого текста – самих событий и их оценок.
[Закрыть].
При обращении к немногочисленным источникам, повествующим о князе Александре Ярославиче, оказывается, что значительная часть информации о нем, его деятельности и победах не что иное, как уникальная или повторяющаяся информация. Еще в середине прошлого века было установлено, что, скажем, в житии Александра Невского имеются многочисленные литературные реминисценции из «Александрии», «Троянской притчи», «Девгениева деяния» и «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия (см.: 3). Это открытие вызвало довольно жесткую реакцию Н.В. Водовозова. «Неподдельная искренность чувств, которыми пронизана вся “Повесть”, свидетельствует о том, что автор его не заимствовал готовых выражений ни из Александрии, ни из Девгениева деяния, ни из Иосифа Флавия, но как истинный патриот и сын своего народа кровью своего сердца описывал и горестные, и славные события русской жизни тех лет. Если Александр Ярославич поразил копьем в лицо Биргера в Невской битве, то об этом знали все современники, и Девгениево деяние тут не при чем. Если шесть русских героев прославили свои имена воинскими подвигами в той же битве, то причем здесь библейская история или повесть Иосифа Флавия? Ведь имена “храбрых” в “Повести” не вымышлены» (1, с. 38), – писал он. В ответ на это Д.С. Лихачев возразил: «Не надо быть литературоведом, чтобы знать, что нельзя “просто описывать события” да еще в художественном произведении, не придерживаясь определенного художественного метода, и что литературная традиция в той или иной мере свойственна всем литературным произведениям, а отчасти и нелитературным… Действительность чрезвычайно многообразна, фактов много, а художественное обобщение отбирает эти факты в духе своего художественного метода и в духе своей литературной традиции. Литературная традиция и исторические факты не находятся в контрадиции» (5, с. 500–501)9090
При этом, правда, Д.С. Лихачев не уточнил, в каком именно соотношении находятся «литературная традиция» (в данном случае – прямые и косвенные цитаты) и «исторические факты».
[Закрыть].
Во всяком случае, нельзя оставлять без внимания, к примеру, то, что не только Александр, согласно житийной повести, во время Невской битвы «самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь» (9, с. 430), но и псковский князь Довмонт во время Раковорской битвы 1268 г. при столкновении с «местером земля Ризскиа» «самого… местера раниша по лицю» (10, с. 227), что не только Александр, но и Довмонт выступили против врага «не дождавъ полковъ новъгородцких, с малою дружиною», а сражение под Раковором завершается – как и битва на Чудском озере – преследованием врага «на семи верстъ» (6, с. 87). Видимо, все эти детали не могут рассматриваться в качестве достоверных подробностей упомянутых столкновений (если только описание одного из них не стало протографом другого). Зато они, несомненно, несут какую-то существенную для древнерусского книжника и читателя информацию (скорее всего, аксиологическую) о столкновениях с немецкими и шведскими рыцарями. Пока, правда, неясно – какую.
Если же спорящие стороны не учитывают такие «нюансы», споры выходят за рамки собственно науки и перемещаются в сферу политики и идеологии. В научных спорах, как известно, все решают аргументы, коими в исторической науке являются сведения источников. В политике же и в идеологии противостоят позиции, основывающиеся зачастую на соображениях целесообразности и «здравого смысла». Беда, правда, в том, что у каждой из сторон при этом свои цели, а отсюда – и свои представления о том, что является целесообразным. Да и «здравый смысл» у них сплошь и рядом разный. А потому такие – вненаучные – дискуссии не могут иметь завершения. Их цель иная, пропагандистская. А пропаганда, как известно, манипулирует общественным сознанием при помощи образов и символов. Вот таким-то символом – с позитивной или негативной окраской – и становится в них Александр Невский.
Как совершается «суд Истории»
Остается лишь сказать, что Александр Невский – не злодей и не герой. Он – сын своего непростого времени, которое вовсе не ориентировалось на «общечеловеческие ценности» XX–XXI вв. Не совершал он никакого судьбоносного выбора – его самого выбирали ордынские ханы, а он лишь исполнял их волю и использовал их силу для решения своих сиюминутных проблем. Боролся Александр не с крестоносной агрессией, а с Дорпатским епископом за сферы влияния в Восточной Прибалтике и вел переговоры с Папой Римским (разрешив, судя по имеющимся источникам, уже после Ледового побоища строительство кафедрального католического храма во Пскове). И сражения, которые он выиграл, вовсе не являлись «крупнейшими битвами раннего Средневековья». Не был Александр Ярославич и предателем национальных интересов: хотя бы потому, что этих самых интересов, как и нации, еще не было и быть не могло. Коллаборационизм – понятие, которого не существовало в XIII в. Все эти оценки, все «выборы», все понятия – из века XX. И в XIII столетии им не место – если, конечно, речь идет о собственно научной дискуссии.
Тем не менее «суд Истории», как мне представляется, все-таки существует. Но заключается он вовсе не в том, какую оценку получил или получит тот или иной исторический персонаж в работах историков. Полагаю, на самом деле этот суд давно уже свершился. Вердикт Истории был вынесен в тот момент, когда общество приняло и поддержало (или, напротив, не приняло и отторгло) деяния той или иной исторической личности. Мы же, со всеми нашими оценками, – не прокуроры, адвокаты или судьи, но осужденные этим судом. Мы отбываем наказание за то, что (сами или наши предки – не важно) оправдали эти деяния и тем самым сделали их нормой поведения для последующих поколений. Сто́ит ли, скажем, удивляться терактам, которые в последнее время регулярно совершаются в городах нашей страны, если на протяжении десятилетий центральные улицы в этих же городах носили имена террористов Желябова, Перовской, Каляева, Халтурина?..
И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не найдем в себе силы и мужества признать, что в истории России есть события и личности, которыми мы привыкли гордиться только потому, что это – события и личности нашей истории, истории, «правопреемниками» которой мы себя считаем. Между тем многих из них впору стыдиться. Надо, однако, понять, почему предшествующие поколения принимали их, и решить, является ли это достаточным основанием для того, чтобы такой же выбор совершать и сегодня. И если для современного человека критерии, которыми руководствовались наши предки при оценке той или иной личности и ее поступков, уже неактуальны, необходимо отказываться от бесконечного повторения устаревшей модели поведения. Насколько я понимаю, именно это имеют в виду, когда говорят о покаянии как необходимом условии освобождения от власти прошлого над настоящим.
Список литературы
1. Водовозов Н.В. Повесть XIII века об Александре Невском // Ученые записки Моск. гор. педагогического ин-та им. В.П. Потемкина. – М., 1957. – Т. 67 / Кафедра русской литературы. – Вып. 6. – С. 21–45.
2. Долгов В. Сквозь темное стекло // Родина. – М., 2003. – №. 12. – С. 86–87.
3. Комарович В.Л. Повесть об Александре Невском // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. – М.; Л., 1945. – Т. 2, ч. 1: Литература 1220–1580-х гг. – С. 50–58.
4. Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников: XIII – первая треть XIV в. // Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн: X – начало XX в.: Сб. науч. тр. – М., 1990. – Вып. 1. – С. 24–61.
5. Лихачев Д.С. Реплики // Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та рус. лит. (Пушкинский дом) Академии наук СССР. – М.; Л., 1958. – Т. 15. – С. 499–502.
6. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание русских летописей. – [2-е изд.] – М., 2000. – Т. 3. – 720 с.
7. Охотникова В.И. Житие Александра Невского: [Комментарий] // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. – М., 1981. – С. 600–620.
8. Очерки истории СССР: Период феодализма. IX–XV вв. В 2-х ч. – М.:, 1953. – Ч. 1. – 984 с.
9. Повести о житии и о храбрости благовернаго и великаго князя Александра // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. – М., 1981. – С. 430–438.
10. Сказание о благоверном князе Довмонте и о храбрости его // Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. – М., 1981. – С. 224–233.
11. Соколов Р.А. Александр Невский в современной историографии // Александр Невский: Государь. Дипломат. Воин. – М., 2010. – С. 420–429.
12. Сокольский М.М. Заговор Средневековья (1978) // Сокольский М.М. Неверная память: Герои и антигерои России. Историко-полемические эссе. – М., 1990. – С. 190–200.
13. Строков А., Богусевич В. Новгород Великий: Пособие для экскурсантов и туристов. – Л., 1939. – 256 с.
14. Хитров М. Предисловие // Великий князь Александр Невский. – СПб.: Лениздат, 1992. – С. 3–11.
15. Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой (1263–2000). – М., 2007. – 619 с.
16. Режим доступа. – http://evrazia.org/article/811
Историческая память в современной России: История и историк в системе общественных ограничений
Интервью9191
Впервые опубл.: Урал. – Екатеринбург, 2009. – № 8. Поводом для интервью стало выступление И.И. Глебовой на Всероссийской конференции, проходившей в ноябре 2008 г. в Уральском государственном университете в связи с 70-летием его исторического факультета. Беседу вел журналист и писатель Андрей Расторгуев.
[Закрыть]
И.И. Глебова
История как сфера обслуживания
А.Р.: Отказываясь поначалу от интервью, Вы опасались тех самых общественных ограничений, в которых находится историк?
И.Г.: Скорее, их учитывала. В одном из известных советских музыкальных фильмов был такой текст: «Разговор на эту тему портит нервную систему, / А поэтому не будем огорчаться». Я предлагаю болезненную тему; она требует критического взгляда на общество и на историка. Поэтому неприятна – мало ли что такой взгляд может высветить. А сейчас она и вообще не ко времени: мы по сути дела оставили попытки разобраться в себе, собственном прошлом. Главная общественная потребность, подчиняющая и историка, – «не огорчаться», с оптимизмом смотреть в будущее и с гордостью – в прошлое.
Наше общество, к сожалению, не хочет слышать то, что не соответствует его представлениям о самом себе. А представления эти, с одной стороны, чрезвычайно идеализированы, с другой – абсолютно безответственны. И любое выступление, которое противоречит этой системе представлений, вырывается за рамки этих ограничений, встречает если не агрессию, то ярко выраженное непонимание.
Это объясняется особым своеобразием нашей массовой памяти. Она очень короткая и бедная (ее объем, уровень сложности чрезвычайно невелики), а также пластичная – подвержена внешним воздействием, легко принимает ту форму, которую ей придают. В то же время она очень выборочна: тяготеет к тому, что улучшает социальное самочувствие, и отторгает все сложное, непонятное, противоречивое. Наше общество сопротивляется критике прошлого, которая заставляет усомниться в его представлениях о себе. Мы предпочитаем не «париться», не грузить себя: меньше знать – и помнить так, как хочется.
Так выстраиваются те социальные рамки, в которые вписан историк. Если он и нужен нашему обществу, то лишь затем, чтобы подтвердить его высокую самооценку и нейтрализовать угрозы – навязчивое ощущение собственной несостоятельности. Этого требует любое общество? Возможно. Но у нас, кроме этих требований, ничего нет. Им почти полностью подчинены и социальные критерии успеха историка.
А.Р.: Можно ли в этой ситуации говорить об исторической памяти?
И.Г.: По опросам Левада-центра, – пожалуй, самой авторитетной социологической структуры, – 18% наших граждан совершенно не интересуются собственной историей, 36 – скорее не интересуются, 32 – интересуются время от времени и только 7% интересуются очень (7% затрудняются с ответом). Это очень низкие показатели, хотя и вполне ожидаемые: ведь не случайно около 70% исторических памятников находится у нас в угрожающем состоянии, и никто не воспринимает это как национальную катастрофу. Очень спокойно мы относимся к стиранию исторического облика городов, которые и без того мало обременены приметами прошлого. Все это свидетельствует о примитивности, низком качестве массовой культуры. Вот, мы привычно говорим об обществе – советском, постсоветском. Но общество, равнодушное к прошлому, существующее как бы вне времени, ограниченное сиюминутными интересами и ценностями выживания, – общество ли это вообще?
А.Р.: Это присуще именно современной России?
И.Г.: Думаю, да. В том смысле, что происходит снижение уровня общей культуры; в социуме задают тон массовые (ширпотребовские) образцы, мало ощутимы развивающие культурные импульсы. Это проявляется и в отношениях современного общества с собственным прошлым. Но тип отношений «общество–память–история» задан в советское время.
Кажется, что советское общество – это общество памяти, скрепленное общей историей. Действительно, общая память у советской страны была. Но откуда она и какая она – вот вопрос.
Эту символическую скрепу набила на советский мир власть в 1930– 1950-е годы. Логика ее действий понятна: единая страна – общее прошлое – одни ценности. Память была официализирована, подчинена властным задачам. Никто не сопротивлялся: ведь в крестьянско-рабочей среде до революции преобладали местные памяти; сознание государственного единства и общей судьбы было очень слабым. Те же, кто в 30–50-е мог выступить с альтернативными властным образами прошлого, были либо ликвидированы, либо лишены социального голоса, либо эмигрировали.
Советская страна зажила с одной на всех, содержательно довольно примитивной, по духу жизнеутверждающей историей. Со временем это общее прошлое обветшало, утратило свою энергетику, подверглось частичной ревизии, но работало – по привычке, рутинно, как коллективный «здравый смысл».
Не случайно все обновленческие процессы начались с пересмотра советского исторического мифа. Идея была – понять и преобразовать себя через узнавание и понимание своего исторического пути. Тогда историк всерьез понадобился обществу; мера его свободы определяла степень общественной свободы.
На волне демократизации рухнул исторический официоз, произошла деофициализация памяти. В историческое пространство проникли новые для нас понятия греха, стыда, покаяния, ответственности – в таких категориях немцы вспоминают о национал-социализме. Казалось, и наше общество настроилось на то, чтобы так заговорить о большевизме, сталинизме, о советской системе вообще. По свидетельству социологов, в конце 1980-х годов оно выставляло в основном отрицательные оценки всему советскому, вроде бы отказываясь от его наследия.
Сейчас общество не хочет об этом вспоминать, переадресуя вину за распад СССР, за все свои беды – власти. Но ссылки на горбачевскую, ельцинскую власть – это, как говорят нынче молодые, «пустая отмазка», попытка скрыться от ответственности. Что же касается памяти, то ее демократический пересмотр был воспринят как отход от некой нормы. В середине 90-х наше общество опять захотело определенности, «укоренения» во времени. Страна нашла себя в прошлом: не критически отрефлексированном, а идеализированном – утешающем и возвышающем. Мобилизация такого прошлого – это механизм компенсации национальных травм, ощущения сиротства, утраты пространства и мифа о великом будущем. То есть обращение к прошлому имеет сейчас исключительно значение социальной терапии: история (и историк) лечат общество, помогая ему забыться.
А.Р.: А почему вы связываете историческую память только с целенаправленным интересом к истории? Ведь есть еще память родовая, которая может передаваться и без такого интереса…
И.Г.: Вы имеете в виду традиции, которые прорастают «снизу», – личный опыт, семейные памяти. Конечно, это прочно. Но я бы не стала категорически разделять историю и память, индивидуальные и коллективные воспоминания. Сейчас признано, что живая память, живая традиция не существуют в отрыве от социальных воспоминаний. Последние формируются масскоммуникативными средствами, а потому влиятельны, где-то даже навязчивы. Они создают фон для индивидуальных и групповых памятей, которые, кстати, тем влиятельнее, чем сильнее и сложнее общество – со своими разнообразными интересами, ценностями, историческими взглядами.
У нас общество – в таком понимании – минимизировано. Поэтому официальная память довлеет всему, быстро становясь всеобщей. У индивидуального, группового нет потенциала сопротивления – как нет его в политике. Это первое. Второе. Мы так двигаемся во времени, что обрываем живые традиции, коверкаем их, подменяем.
Наши памяти (индивидуальные и социальная) коротки и извращены, сосредоточены на советском времени. Сейчас делаются попытки выстроить и навязать обществу такую логическую связь: Россия дореволюционная – Россия советская – Россия постсоветская. Подобным образом пытаются придать временно́е измерение и нынешней власти: от царей – через генеральных секретарей – к президентам. Но это искусственная преемственность, здесь нет естественных связей.
Конечно, историческая память конструируется не только у нас. Но у нас она более, чем где-либо, имеет искусственный характер. В действительности связей с Россией царской мы лишены. Это запечатлено в живой памяти. По данным социологов, в представлении нашего человека история не имеет, так сказать, всеобщего характера, она сведена и нивелирована до советской. То есть общество хорошо понимает, чьим наследником является.
Показательно, как совпал сейчас официоз, официальная политика памяти и общественные памяти. С помощью механизмов ностальгии и идеализации «высветлено», приобретя приемлемый вид, и фактически реабилитировано советское прошлое. Оно – один из важных элементов нынешней «эпохи порядка». Именно советское время является для нас установочным, нормативным.
Наша родовая, наследственно-генетическая память – из СССР. Поэтому она, так же как коллективные и социальные воспоминания, нуждается в критической проработке, гуманизирующем воздействии. Здесь и необходим историк, придающий памяти историческую, культурную, этическую и эстетическую перспективу. В отношении к памяти он выступает как просветитель, врачеватель. Если, разумеется, общество к этому готово. Состояние исторической памяти – важный качественный показатель такой готовности.
Кстати, есть интересный пример, демонстрирующий, как социальная память подправляет коллективные воспоминания. Участники октябрьских событий 1917 г. в Петрограде через много лет вспоминали, что происходило, ориентируясь на советские кинообразы (на фильм С.Эйзенштейна «Октябрь» 1927 г.), официальную память. Это возвышало их в собственных глазах: героический штурм, преодоление сопротивления защитников старой власти, т.е. настоящая революция, а они – подлинные революционеры. Хотя на самом деле Зимний не охранялся (если не считать женский батальон и юнкеров), «штурмовавшие» свободно проникали во дворец через разные входы, а само это проникновение носило характер погрома… Но такая память ничего не давала – ни участникам, ни обществу.
О правде истории
А.Р.: Не зря говорят: «Врет, как очевидец…»
И.Г.: Конечно. Но, вообще-то, понятия «правда», «истина», «ложь» относятся к области веры, а не науки. А история – это постоянный процесс познания, осмысления, критики сделанного. Это нормально для науки, которая накапливает знания, обнаруживает новые исследовательские инструменты, подвергает себя ревизии.
Истины в науке относительны. Но до тех пор, пока речь не идет об абсолютном зле – массовом терроре, физическом и нравственном уничтожении человека, ликвидации культурных ценностей и традиций. Здесь у историка и у общества должна быть четкая система ориентаций. Вот, немцы сказали себе, что национал-социализм – зло, причем прежде всего для них самих. Мы же весь мир хотим научить, что есть добро и зло, как надо и не надо поступать, а к себе этого не применяем. Мы – выше этических категорий. Это не просто неправильно – это опасно для нас.
Сейчас в медиапространстве стало модно говорить об исторической правде – по большей части, о ее непостижимости. Смысл таких разговоров понятен – реабилитация мифотворчества, оправдание виртуализации истории. Правда, конечно, недостижима – в том смысле, что прошлое – ушедший, утраченный мир, не восстановимый во всей своей полноте. Кроме того, история – открытый процесс, не предопределенный какой-то программой. Это действия людей в прошлом, которые очень сложно объяснить.
Но прошлое – ограниченно познаваемо. Обращаясь к нему, историк не просто накапливает сумму фактов, которую может трактовать кто угодно и как угодно. Он выполняет важнейшую социальную функцию – подвергает общество анализу, пытаясь понять его природу, выявить какие-то определенности его устройства и развития.
Историк – в идеалтипическом смысле – отвечает за самоанализ общества, давая ему – особенно, образованным, управленческим его стратам – адекватное знание о себе. Оно так или иначе должно быть отражено в массовых образах прошлого, которое общество воспринимает как коллективный «здравый смысл». Тем самым историк формирует рамку социального действия, показывая, что можно и нельзя делать с этим обществом, какие болезни и искушения могут быть для него опасны. В этом смысле он должен быть правдив, т.е. профессионально точен и ответствен.
Существуя в обществе, наука от него не свободна, но не может быть ему подчинена. Не должна его только обслуживать. У нас же за историей не признан статус полноценной области самопознания общества. Она функциональна, ограничена служебными задачами. В советское время историческая наука была поставлена на службу власти; сейчас ориентирована на выполнение общественного запроса на самооправдание. Это нормативное место истории (и историка) в обществе. Поэтому история выдает то одну правду, заказанную властью, – то другую, ожидаемую в обществе. И общество воспринимает это как правду, а затем, в новых исторических условиях, требует ее разоблачения, заставляя историка каяться и упрекая его в непрофессионализме. У нас правды истории каждый раз подгоняются под общественные желания, представления. То есть речь идет об анархической самопрезентации общества через прошлое. И этот произвол не ограничен культурой памяти, сформированной историком.
Две России: единство и борьба противоположностей
А.Р.: Наша «неевропейскость» («мы – другие») – тоже продукт советского общества?
И.Г.: Думаю, да. И это зафиксировано в общественных представлениях. Большинство опрошенных Левада-центром (54% – в 1994 г., 57% – в 2003 г.) считали, что за годы советской власти фундаментально изменился склад людей в России. Нам все-таки удалось вывести новую, неевропейскую человеческую породу. Европейцами себя ощущают часто 11–12% населения, иногда – еще 12–14 (никогда – порядка 55, редко – 18%). Мы – другие, «особые», производная от советской истории, опыта, традиций, памяти.
Но это тоже непростая история. Мы вообще страна со сложной историей, впрочем, как и любая другая. И поэтому ее нужно воспринимать адекватно ее сложности.
Крупнейшие дореволюционные историки, социальные мыслители и государственные деятели говорили, что послепетровская Россия оказалась расколота на две. Одна – Россия европеизированных верхов, которая в начале ХХ в. едва дотягивала до 10% населения. Это образованная, урбанизированная, ориентированная на преобразования среда, рожденная рецепцией западной культуры. Это общество, имевшее многие черты гражданского. Оно было сложно устроенным (в мировоззренческом, политическом, экономическом и других отношениях), его поддерживали разные памяти. Обществу «цветущей сложности» требовались сложная организация, сложные управленческие решения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































