Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 2"
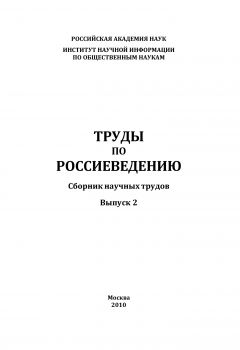
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
И.Л. Беленький
В. Набоков
Юбилей: К десятой годовщине октябрьского переворота 1917 года124124Печатается по изд.: Руль. – Берлин, 1927. – 18 нояб. См. также: Даугава. – Рига, 1990. – № 9. – С 118–119.
[Закрыть]
В эти дни, когда тянет оттуда трупным запашком юбилея, – отчего бы и наш юбилей не попраздновать? Десять лет презрения, десять лет верности, десять лет свободы – неужели это недостойно хоть одной юбилейной речи?
Нужно уметь презирать. Мы изучили науку презрения до совершенства. Мы так насыщены им, что порою нам лень измываться над его предметом. Легкое дрожание ноздрей, на мгновение прищурившиеся глаза – и молчание. Но сегодня давайте говорить.
Десять лет презрения. Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какого-нибудь Ком-пом-цом, а ту уродливую тупую идейку, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая из людей делает муравьев, новую разновидность, formica Marxi var. Lenini. И мне невыносим тот приторный вкус мещанства, который я чувствую во всем большевицком. Мещанской скукой веет от серых страниц «Правды», мещанской злобой звучит политический выкрик большевика, мещанской дурью набухла бедная его головушка. Говорят, поглупела Россия, да и немудрено… Вся она расплылась провинциальной глушью – с местным львом-бухгалтером, с барышнями, читающими Вербицкую и Сейфуллину, с убого-затейливым театром, с пьяненьким мирным мужиком, расположившимся посредине пыльной улицы.
Я презираю коммунистическую веру, как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое свободное «я», как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства. Сила моего презрения в том, что я, презирая, не разрешаю себе думать о пролитой крови. И еще в том его сила, что я не жалею, в буржуазном отчаянии, потери имения, дома, слитка золота, недостаточно ловко спрятанного в недрах ватерклозета. Убийство совершает не идея, а человек, и с ним расчет особый – прощу я или не прощу – это вопрос другого порядка. Жажда мести не должна мешать чистоте презрения. Негодование всегда беспомощно.
И не только десять лет презрения… Десять лет верности празднуем мы. Мы верны России не только так, как бываешь верен воспоминанию, не только любим ее, как любишь убежавшее детство, улетевшую юность, – нет, мы верны той России, которой могли гордиться, России, создавшейся медленно и мерно и бывшей огромной державой среди других огромных держав. А что она теперь, куда ж ей теперь, советской вдове, бедной родственнице Европы?.. Мы верны ее прошлому, мы счастливы им, и чудесным чувством схвачены мы, когда в дальней стране слышим, как восхищенная молва повторяет нами сыздетства любимые имена. Мы волна России, вышедшая из берегов, мы разлились по всему миру, – но наши скитания не всегда бывают унылы, и мужественная тоска по родине не всегда мешает нам насладиться чужой страной, изощренным одиночеством в чужую электрическую ночь на мосту, на площади, на вокзале. И хотя нам сейчас ясно, сколь разны мы, и хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч Россий, подчас убогих и злобных, подчас враждующих между собой, есть, однако, что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк.
И заодно мы празднуем десять лет свободы. Такой свободы, какую знаем мы, не знал, быть может, ни один народ. В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны, нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цензура нам не ставит преграды, мы свободные граждане нашей мечты. Наше рассеянное государство, наша кочующая держава этой свободой сильна, и когда-нибудь мы благодарны будем слепой Клио за то, что она дала нам возможность вкусить этой свободы и в изгнании пронзительно понять и прочувствовать родную нашу страну…
В эти дни, когда празднуется серый эсэсэсерый юбилей, мы празднуем десять лет презрения, верности и свободы. Не станем же пенять на изгнание. Повторим в эти дни слова того древнего воина, о котором пишет Плутарх: «Ночью, в пустынных полях, далече от Рима, я раскинул шатер, и мой шатер был мне Римом».
О национальной гордости великороссов:
Послесловие
Публикуемая краткая и малоизвестная статья В. Набокова 1927 г. фактически представляет собой опыт историософии – размышления о характере самоосуществления России в ХХ в.
Десятилетний юбилей революции 1917 г. стал для Набокова поводом сказать о существовании нескольких Россий.
России «новой», коммунистической – стране-иллюзии, замысливавшейся в модном нынче жанре социального проектирования. Проект не удался: Россия не реализовалась как идеальное «сверхобщество». И это закономерно: слишком дистиллированным, невнятным, лишенным человеческого измерения был компроект. «Россия коммунистическая» «свернулась» уже к 1927 г. Она осталась в воображаемом, фантастическом, виртуальном мире – как конструкция, манипулятивная технология.
Технологизированной мечтой подпитывалась Россия советско-мещанская, воинственная, строящаяся, соблазненная обещанием чуда, поверившая в чудотворца и разочаровавшаяся во всем, разорившая деревню и «деревенизировавшая» город, отдавшая все за сверхдержавность и сломавшаяся на ней. Страна из ряда вон, не как все, не по человеческой мерке.
России «старой» – страны не в мечте, а в реальности продвигавшейся по пути развития «производительных сил», гуманизации «производственных отношений», демократизации, либерализации всех сфер жизни. Далекая от идеала и не претендовавшая на идеальность, та страна в последнюю свою эпоху соединила все русские ужасы с непревзойденными – ни до, ни после – возможностями и надеждами. Но главное – позволяла просто жить в ней человеку – обычному и из ряда вон, удачливому и не слишком.
Творчество стало в ней главным социальным императивом, обновленческие процессы доводили до крайности все противоречия, обострили все угрозы. До определенного момента «России старой» удавалось сдерживать, уравновешивать, переваривать в себе взрывные ингредиенты. Социально опасные тенденции растворялись в нормальной жизни, гасились ее обычностью, привычностью, инерционностью. Та страна, надломленная мировой войной, закончилась революциями 1917 г. На выжигание, выдавливание, вытравливание из себя норм и нормальности «старой России» ушло постреволюционное десятилетие. По существу, ее конец и праздновался в 1927 г. в СССР.
России вне России – части «закончившейся» страны, не прошедшей обработки коммунизацией, но лишенной своей материально-физической почвы, выброшенной в окружающий (европейский и азиатский) мир. Космополитичная, раздробленная, внутренне конфликтная и враждующая среда имела общую идею, одну привязанность – образ России. Ощущение и постоянное переживание своей русскости объединяло ее поверх всех различий. Пересмотрев и отринув «старую Россию», она ее продолжила, реализовав накопленный в ней, ею взращенный потенциал.
«Россия вне России» была адекватна – по культуре, сложности восприятия и действия, изломанности и «лишенности» – миру, в который погрузилась; жила в одном с ним цивилизационном времени. И не расплавилась, не растворилась сразу в котле космополитичности. Обретя полную независимость, абсолютную свободу, она творчески реализовалась в самой полной мере. Плоды этой реализации достались всему миру; ими пропитана европейская культура. Но самоосуществившись, «Россия вне России» не сохранила себя, не продолжилась. Фактически она закончилась со Второй мировой войной.
Набоковский «манифест», ее воспевший, имеет прямое отношение к нам, сегодняшним русским. Строя очередную «новую Россию», мы забыли обо всех источниках национальной гордости, перестали понимать, в чем она, эта гордость, заключается. Уцепившись за Победу как за последнюю соломинку, обрезали себе все иные нити в прошлое и ориентиры в будущее. В. Набоков возвращает нам основание для гордости – Россию, соединившую в себе русскость с современностью, культурную изощренность – с практичностью и стойкостью, на деле осуществившую «самомодернизацию». Память о ней дает устойчивое горделиво-осмысленное ощущение русскости, не сводимое к этничности, вере, милитарности и «сверхпространственности». В сердцевине этой русскости – культивируемые чувство человеческого достоинства, уважение к Другому и дистанцирование от злобно-агрессивного, всем продающегося и всех предающего, все усредняющего и опрощающего мещанства.
О. Александр Шмеман о РоссииИ.И. Глебова
Но реял над нами
Какой-то особенный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.
Г. Адамович
Здесь собраны некоторые записи о. А. Шмемана из его «Дневников»125125
См.: Шмеман А., прот. Дневники: 1973–1983 / Сост., подгот. текста У.С. Шмеман. Н.А. Струве, Е.Ю. Дорман; Предисл. С.А. Шмемана; Примеч. Е.Ю. Дормана. – 2-е изд., испр. – М.: Русский путь, 2007. – 720 с.
[Закрыть]. Они все посвящены русской теме. Мною предпринимается рискованная попытка вырвать эти записки из контекста. Тем самым, разумеется, существенно обедняется их содержание. Однако есть, на мой взгляд, смысл выделить их и прокомментировать. Настолько для нас важна мысль о. Александра.
Он одно из лучших порождений той России, о которой писал В.В. Набоков в своей маленькой статье 1927 г. (см. настоящее издание). Эта, набоковско-шмемановская, Россия (и здесь не важно, что о. Александр очень сложно и во многом неодобрительно относился к великому писателю) строилась несколько столетий. И когда здание было в целом готово, русский народ с безразличной ненавистью начал его рушить. Эта Россия спаслась в эмиграции. Не в институтах и процедурах, а в людях. Она показала каким может быть русский человек. То, что не удалось реализовать в социальном измерении, свершилось в личностном. Скажу больше: набоковско-шмемановский мир явился не только продолжением, но и шагом вперед даже в сравнении с пушкинско-блоковским. Главное здесь, что эти русские осуществились и как все набирающая силу пушкинско-блоковская (толстовская, достоевская, чеховская и пр.) традиция и как «граждане мира». И уже не в пророческо-экзальтированном видении Федора Михайловича (его речь 1880 г.), а в натуральном, практическом.
Поразительно, как это глубоко и ностальгически почувствовал Василий Аксенов в своем «Острове Крым» (популярном, но недооцененном). При этом замечу: реальная история оказалась хитрее вымысла тонкого художника. Они не зацепились за «Крым», они построили его в себе, разнесли по свету… Г.В. Федотов, один из ярчайших представителей этой России, говорил (в эмиграции) о беспочвенности русской интеллигенции. И у нас (в ПОСТ-СССР) любят повторять его слова (вырвав из федотовского контекста, камнем в морду очкарику). Так вот, они (набоковы, шмеманы, вишняки, струве и т.д.) в изгнании обрели самую прочную почву – русскую культуру как неотъемлемую часть мировой, русский исторический опыт как уникальный опыт… За ними не стояли империи, самодержавии, экономики и пр. Лишь «реял… какой-то особенный свет».
Может показаться (кому-то? многим?), что эти утверждения тривиальны. Кто же возьмется оспаривать очевидные, особенно интеллектуальные и эстетические, достижения русской эмиграции?! – Да я не об этом. Даже гениальная Марина Цветаева уговаривала (в стихах) своего сына ехать в СССР, в мир будущего, в страну какого-то неведомого, но очень интригующе-зовущего, небывалого строя и настроя, в «на-Марс-страну». Параллельно с ней, до нее и после тьмы и тьмы мыслителей, мечтателей, литераторов, ученых и пр. видели в СССР какую-то новую цивилизацию, грандиозный эксперимент социального футуризма. Даже противники Совдепии (не все, конечно) не отказывали ей в общественном новаторстве.
А оказалось все совсем не так. «Россия в изгнании» (З.Н. Гиппиус об эмиграции) дает нам пример русского современного человека. Русского и современного. И человека. Свободного. Всемирного. И снова – русского. СССР же «вдруг» оказался нереформируемым, запутался в «антагонистических» противоречиях, сгнил, раскрошился. И как смешны эти «крепка броня…», «нынешнее поколение советских людей…» и т.п. Оказалось: все, что ни делал этот СССР, некачественно. Здания, дороги, промышленность, сельское хозяйство и самое главное – человек. Советский человек (по себе знаю).
Вот почему так важны свидетельства других русских. Как они все это видят? В каком контексте ими рассматриваются русские дела? Какой язык для понимания они выработали?
И еще одно предварительное замечание. В своих «Дневниках» о. Александр много места уделяет А.И. Солженицыну, грандиозной личности, великому художнику. Он в постоянном мысленном диалоге (и споре) с Александром Исаевичем. Но и многое видит в России через судьбу и творчество своего современника и друга. Вообще тема «О. А. Шмеман и А.И. Солженицын» крайне важна для понимания русских путей в ХХ в. Но в этой публикации-комментарии она, конечно, не центральная, хотя…
Ю.С. Пивоваров
3 июня 1977 г., понедельник
о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 380)
…Письмо вчера от Солженицына: «…душевно хочу, чтобы в это лето Вы сумели бы найти время и для исследований по русской истории. Просто болен я от тех представлений и книг о нашей истории (еще новинка: Walter Sablinsky. The Road to Bloody Sunday. Princeton University Press126126
Уолтер Саблинский. «Путь к Кровавому Воскресению». Издательство Принстонского университета (англ.).
[Закрыть]), какие формируют западное мировоззрение. А опровергать некому: велика русская эмиграция, а сил не видно…».
Тянет написать ему о том, что мне представляется ключевым:
1) О происхождении и значении этого отрицательного, западного русского мифа. О вине в возникновении этого мифа самих русских, вине хотя бы частичной. Наша историография сама «мифотворческая». История каждого народа – трагична. Нужно поэтому прежде всего эту трагедию, так сказать, «сформулировать». Наш трагизм в постоянной и чрезмерной поляризации, приводящей к манихейству. Словно у русских нет общего прошлого, общей судьбы, по отношению к которой нужна прежде всего правдивость, решимость посмотреть правде в глаза. У всех других народов их прошлое, так сказать, «отсеялось», стало «контекстом» размышления и оценок. У нас – нет. Все спорно, все предмет страстных разногласий.
2) О смысле неудержимого левого крена в мире, и это – несмотря на «ГУЛаги», на очевидный и кровавый крах левого эксперимента буквально повсюду. Причина: у «правого» нет мечты, он – пессимизм, недоверие, страсть к status quo, а на деле – логика власти и наживы.
3 июня 2010 г., четверг
Юрий Пивоваров
Да, у русских нет «общего прошлого, общей судьбы». И поляризация, и манихейство (о чем любил и умел писать покойный А.С. Ахиезер) – не «случайны», конечно. Причина в расколе на две цивилизации, две культуры, два «враждебных склада жизни» (В.О. Ключевский) – результат петровской революции. И по сей день этот раскол не преодолен (раньше я ошибочно полагал его «давно прошедшим временем»). Две России по-прежнему стоят (правда, может сегодня уже и лежат) друг против друга. Россия современная (Modernity) и Россия «XVI века». В действительности все сложнее и перепутанее, но теоретически, научно – это так. В «рамках» каждой из этих двух Россий тоже непросто, многосложно, различно. Однако не антагонистически с «точки зрения» истории, большого исторического времени.
Короче: этот, более чем на три века, раскол и есть то, что блокирует возникновение «общего прошлого, общей судьбы». Тем не менее наша задача встать над этим расколом и дать понимание русского пути, не провалившись в пространство между Россиями, а вобрать их в себя. И на выходе сказать о России двух Россий точно и непредвзято ни в какую сторону.
Далее. Прошлое, как у других народов, у нас не «отсеялось». Не ушло, оно с нами, оно – мы. Здесь время течет по-другому. Причина все та же: гражданская война двух Россий. Именно она блокирует возможность выработки общесоциального консенсуса по отношению к прошлому.
Не думаю, что ГУЛАГ – это «левый крен», «левый эксперимент». Большевизм начинался как леворадикальное движение. Но довольно быстро обернулся не левым или правым (или лево-правым), а погромномордобойным, насильнически-упрощающим и наивно-утопическим режимом127127
Как хорошо о себе сказал Владимир Буковский: я не из правого и не из левого лагеря, я из концлагеря.
[Закрыть]. Вообще большевизм мог быть (и был) в каждый момент чем угодно – гуманизмом, оптимизмом, коллективизмом и т.д. Но это – маски, «элементы», «прикиды», суть – насилие над человеком. И, конечно, он нанес ущерб мировому левому проекту. Но явление социал-демократии, социал-реформизма спасло левое дело. Вслед за Ральфом Дарендорфом скажу: социал-демократия – лучшее, что было в ХХ веке (пусть одно из лучшего; кстати, Дарендорф – либерал, а не социалист). – Да и правое не столь однозначно и уныло «отрицательно», как полагал о. Александр. У христианской демократии, консерваторов свои большие заслуги перед нашей эпохой.
Мое расхождение с А. Шмеманом объясняется во многом тем, что я западное, левое и правое, сужу со стороны (советско-русского опыта; сколько бы я ни «занимался этим самым Западом и ни живал на нем в последние два с лишним десятилетия), а он советско-русское тоже со стороны (эмигрантско-западного опыта; сколько бы ни входил в понимание этого самого советского-русского и ни был русским, каким «мы его увидели через двести лет»; помните, что хотел сказать этим Николай Васильевич Г.?). Здесь «поправлю» С.А. Есенина: конечно, «лицом к лицу лица не увидать», но все это значительно эффективнее, чем если «лица» вообще «не видать». Вот так о. Александр не «видел» советского, а я – западного.
6 июня 1977 г., четверг
о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 386–381)
…«Обреченность» империи в 1914 году (тема, общая Ульянову128128
Ульянов Н.И. (1905–1985) – русский историк, эмигрант, автор известной книги «Происхождение украинского сепаратизма».
[Закрыть] и Солженицыну) – откуда, почему она? Надо ли, для истолкования ее, вводить нечто «таинственное» или достаточно фактов? Весь комплекс Государя (личная слабость, императрица, Распутин) – решающий ли это фактор? Если бы, скажем, вместо Николая II был царь типа Александра III, можно ли бы было избежать «обреченности»? Солженицын, думается мне, прав, видя корень этой обреченность в неизмеримо более глубоких «узлах» (хотя толкует он их – например, в том, что касается XVII века, – по-моему, неправильно). Обреченность, прежде всего, – во внутреннем распаде России, в том, что in the moment of truth129129
В момент истины (англ.).
[Закрыть], которым стал «проклятый» 14-й год, была не одна, а много Россий, и монархия их уже не соединяла, не претворяла в «единство». От любого толчка Россия неизбежно должна была распасться, и ее «единство» сейчас – только голой, тоталитарной властью, не случайно, а закономерно.
К началу ХХ века Россия, как это ни звучит риторически, потеряла душу: вот причина ее обреченности. И потому смерть вошла в нее. И единственный вопрос: может ли душа эта «возродиться»? Единственный замысел, единственный и по свой страстности, – Солженицына, как раз такое «возрождение души». Отсюда два следующих вопроса: возможно ли это вообще, по существу? Способен ли он на это? Ответ на оба вопроса – сомнителен, для меня во всяком случае.
6 июня 2010 г., воскресенье
Юрий Пивоваров
А вот здесь О.А. Шмеман, А.И. Солженицын, Н.И. Ульянов и подавляющее большинство тех, кто писал об этом, – ошибаются. Россия в 1917 г. погибла не на «закате», а на подъеме. Она мощно шла вперед, решая старые, накопившиеся вопросы, и творя одновременно себя будущую, настающую (при этом, естественно, порождая новые для себя проблемы, которые также «болели»). Это лучший период русской истории. Живой, динамичный, отважный, равновесно-щадящий и пр., пр., пр.
Непонимание всего этого, неисчислимые клише «слабый, безвольный Николай» – какая-то роковая ошибка русского самосознания. Психологическую основу этих господствующих заблуждений я понимаю. Этакая историческая обида – «они тогда все проиграли и нашу жизнь тоже…» и т.п. Здесь все ясно. Однако это не отменяет ложности подобных оценок.
Пока мы не уразумеем, что революции, разломы, падения случаются далеко не всегда в моменты худшие, проигрышные, развальные, но, напротив, – в благословенные, расцветные, поисковые, будем неправильно оценивать прошлое и настоящее, предполагать будущее. Революции – «штуки» сложные, таинственные, исторически длительные; когда они «выстрелят», неисповедимо. Тем не менее замечу: и в Англии, и во Франции, и у нас – в лучшие и сытые (в России, несмотря на войну) времена.
Когда о. Александр говорит о «внутреннем распаде», о «множестве Россий», надобно понять: наше отечество усложнялось, плюрализировалось, превращаясь постепенно в сложнодифференцированное общество. И роль монархии, разумеется, менялась. Она объективно, сознательно и творчески освобождалась от функции «соединять», «претворять в единство». Монархия искала и обретала новые роли, новое место в общерусской диспозиции. Уже не «моносубъектное». Не строгого дядьки в кадетском корпусе, не грубого полицейского вахмистра, не городничего. Но – особой политической силы, модератора, координатора и наряду с этим хранителя традиций. И традиционно инициатора новаций…
Что касается «тоталитарной власти», «голой… власти», которая обеспечивала «единство» России, то это следствие тотальной гражданской войны, в которую впала родина. Но это уже другой разговор, разговор о другом.
Россия не «потеряла душу» к началу ХХ века, она обретала новую, ее душа росла. И вообще: что значит – Россия «потеряла душу»? И это «причина ее обреченности»? – На вопрос вопросом: что такое «душа» России? Православное христианство? Но ведь никакого «особенного» его заката в начале века не было. А вот наличное православие находилось явно не в «лучшей форме». Однако это не тема «души». Или, по А. Шмеману, внешние и внутренние нестроения в православии суть «потеря души»? Так они «всегда» были и как раз сто лет назад над ними начиналась работа. Или «душа» – монархия? – Мой ответ см. выше.
Не было и никакой обреченности. Также см. выше. – В подтверждение этого и в память о Белле Ахатовне Ахмадулиной (твердое третье место в русской женской поэзии ХХ столетия; с него она подвинула изумительную Марию Петровых – «ты, Мария, гибнущим подмога»; среди современников тоже третья – после Бродского и Высоцкого) напомню гениальное стихотворение об Анне Ахматовой в 1912 г. – «Снимок». Там есть такое: «Как на земле свежо и рано». Лучше о прологе века не скажешь. Какая обреченность?! Какая потеря души?! Свежо и рано…
8 ноября 1977 г., вторник
о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 396–397)
…Годовщина Октября – шестьдесят лет! В «Русской мысли» – собрания «верности» и «непримиримости». Еще десять–пятнадцать лет, и «первой эмиграции» не останется. Не будет в «Хронике» оповещений о собраниях «гвардейской конницы» и «союза дворян». Останется и там, и за рубежом – только советская Россия, совсем другая прежде всего по своей тональности. Думаю об этом, и почему-то начинает звучать строчка из адамовического «Когда мы в Россию вернемся» – «…как будто Коль Славен играют в каком-то приморском саду…». Однако возвращаться будет некому и некуда. России эмигрантской – совсем особенной, той, что увидел Ходасевич в своих «Соррентинских фотографиях», – уже не будет. Поймет ли всю ее важность, единственность, незаменимость – для русской памяти – Россия советская? Не знаю. А, может быть, появятся «там» – «специалисты по эмиграции», «эмигрантоведы» с научными журналами и примечаниями. Возникнет, может быть, даже своего рода «культ» эмиграции, мода на нее. Но как поймут и разгадают они этот опыт: французская деревня и русский кадетский корпус; перспектива парижских бульваров как «фон» «Коль Славен» и «приморского сада…»? И т.д. Почему у меня чувство, что их мы понимаем, и даже очень хорошо, а они нас – никак? Может быть, потому, что эмиграция была прошлым в настоящем, и даже в нас, эмигрантских детях, на настоящее смотрела из живого прошлого, тогда как у них только настоящее, ибо никакого «прошлого», кроме этих пустых – хотя и кровавых и страшных – шестидесяти лет, нет…
8 ноября 2010 г., понедельник
Юрий Пивоваров
О. Александр как в воду глядел: появились здесь «специалисты по эмиграции». Оказалось выгодное дело. В Париже прогуляться, прокомментировать что-нибудь «красивое», себя к тем (незаметно так) подтянуть. Если честно: то, как и многое у нас, почти все – мародерство. В смысле: поле битвы после победы принадлежит мародерам.
Автор дневника очень тонко чувствует «энтелехию» эмиграции. Ее красоту, эстетику, ее правду и обреченность. Хотя, думаю, ошибается относительно «прошлого в настоящем». Скорее, эмиграция была будущим в настоящем. Будущим той России, которой она обещала стать в начале столетия (опять же на ум идет ахмадулинский «Снимок»). Я уже говорил об этом. Но не грех и повторить.
А вот советскую Русь в данном случае о. Александр не понимает. Да, годы были «кровавые», «страшные», «по-своему» пустые». От «прошлого» отказывались. Все так. – И не так. «Жизни бедной на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат». Здесь была величайшая в истории человечества поэзия, великая музыка, поразительная проза, ни с чем не сравнимое горение душ «русских мальчиков» (Ф.М. Достоевский), Отечественная война, инакомыслие и правозащитники… Нет, вновь клише, вновь поверхностно. – «Сквозь прошлого перепитии, сквозь годы войн и нищеты я молча узнавал России неповторимые черты». Если выстроить список великих русских людей, живших под Советами, голова закружится. И об этом надобно помнить.
10 ноября 1977 г., четверг
о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 397–398)
Завтрак… в ресторане Объединенных Наций. Разношерстная толпа делегатов, но все они как бы исполняют обряд и все – часть этого обряда: и огромные, как храмы, залы, залитые солнцем, и их манера прохаживаться друг с другом, вежливо беседуя, и их разодетость. И я подумал, что, какова бы ни была слабость, «дутость» Объединенных Наций, все это только и полезно, и нужно, и оправдано как именно обряд. Ибо обряд, нами совершаемый, нас в известном смысле определяет, к нам обращен. Обряд воплощает мечту, видение, идеал, все то, чего в «эмиграции», может быть, и нельзя воплотить полностью, он подобен словам, о которых сказано, что «от них оправдаешься и ими осудишься…»130130
См.: Мф. 12:37.
[Закрыть]. Мир без обряда – только игра голой силы.
У входа, на припеке, стояло четверо советчиков – не дипломатов, а, по-видимому, каких-то «нянек», держиморд, агентов. Не знаю. Но, глядя на них, мне стало страшно: страшные скуластые лица, наглые и одновременно мертвые глаза. Система, выращивающая таких «антропоидов», – дьявольская…
И «L’Express», и «Le Nouvel Observateur» этой недели посвящены шестидесятилетию Октября. И конечно, самое поразительное в этой жуткой истории – это то, как долго мир, вопреки всему, страстно и восторженно верил в нее. Я думаю, во всей истории мира не было ничего одновременно более трагического и более смешного, чем эта вера, это решение верить, это напряженное самоослепление. Тут доказательство тому, однако, что в мире сильна и «эффективна» только мечта. И если умирает в человеке мечта Божья, он бросается в мечту дьявольскую. Но поэтому и бороться с дьявольской мечтой, дьявольским обманом можно только мечтой Божьей, возвратом к ней, но именно она-то и выветрилась, обессолилась в историческом христианстве, обратилась в благочестие, быт, испуганное любопытство к «загробной жизни» и т.д. Вырождающийся коммунизм все же продолжает твердить о революции, о «changer de vie»131131
«Перемене жизни» (фр.).
[Закрыть]. Христианство же предало даже свой «язык», свою сущность как благовестие – приблизилось Царство Божие, ищите прежде всего Царства Божия… Все это банально, устаешь повторять, и, однако, тут, только тут, только в этой измене эсхатологии – причина исторического развала христианства. Мировой пожар, раздутый скучнейшим коммунизмом («массы» и т.д.), – какой это, в сущности, страшный суд над христианством.
10 ноября 2010 г., среда
Юрий Пивоваров
Ни прибавить, ни убавить! Описание «советчиков» – точнее ни скажешь! – В последние годы я много говорил об «антропологической (антропной) катастрофе», случившейся в России в ХХ в. И делал упор на убитых, замученных, умерших от голода, на вымывание лучших, дельных, творческих и т.п. А вот о. Александр об «антропоидах». Да, это еще более страшное и «необратимое». Раса «антропоидов» («Советский народ – новая историческая общность», – прочавкал Брежнев) – новое и в русской, и в мировой истории. Это главная удача и победа большевиков-коммунистов.
…Октябрю – шестьдесят лет. А. Шмеман поражается тому, как долго и глубоко обольщался мир явлением советского большевизма. Наверное, не мне судить. А вот Россией, Россией – вообще, Россией – самой по себе никогда не обольщался. Более того, если Франция есть «возлюбленная дочь» римско-католической церкви, то Россия – нелюбимое дитя христианского мира. Знаю, скажут: да нет, все это русская больная психика, подростковые комплексы неполноценности и т.п. – Если бы! Это-то можно изжить, преодолеть. Нас в мире не любят. Точка. Нас не любят как таковых, а не из-за большевистского зла; им-то и восхищались (другие – боялись и потому «уважали»). – Почему? За что? – За многое, конечно (что справедливо). Но главное – другие и притом слишком близко. Опасно-большие, варварски-чужие, вечно «больные». И никак не хотят (не могут) цивилизоваться. Россия – холод, лед, люди-звери, «азиатский» царизм, «неправильная» церковь («эти попы»), погромы, водка, нечеловеческие размеры (пропадешь в этой нескончаемой студеной пустыне) и пр.
– Что ж, коль мы такими видимся или представляемся, ничего не поделаешь. Надо, разумеется, и самим улучшаться, и пытаться этот «миф» разрушить. …Но, думаю, шансов изменить отношение у нас мало. Очень уж «миф» этот устойчив. Из своего личного опыта знаю: западного человека не «пробить». Он органически с русскими высокомерен, «учителен» и недоверчив.
А вот уравнение А. Шмемана – чем больше свои позиции в мире и самое себя теряет христианство, тем сильнее и опаснее становится коммунизм – абсолютно верное. Добавлю к коммунизму – национал-социализм, фашизм, разные псевдорелигиозные фундаментализмы (что еще?, увы, есть, есть, могут быть), а к христианству – либерализм, консерватизм, социал-реформизм.
18 ноября 1977 г., пятница
о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 398–399)
Получил сегодня 122-й номер «Вестника»132132
«Вестник русского христианского движения» (до 1974 г. – «Вестник студенческого христианского движения») – религиозный, философский и литературный журнал русской эмиграции, издается с 1925 г. в Париже.
[Закрыть]: «умеренный» выпад против меня Солженицына – о том, почему мой ответ на его «Письмо из Америки»133133
Эта работа А.И. Солженицына была опубликована в «Вестнике русского христианского движения» в 1975 г. (№ 116).
[Закрыть] его «не удовлетворил» и «огорчил». Не удовлетворил потому, что-де не объяснил автокефалию, огорчил потому, что был не ответом ему, а новым выпадом против старообрядцев. Читая это, не знаешь, что и думать. Ведь он же никакого объяснения автокефалии не просил, а презрительно, с кондачка и поверхностно ее отвергал: что же тут объяснять… Что же касается старообрядчества, то опять-таки не я, а он поднял эту тему, причем безоговорочно оправдывая старообрядцев и оплевывая «никониан»… Самое грустное то, что этот выпад меня даже не огорчил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































