Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 2"
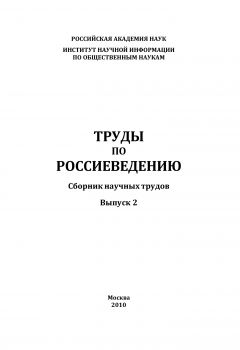
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
Третье. Исследования, посвященные российскому политическому режиму, как правило, носят «москвацентричный» характер. Но взгляд на политическую систему, «вертикаль власти» из провинции имеет свою специфику. Исследования, проводимые в регионах, свидетельствуют о существовании «разных Россий». Происходящее на уровне федеральной власти необходимо сопоставлять с тем, что происходит в российских регионах, т.е. учитывать региональное многообразие.
Четвертое. Российский политический режим становится более понятным в контексте международных сравнений. Интересные результаты могут быть получены при анализе политических изменений, происходящих в странах, имеющих разную политическую традицию. Здесь важно сконцентрироваться на следующих процессах: расширении полномочий исполнительной власти в ущерб власти представительной118118
Bourmaud D. La Constitution de 1958 et les partis politiques: Le gage de fer du présidentialisme // 1958–2008, Cinquantiиme anniversaire de la Constitution française / Sous la dir. de Mathieu B. – P.: Dalloz, 2008. – P. 591–597.
[Закрыть], возрастающем персонализме власти, порождающем «интоксикацию властью»119119
Owen D. The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the intoxication of power. – L.: Polico’s publ., 2007.
[Закрыть], приходе к власти в разных странах мира нового поколения агрессивной элиты120120
Higley J. The Bush elite: Aberration or harbinger? // The rise of anti–americanism / O’Connor B., Griffiths M. (eds). – L.: Routledge, 2006. – P. 155–168.
[Закрыть]. При этом необходимо понимать различия: в странах развитой демократии указанные процессы – это реакция на новые вызовы, связанные с глобализацией и появлением новых рисков, тогда как в России – результат несложившейся демократии. В случае России и Франции полезно сосредоточиться на особенностях президентского режима. Представляет интерес сравнительный анализ социальных процессов, которые не укладываются в парадигму исторического отставания (например, феминизации политической элиты России и Франции).

В.Г. Ледяев, Государственный университет–Высшая школа экономики: Не думаю, что для французских исследователей очень актуальна тема изучения режима во Франции. Они давно с этим разобрались, и там, в общем-то, единства больше. Для нас же это чрезвычайно важно: мы должны знать, где находимся. Тема доклада представляется мне интересной именно с этой точки зрения. Кроме того, французские авторы меньше представлены в нашем академическом пространстве, чем англоязычные. Мне было интересно, насколько схожи или различаются их позиции.
Доклад показал, что имеется, с одной стороны, единство (т.е. нет большой разницы между нами и не нами), а с другой – внутри каждого исследовательского сообщества существует довольно большой разброс. Напомню фразу Натальи Юрьевны: «Взгляды российских и западных аналитиков на современный режим в России несколько поляризованы». Тут мне хотелось бы кое-что прокомментировать. Представьте себе, что мы всем зададим вопрос: есть ли в России правовое государство, нормальная партийная система, конкурирующие институты, которые эффективно представляют различные социальные группы? Не сомневаюсь, что все скажут: «Нет». Вполне понятное исключение составят только политизированные аналитики. На уровне констатаций, эмпирическом, будет довольно сильное единство; причем среди тех, кто оценивает нынешнюю ситуацию как позитивно, по сравнению с коммунизмом, так и не очень.
Какие-то различия появятся, скорее, в интерпретации источников, в том, какие модели, термины, концепты используются для анализа режима. Очень типичное объяснение дает культурологический подход. Транзитология трактует иначе – виноваты акторы: все зависит не только от каких-то вековых традиций, но и от того, что делают конкретные люди. Здесь различия имеются и среди французских, и среди российских авторов. Разные оценки даются состоянию режима. Очень удачна метафора оптимиста-пессимиста – как в известном анекдоте: полстакана водки для оптимиста – это уже́ полстакана водки, а для пессимиста – всего полстакана. Мы пессимисты: нам хочется полноты. Но главное, все видят, что в стакане-то – только половина. Для некоторых это состояние нормально: иначе мы никогда и не жили и, в общем, рассчитывать было не на что. Для других это некая полукатастрофа, крах надежд.
Второй момент, на который мне бы хотелось обратить внимание. В принципе, доклад Натальи Юрьевны несколько вышел за заявленные рамки. И я, в общем, понимаю, почему. На самом деле она рассказывала не только о режиме, но и о том, что можно назвать властью (или структурой власти, или конфигурацией властных акторов, или элитным состоянием, или как-то еще). Все это действительно связано, особенно у нас. Совокупность акторов определяет режим. Поэтому многие либерально настроенные авторы, не очень этот режим любящие, считают, что его можно убрать, лишь исключив этих акторов. Тогда получается, что при сохранении нынешней конфигурации режим будет стабилен.
Для меня же понятно, что сила доминирующих сегодня акторов заключается как раз в самом режиме – в специфике той среды, в которой они обитают: именно она их поддерживает и им благоволит, давая структурные преимущества. Строго говоря, режим – это не акторы, а некое пространство, климат. Или это возможности: человека не убьют или убьют, посадят или нет, если он пойдет на демонстрацию, сможет или не сможет он услышать иное мнение и т.п. Это первоочередные вещи для характеристики режима. В этом смысле показательны описания американской власти. Там не все благополучно с точки зрения демократической теории: правят господствующий класс и корпорации, существуют всевозможные ограничения демократии. Но там другой климат, заставляющий властвовать определенным – иным, чем у нас, – способом.
Еще один аспект, который мне хотелось бы затронуть, хотя в докладе это активно и не прозвучало: сопоставление нынешнего режима с советским. С резюме Натальи Юрьевны я абсолютно согласен: тезис о реставрации советской системы сомнителен. Но мне интересно другое: почему этот тезис тем не менее возникает. На мой взгляд, дело не только в том, что возвращается символика, а съезды нынешней партии чем-то похожи на съезды КПСС. Кроме внешней, визуальной схожести есть элементы сходства по существу. И здесь я вспоминаю труды советологов, которые когда-то читал в ИНИОН (правда, не по-французски, а по-английски). Как мне кажется, там есть очень много интересных сюжетов, которые можно связать с современным режимом.
Вспомните: тоталитарную концепцию, не очень долго доминировавшую, в 1960-е годы сменила так называемая бюрократическая модель. Суть ее примерно следующая: не тотальный контроль из «центра», а создание конструкции, напоминающей, скорее, корпоративную структуру. То есть появление некоего механизма вместо организма: специфика режима объяснялась бюрократическими связями, которые пронизывали общество и, естественно, преобладали в политике. Мне кажется, это характерно и для нынешнего режима. Далее. Сегодня действительно усилилась бюрократия. Вполне возможны параллели с послесталинским периодом, когда она тоже была очень сильной. Конечно, это не полные аналогии, потому что сегодня бюрократия все-таки другая, но параллели…
Еще один интересный вопрос, который не так ярко прозвучал, – об уникальности и универсализме. Его толкование в рамках транзитологической парадигмы неизбежно ведет к тезису об отставании России. Это непосредственно связано с тем, чем я сейчас занимаюсь: анализ теорий, которые касаются не режимов вообще, а региональных властных практик. Мне интересно, насколько это применимо к нам. Так вот, вставая на позицию уникальности, мы очень сильно себя ограничиваем. Ведь уникальность – свойство любой страны; я не уверен, что мы более уникальны, чем Япония или Китай и т.д. В этом смысле сравнительный метод действительно полезен. Поэтому нам нужны классификации, хотя они несколько и оглупляют.
В то же время необходимо учитывать: создавая классификацию, мы неизбежно вносим в нее какие-то ценностные смыслы. Скажем, А. Линц, придумывая свою классификацию режимов – тоталитарный, авторитарный, демократический, – подразумевал, что демократия лучше, чем не-демократия. И мы не можем от этого отказаться. Если принять эту естественную, на мой взгляд, позицию, то мы совершенно точно отстаем: эмпирически действительно находимся ближе к тому участку спектра, который является недемократическим. В этом смысле я, например, не склонен обвинять тех, кто скажет, что Россия отстает. Но при этом мы открыто заявляем, что демократия – наш идеал. Очень важно, что это зафиксировано в Конституции. Однако я думаю, что в своей критике компаративистам и транзитологам, слишком уж настаивающим на универсальности, следует держаться более умеренного тона. Поэтому акцент французских авторов на специфике мне весьма симпатичен.
И наконец, собственно о режимах. Я думаю, их следует рассматривать как разные стороны континуума: скажем, авторитарный режим и демократия – это полярные точки, между которыми располагается некое пространство. Поэтому мне понятно, когда говорят о демократиях с приставками. Наша ситуация очень противоречива: нельзя с уверенностью сказать: демократия у нас или мы – в авторитарном режиме. Конечно, мне понятны аргументы авторов, которые все-таки пишут про авторитаризм в России. Когда мы выходим за пределы внешних институтов, набор авторитарных характеристик режима начинает превалировать над демократическими. В качестве варианта мне кажется полезной идея дефектной демократии – она указывает на самые важные дефекты. Так, наша демократия не вполне либеральна, слабы институты и т.д. В остальных же аспектах она в общем-то похожа на другие. Преимущество иных вариантов объяснения – различных гибридов, управляемого плюрализма – в том, что они четко показывают: мы – не в демократии.

С.П. Перегудов, ИМЭМО РАН: Наталья Юрьевна представила достаточно широкий спектр подходов к проблеме режимов. При этом подчеркнула, что выбор их индивидуален. Я бы добавил: индивидуален – с учетом ситуации.
Скажем, я в последние три года занимался российской политической системой в основном в том ключе, который докладчик определил как институциональный, а я бы назвал системным. В настоящее же время больше востребован подход, который Наталья Юрьевна характеризовала как историко-трансформационный. Я бы даже сказал, что сейчас он доминирует. Причина ясна. В докладе поставлен главный вопрос: почему режим Путина не привел к тем результатам, которых от него ожидали? И для ответа на этот вопрос, мне кажется, лучше всего использовать историко-трансформационный подход.
У меня несколько иной угол зрения. В последнее время я занимался темой, очень созвучной той, о которой (среди прочего) говорил Валерий Георгиевич <Ледяев>: сопоставление советских и российских реалий. Я поставил ее в определенный контекст: плюрализм и корпоративизм в СССР и России (общее и особенное). Почему так? Потому что плюрализм и корпоративизм – два параметра, которые, с моей точки зрения, определяют сущность системы, режима. Причем работают они вместе. И сегодня я решил очень кратко сказать о плюрализме советском и российском, современном.
Сначала о советском плюрализме. Я считаю, что советский режим при Брежневе следует считать позднетоталитарным (так я писал еще в 1994 г. – так считаю и сейчас). Он очень серьезно отличается от классического тоталитаризма – ведь тоталитаризм (а я не согласен, что эта концепция ушла в прошлое) эволюционировал и изучать его нужно в контексте этой эволюции. Наиболее интересная характеристика позднего (брежневского) тоталитаризма – наличие в нем целого ряда плюралистических взаимодействий.
Это плюрализм в области культуры, в сфере экономики (его я определил как бюрократически-корпоративный), плюрализм научный (особенно в общественных науках, как ни странно это может звучать). Научный и культурный плюрализм, их взаимодействие с «привластными» людьми очень интересно показаны в дневниках Анатолия Сергеевича Черняева, который курировал в ЦК науку, и в частности общественные науки. (Я, кстати, написал довольно пространный обзор этих дневников для журнала «Полис».) Следует сказать еще о ведомственном плюрализме и т.д. Все эти «плюрализмы» сформировались на выходе из того тоталитарного монолита, который сложился при Сталине. Но вот чего там явно не было, так это политического плюрализма. Отсутствовала публичная политика; вообще, политика как таковая была изгнана из общественной жизни. Общество было деполитизировано. Поэтому я и считаю тот режим тоталитарным – это его главный признак.
Теперь о российском плюрализме. Он отличается от советского прежде всего своим политическим характером. У нас есть политический плюрализм: партии, парламентские фракции, различные организации гражданского общества и т.д., и т.п. Весь вопрос в том, какой это плюрализм. На мой взгляд, он «усеченный»: находится под властью, в рамках – в основном – властной вертикали. И это его в какой-то мере роднит с советским плюрализмом и с советской системой.
Причем, в центре этого плюрализма, я считаю, находится партийная система. Часто пишут, что наша партийная система – это какая-то имитация, декорация. Я с этим абсолютно не согласен. Партийная система играет значительную роль в нашем режиме, занимает в нем если не центральное, то очень важное место. Да, в центре партийной системы находится одна партия – «Единая Россия», «партия власти». Многие уже называют ее – и даже без кавычек – правящей партией. Я считаю, что, конечно, это не правящая партия и не партия власти, потому что она не формирует правительство, как в Европе, не имеет ведущей фракции в парламенте, как в Конгрессе США сейчас демократическая партия, не стоит над властью, как в Советском Союзе (там партийный аппарат, Политбюро и т.д. были вершиной власти).
Да, ЕР – при власти, но при этом она играет огромную роль в стабилизации этой власти. Вторую ее функцию я называю «нишеванием оппозиции»: оппозиция загоняется в ниши, где не может играть реальной роли. «Единая Россия», будучи под властью, обеспечивает политическую монополию. Третья функция – это функция общественной организации. Некоторые считают, что ЕР – бюрократическая партия. Ничего подобного. В своей статье в «Полисе» «Политическая система России после выборов 2007–2008 гг.» (2009, № 2) я пытался показать, как активно ЕР реализует общественную функцию. И наконец, следует выделить функцию легитимизации режима. Вроде бы у нас все – партии, парламент, выборы, – как у людей. И демократия, хотя и немножко, другая. В результате и режим легитимизируется. Конечно, не на сто процентов, но достаточно, чтобы его рассматривали как нормальный (или почти нормальный), современный – и в России, и на Западе.
Итак, «Единая Россия», выполняя все эти функции, обеспечивает единство, стабильность и в конечном счете – функционирование системы. В то же время я считаю, что такой способ организации и работы партсистемы заводит общество в тупик, блокируя возможности развития. Того развития, в котором действительно нуждается Россия. Сейчас многие аналитики отдают себе отчет в том, что система (и роль ЕР в ней) должна меняться. В этом смысле симптоматично появление доклада (Ежегодный доклад ИнОП «Оценка состояния и перспектив политической системы России», 2009), о котором так много говорят и который я считаю не очень сильным, а где-то и очень слабым. Изменения напрашиваются: весь вопрос в том, какими они будут.

В.П. Булдаков, ИРИ РАН: Доклад произвел на меня довольно грустное впечатление. Это связано вовсе не с его качеством (и еще менее с личностью докладчика), а с некоторыми сделанными выводами.
Прозвучала ключевая, на мой взгляд, фраза: политологи занимаются конструированием умозрительностей. Для меня это не ново. Уже не раз приходилось писать, что все наше обществоведение превратилось в конкурс химер воображения. Доклад лишний раз подтвердил это. Спрашивается, почему это происходит?
Ответ содержится в словах Натальи Юрьевны <Лапиной> о том, что в среде политологов над ней иронизируют как над «Геродотом». Это надо понимать так: политологам история просто мешает, им не до нее, им хватает забот на своей собственной делянке. Позвольте спросить: а не потому ли в вопросах о современной власти им приходится заниматься настоящим гаданием на кофейной гуще?
Главная беда нашего обществоведения – незнание российской истории, точнее – непонимание ее весьма наглядных уроков. Причем это относится и к самим историкам, работающим в основном по сценариям, навязанным властью. Между тем очевидно, что осмысление любых российских политических режимов – как прошлых, так и современных – немыслимо вне культурно-исторической почвы, на которых они произрастают. По моему убеждению, без понимания культурно-антропологической составляющей прошлого и современности рассуждать о «политических» режимах бессмысленно.
Позволю себе проиллюстрировать это на конкретных примерах, соответственно политологическим подходам, выделенным докладчиком.
Очевидно, что наша «политика» традиционно-архаична. Власть моносубъектна, в основе экономики лежит идея «государства-склада». Но что ее определяет? На мой взгляд, неспособность населения самостоятельно распорядиться наличными ресурсами (прежде всего, природными), породившая «религиозное» отношение к власти – большому Хозяину. Без преодоления этой исторической генетики всякие транзитологические вождения бессмысленны. И не стоит тешить себя компаративистскими иллюзиями – у нас все упирается в нежелание власти заняться самоусекновением и неспособность общественности заставить верхи (для их же блага, не говоря уже о прогрессе демократии) потесниться в сфере принятия решений.
Наши институты (как «политические», так и «общественные») – всего лишь декорации. Мы, однако, не умеем обходиться без этого суррогата государственности. Поясню это на конкретном примере, относящемся к XVII в. Спрашивается, что уцелело в Смуте, когда, казалось, превратилось в историческую пыль все (кроме полуобезумевших людей)? Оказывается, единственным уцелевшим институтом были приказы (см. блестящее новейшее исследование Д. Лисейцева) – ими успешно пользовались как всевозможные лжеправители, так и тушинское ворье. Другой пример. Всего через три года после «красной смуты» Сталин руками Молотова и Кагановича воссоздал институт диктаторского правления в лице номенклатуры, окончательно усовершенствовав его в 1925 г. Надо ли пояснять, почему в наше время мы как должное приняли идею восстановления «вертикали власти», не задумываясь, что гарантом демократии могла бы стать «горизонталь» общественной самодеятельности?
Сегодня, впрочем, было сказано и о субъектном подходе к оценке политического режима. Увы, он также дает весьма ограниченные возможности постижения природы существующей власти. Я только что закончил книгу, названную «Россия постреволюционная: Векторы психосоциальной динамики». Основой источник – «слезницы» простых людей, ложившиеся на стол Сталину. Послания с просьбой восстановить в партии (их большинство) я отбрасывал. То, что осталось, – сгусток эмоций. С одной стороны, налицо деструкция личности революционера, с другой – страхи перед всевозможными «врагами». В иерархии последних главное место занимали не прежние «буржуазия и помещики», не нэпманы и даже не кулаки, а коммунисты, комсомольцы, бюрократы, затем оппозиционеры, троцкисты, евреи, наконец, «империалисты». Необыкновенно высок накал ненависти к ближнему. Налицо совершенно неадекватная реакция на происходящее. Впору ставить вопрос о «психосоматической» природе российской «политики».
При анализе властных практик – их успехов и сбоев – важнее всего выявить источник, их порождающий. В патерналистских структурах он лежит в неполитической сфере эмоций, иной раз отчаянных. Что могло получиться, когда на общественную паранойю наложилась управленческая неподготовленность власти или, хуже того, паранойя моносубъекта власти, призванного принимать «судьбоносные» решения? Для меня вопрос ясен: движение к коллективизации и прочим репрессивным действиям 1930-х годов началось именно тогда.
Сегодня говорилось об особенностях нашей политологии. Мне кажется, главного сказано не было: она ослеплена «тоталитаристскими» возможностями власти (которых в действительности не существует), потому ходит по кругу, как известная лошадь в подземелье.
Чем в принципе поглощена наша власть? Самосохранением, самообеспечением, самообслуживанием, самовоспроизводством, самонасыщением… – всем тем, чем займется обычный, в меру безответственный человек. На это возразят: российская система является патерналистской. Совершенно верно: власть действительно вполне искренне заботится о людях, точнее, своих подданных. Правда, ровно в той степени, в какой это отвечает ее интересам, в той мере, в какой она зависит от них.
Эта власть способна принимать разумные и оперативные решения (в случае очевидной угрозы ее существованию), но она же обнаруживает редкостную ограниченность, когда речь заходит о проблемах, выходящих за пределы ее ближайших интересов. А в общем претензий к ней не больше, чем к обычному человеку, в меру подверженному обычным порокам, ибо как и всякий человек, она способна не только «стареть», но и «болеть» под влиянием неблагоприятных обстоятельств. В обычных условиях она тихо, как обычный «живой» организм, саморазрушается, в экстраординарных обстоятельствах может впасть в ступор. Разумеется, очень многое зависит от фигуры, ее персонифицирующей, точнее, от ее достоинств и недостатков.
Политика нашей власти циклична именно в силу фетишизации человека, принимающего «окончательные решения». Мы (обществоведы) их не критикуем – мы их «исследуем». А надо бы просто понимать.
Конечно, меняемся мы, меняются «наши» правители. Но все мы действуем в меру своего исторического недомыслия, важнейшее место в котором занимают этатистские благоглупости. Разумеется, ни мы, ни власть не безнадежны. Но нас слишком легко купить, а власть слишком щедра на обещания. В общем, в нашем сегодняшнем виде мы малоперспективны – не для демократии, для самих себя. Думаю, доказывать это в данной аудитории не приходится.
История выступает в нескольких, я бы сказал, многих ипостасях: как традиция, обычай, память, идеология, политический пиар, даже как утопия. История, как наука, в этом ряду занимает относительно скромное место. И виновата не только она, с безусловным несовершенством методологий и технологий познания прошлого. «Виновата», если угодно, сама человеческая природа, точнее, ее склонность к самообману.
В докладе было также отмечено, что французская социология власти отмечается ценностным (этическим) и даже, как я не раз замечал, романтическим подходом. Все просто: она ведет свою родословную от Великой французской революции. Их (точнее было бы сказать общеевропейская) революция создала нацию, общество, личность – это предмет гордости. Французы ощутили свою способность действовать независимо не только от власти, но и от церкви. Естественно, что созданные революцией ценности свободы, равенства и братства выступают главным критерием оценки современной политики. И это более чем оправдано – человек может рассуждать о том или ином политическом режиме, если власть перестала быть для него сакральной величиной. В России это никогда не удавалось – не удается до сих пор. Российские обществоведы рассуждают о власти, глядя на нее снизу вверх, ощущая себя ее заложниками.
Разумеется, элементы сакрализации, мистификации, эстетизации власти встречаются до сих пор в самых раздемократичнейших обществах. Это неизбежно: человек – существо социально зависимое. Он только и делает, что ищет себе «диктатора». Строго говоря, основной вопрос социальной философии в свое время сформулировал М. Мамардашвили: «Какого диктатора я хочу?» Применительно к демократии это означает одно: человек выбирает себя диктатора, но лишь на время, до тех пор, пока он не «надоел». «Диктатор» превращается в своего рода общественно-вспомогательный механизм. Это тоже далеко не идеал, но бюрократическую машину, по крайней мере, можно совершенствовать.
Увы, мы от этого далеки. Власть сама навязывает нам диктаторов, приукрашивая этот процесс своего рода «демократической ротацией». Преимуществ в этом для нас не больше, чем в повороте барабана в направленном на нас заряженном револьвере. Впрочем, для современной ситуации это сравнение будет слишком сильным – власти достаточно просто периодически пощелкивать кнутом.

И.И. Глебова, ИНИОН РАН: Нам был обещан сегодня один доклад, а получили мы четыре – в качестве дискутанта неожиданно выступил В.П. Булдаков. И очень точно указал на шаткость, зыбкость позиций политической науки при оценке российского политического режима. Это, конечно, не открытие, но требует реакции. Одна из причин неадекватности, как мне представляется, – в стремлении либо уйти от российской инаковости, преобразовав себя – на уровне текстов, высказываний, научной реальности – по известным и достойным лекалам, либо уйти от объяснений инаковости. Мы еще более последовательно, чем наши европейские коллеги, идем по пути «нормализации» своего настоящего – вопреки этому настоящему. Желание «нормализовать» реализуется в недоговоренностях, неопределенностях (гибриды, демократия с уточнениями, авторитаризм с оговорками), что малоплодотворно для научной работы.
В отношении политического режима, как мне кажется, самое главное сейчас – поиск слов, адекватных понятий. Потому что суть режима достаточно прозрачна и адекватно «считывается», что демонстрируют исследования последних лет. Система «схватывается» и выстраивается через язык, научные конструкции. Пока мы ее не назовем (не следуя за самоназваниями, но их учитывая), она будет сохранять свою неопределенность.
В то же время субъективное нежелание определяться подкрепляется и объективным качеством определяемого. А как, в самом деле, назвать нынешний наш политический режим? Изящный оборот, предложенный В.Г. Ледяевым, – «мы не в демократии» – кажется мне очень характерным. Ведь действительно – не в ней, но тогда в чем? Авторитаризм – точная, по существу, характеристика, но явно недостаточная: требует разъяснения специфики режима. Есть, конечно, более или менее релевантные определения: популистский вариант авторитарно-бюрократического режима, плебисцитарно-номенклатурный режим.
Мне представляется, что главное качество современного порядка – именно его неопределенность: не демократия, но и не авторитаризм; не политический плюрализм, но и не монополизм. Не определившись, можно быть, чем угодно, совмещать в себе разные «легенды», черты и практики: сегодня – один mixt (скажем, больше демократии, плюрализма и интернационализма «нового типа»), завтра, если ситуация изменится, – другой (поддадим авторитаризма и «удавизма», будем «вставать с колен»). Режим пластичен, подвижен, конъюнктурен, беспринципен; его сила – в прагматической неопределенности (ни то, ни сё – ничто и все). Суть такого режима не выразишь в краткой формуле, для его характеристики требуется много слов, а за ними маячит опасность пустословия.
С точки зрения реальной политики очень важно, что режим внутренне отрицает всякие определенности – институциональные, правовые, морально-этические. Они существуют вне и помимо него, никак его не ограничивая. Порядок, абсолютизирующий неопределенность, «заземляется» и работает только на уровне субъектном: не активизирует демократические институты и гражданские сети, а спрутизирует социальное пространство кланово-мафиозными отношениями. Это и порождает ту атмосферу («климат»), в которой возможно все; единственным ограничителем деятельности «элит» являются сами «элиты». Происходит «натурализация» господства: действия «человека господствующего» определяются «голым» материализмом, жаждой власти, стремлением быть «впереди планеты всей», инстинктом самосохранения. У него нет цивилизационных ограничений. И именно этот человек устанавливает рамки, пределы для всякого рода плюрализмов – так же, как в советские времена. Социальная активность едва ли не нулевая; роль общества, обладающего признаками субъектности, исполняют сращенные с властью, интегрированные в режим группы.
Видимо, только таким образом и мог реализовать свалившуюся на него свободу послесоветский (не русский и антисоветский, а именно после-) мир. Здесь свобода (скорее, даже «расконвоированность»/вольноопределение) – не качество режима, конвертируемое в политический плюрализм и публичность, в демократию, а свойство социальной среды, ощущение, не поддающееся институционализации. Более того, это свойство вообще не имеет политического измерения: теперешняя наша свобода – явление частнобытовое (вольное – без госнадзора и санкций коллектива – самоопределение субъекта в частной, бытовой сфере), а также экономическое (свобода потреблять, некая «потребительская демократия»). Она связана не с осмысленным и ответственным обретением прав, а с инстинктивным отказом от обязанностей. Из анархического, антиправового индивидуализма не рождаются институты, с помощью правовых механизмов трансформирующие свободу как ощущение в свободу как характеристику системы. Напротив, вольное, «дикое» («диким образом» – по типу привычного советского отдыха) самоопределение всех и каждого на общесоциальном уровне уравновешивается организацией «самодержавного» типа.
В постсоветском порядке «негативная» свобода как принцип частно-индивидуального обустройства естественно сплетается с авторитарным принципом социальной организации. Получается «самодержавная демократия» или «народно-демократическое самодержавие». Соединение принципов свободы и несвободы дает в результате неправовой, недоговорный, не поддающийся институционализации порядок. Его определенность в конечном счете – в отрицании права (т.е. цивилизационных норм) как универсального регулятора социальных отношений, в подавлении – сверху и снизу – плюрализма и публичности как механизмов, мешающих реализации естественно-биологических потребностей, потребительских прихотей индивидов в рамках стихийно складывающейся социальной системы.
В конечном счете можно сказать, что наш режим не «прочитывается» через политические категории. Он – неполитический и в этом смысле несовременный. Как его можно мерить категориями современной западной науки – большой вопрос. Но их нечем заменить – разве только констатацией того, что они не способны выявить сущность называемых явлений. Скажем, ЕР, о которой сегодня говорилось, при соотнесении с классическими критериями партийности выглядит чистым симулякром. Однако, ограничившись такой констатацией, мы не выйдем из «зоны неопределенности».
Мне хотелось бы сказать несколько слов по этой теме, неожиданно сегодня возникшей. И, как мне кажется, очень характерной – и для режима, и для его интерпретации. В чем-то я буду отталкиваться от тезисов, сформулированных С.П. Перегудовым. Если упростить, схематизировать, то они выглядят так: партсистема – важный элемент режима, поэтому не может быть имитационна; ее анализ можно свести к ЕР, которая при этом – не правящая партия и не партия власти; ЕР выполняет значимые для режима функции – легитимации, стабилизации, обеспечения властной политической монополии; ЕР не является исключительно бюрократической партией, имеет потенциал общественной организации и все активнее его реализует.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































