Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 2"
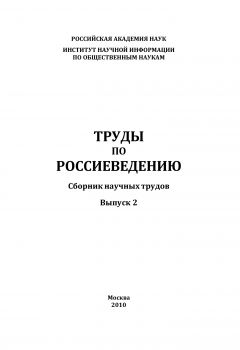
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
И была другая Россия – почвенная, крестьянская, с совершенно особым мировоззрением, ценностями, представлениями о времени и пространстве. Ей принадлежала основная часть населения империи. Советский мир бо́льшей частью вырос из этой России. А она была «принципиально» не европейской. Противостояние двух культур по всем позициям привело к трагедии русской Смуты.
Советский мир не был проработан европейской культурой (политической, экономической и даже бытовой, потребительской). Это его родовая черта. И то, что он прибегал к постоянному заимствованию западных технологий, ее не отменяет. Он развивался вне гуманизирующего влияния европейской культуры. Он избавился от русских европейцев (мы, вообще, склонны избавляться от обременяющих, слишком сложных для нас проблем, традиций, людей). Он замкнулся в себе и на себе. Это имело трагические социальные последствия: в этом – одна из главных причин наших непреодолимых неустроенности и неэффективности.
Позднесоветский мир вырос из своей антиевропейскости, попытался обрести новые ориентиры в современной западной культуре. По большому счету, это не удалось. Сейчас мы сделали новый крутой поворот – к антизападничеству, реабилитации советского изоляционизма и противостояния. Надо сказать, и Запад нам в этом помог.
Все это сложно, противоречиво, трагично. У нас же какая-то очень благостная история получается, очень благостная память. И в этом мы – наследники советского. Советский человек тоже солидаризировался исключительно с героическим прошлым, которое его возвышало. Причем главным историческим символом для него со временем стала не Октябрьская революция, а победа в Великой Отечественной войне. И сегодня около 80% населения – даже те, кто вроде бы не имеет памяти и не интересуется историей, – считают эту победу главным и лучшим событием своего прошлого.
Победа для нас – то прошлое, которое еще не прошло. И другого мы знать не хотим. А ведь мы ее вспоминаем в антиевропейском контексте. Последняя война для нас – не часть Второй мировой, имевшая антифашистскую направленность, но Отечественная, призванная спасти государство от враждебных сил. Российская память о Победе, берущая начало в официальной трактовке войны еще сталинских времен, поддерживает представление об успешной конфронтации СССР с внешним миром. Она непосредственно связана с неугасаемой памятью о послевоенном сверхдержав-ном статусе СССР. Эта память – основа нашей национальной гордости и фундамент нашей идентичности.
А.Р.: Даже вы не отказываетесь от термина «Октябрьская революция». Хотя, в общем-то, это был переворот, и первое десятилетие его так и называли…
И.Г.: Не все так просто. То событие надо поставить в исторический контекст. Несколько месяцев от февраля до октября 1917 г. были связаны с радикализацией масс и почвеннизацией большевистской партии. Это был встречный процесс. В результате массы и большевики очень сильно сблизились. И пусть то, что большевики совершили в Октябре, имело форму переворота. Но по существу то была революция. Слишком значительные силы, слишком большие смыслы были вложены в процесс. Не смогли бы удержаться большевики, совершив просто верхушечный переворот, если бы их не поддержала всеобщая волна. Они ее оседлали, предложив крестьянско-солдатско-рабочей массе то, что она хотела: землю – крестьянам, фабрики – рабочим, мир – солдатам, а во главе всего этого – народную власть, т.е. самих себя.
В 1917 г. сначала победила революция европеизированных верхов, которая раскрепостила всю Россию и дала выход революции почвенной. Ее, в свою очередь, использовали, а затем подчинили большевики – с помощью сверхнасилия, социальных иллюзий и лжи. Но один принцип они реализовали: «кто был ничем, – тот станет всем».
Полифоничность памяти – единство прошлого
А.Р.: Судя по произведениям некоторых национальных литератур, такие персонажи русского освоения Севера и Сибири, как Стефан Пермский или Ермак, воспринимаются разными народами по-разному. Как в этом случае примирить историю и необходимость единства?
И.Г.: Их примиряет сама жизнь: есть разные памяти о конфликтных эпохах, но и общий путь во времени.
Интеграция новых территорий в состав Российского государства, безусловно, не была исключительно мирной. И это оставило свой след в памяти. Конфликтность историй победителей и покоренных естественна. Но это только одно из измерений памяти северных, сибирских этносов. Вряд ли это угрожает единству. Ведь за века совместного существования наши народы приспособились друг к другу, образовали единый по приоритетным установкам и ценностям мир. Социологи отмечают, что на основные сегодняшние события и проблемы люди разных национальностей реагируют примерно одинаково.
Это на постсоветском пространстве национальные памяти используются как символический инструмент консолидации и самоутверждения против России. Внутри России такое последовательное противостояние вряд ли возможно. Не надо преодолевать полифоничность памяти. Монолог – не синоним единства.
Урал, вообще, – место встречи разных этносов, культур. Полиэтнический характер Урала настраивает как раз на взаимную терпимость, восприятие другого не как чужого, а просто другого.
Кстати, здесь мы выходим на большую проблему – региональной идентификации, местной самостоятельности. Сейчас подзабылось, что в Свердловске в 90-е годы возникла идея Уральской республики. Это не происки врагов, а естественное желание закрепить за собой самостоятельный статус. Здесь и местные памяти задействовались.
Это вечная российская проблема: центр есть сверхвласть. Импульсы от него распространяются к периферии, определяя ее жизнь. Местные же центры пытаются (по мере возможности) противостоять «большому» центру, заявить о себе как о чем-то полноценном. Стремление к обретению субъектности – один из двигателей нашего регионализма. Сейчас оно ушло с поверхности, перестало быть таким очевидным. Ведь когда Москва-центр возвышает голос, все быстро выстраиваются и говорят: хорошо, сила на вашей стороне, мы подчиняемся. Опять из сообщества несогласных формируется коллектив согласных.
Это наши постоянные колебательные движения: от согласия – к несогласию, от коммунизма – к антикоммунизму, от атеизма – к вере, от исторических прозрений – к слепоте. Нам трудно не сваливаться в крайности – минимизированы культурные балансировки, не сформировались сдерживающие социальные силы, которые занимают срединные позиции.
В этом специфика России. Здесь, кстати, очень важно, какой дух господствует в обществе, определяя общую атмосферу. У нас институты и формальные процедуры значат гораздо меньше, чем ценности, идеи, представления, образы прошлого.
Разные времена – разные памяти
А.Р.: Недавнее присвоение Уральскому техническому университету имени Ельцина несколько оживило обсуждение роли Бориса Николаевича в современной российской истории. А как бы ее оценили вы?
И.Г.: Коротко – односложно, в двух словах – не оценила бы. А у нас в основном так и делают – либо плохо, либо хорошо. Хотелось бы, чтобы за каждым «плохо» или «хорошо» стояло еще и объяснение.
Для меня важно, что Ельцин был воплощением тенденции, победившей в советском обществе на рубеже 80–90-х годов. Тогда едва ли не всеобщими были порыв к свободе, стремление избавиться от навязчивой опеки и контроля власти, открыться миру, улучшиться и улучшить свою жизнь. И Ельцин эмансипационную тенденцию воплотил.
Очевидно, что власть начала 2000-х годов (действующая сейчас в алгоритме соправительства) воплощает другую тенденцию, которая победила в нашем обществе где-то во второй половине 90-х. Это тенденция к усилению власти за счет ограничения пространства общественных свобод, к изоляционизму, самовозвеличиванию. Правда, переворот осуществился с учетом того, что в нашем обществе уже многое изменилось. У нас есть экономические свободы, свобода приватной жизни, существует все-таки разнообразие мнений, взглядов, подходов. Речь идет о сужении объема свобод при сохранении тех, которые признаны неотчуждаемыми и обществом, и властью.
В этом смысле Борис Николаевич для меня – безусловно, положительное явление, хотя и чрезвычайно сложное, противоречивое. Он обладал гениальным властным инстинктом, дважды удержал страну на грани гражданской войны. И страна ему поверила, его призвала. С этим следует считаться. В то же время Ельцин совершенно этой стране соответствовал – и в плохом, и в хорошем.
Другое дело, на восприятие Ельцина влияет растиражированный сейчас образ 90-х: «лихое», провальное время и именно лидер повинен в ослаблении власти, распаде страны. При нем якобы все было плохо, за державу обидно… Повторю: общество так же виновно в бедах и неудачах 90-х, как и власть. Но склонно списывать с себя вину – на ту же власть, на внешних и внутренних врагов. Так проще – во всем, что со мной происходит, винить других.
А.Р.: А что, по-вашему, останется в памяти?
И.Г.: Наше общество склонно разделять свободы на полезные, бесполезные и вредные. Полезные – экономические и частной жизни – оно приемлет и использует. Вредные – прежде всего политические, «гуманитарные» – отметает. Ну, а бесполезные откладывает до других времен. Так общество относится и к прошлому: помнит то, что полезно; забывает то, что ему вредит.
Исходя из этой склонности, наше общество будет воспринимать Ельцина, скорее, отрицательно. Прежде всего потому, что власть при нем была слабой, зависимой от внешних влияний (не самостоятельной), а все попытки самоорганизации общества имели полукриминальный или попросту отвратительный оттенок. Нехорошая тогда была страна, демонстративно, навязчиво нехорошая, – всем это очевидно. Не свобода сексуальной жизни, а порнография. Не свобода слова, а та же порнография, но на страницах и экранах. Не экономическая свобода, а всеобщее воровство. Не свобода, – а вседозволенность. Кто-то должен быть в этом виноват. Не все же! Вину за общие неудачи, как и славу за победы, у нас обычно переадресовывают наверх.
В то же время Ельцин был и останется родоначальником постсоветской власти. А наш человек относится к власти с уважением.
Что касается Урала, то здесь, наверное, утвердится своя – конкурирующая с общей и официальной – память. Здесь Ельцин будет восприниматься больше со знаком «плюс»: ведь благодаря ему вырос символический статус этого края, этой России. То, что между властью и уральцем, между уральцем и Россией фактически ставился знак равенства, местная память зафиксировала…
О пользе истории
А.Р.: Какой востребованный рынком продукт может, по вашему мнению, предложить историк в нынешнее меркантильное время?
И.Г.: Уже предложил: героическую историю (своего рода эпос) и досуговое, развлекательное прошлое. Это ответ на запрос как снизу – из общества, так и сверху – от власти.
Однако Ваш вопрос нуждается в уточнении. У нас действует не рынок, а базар или побеждает жесткое регулирование сверху. В первом случае продукты имеют низкое качество, так как не проходят через профессиональные фильтры. Во втором свойственные настоящему рынку множественность и конкуренция оказываются ограничены, продукт стандартизируется. Это относится и к истории. Либо процесс начинает жестко регулироваться сверху, и тогда ни о каком самостоятельном продукте говорить не приходится. Либо свобода без границ приводит к тому, что историк начинает творить исключительно на потребу публики. В обоих случаях историк способствует воспроизводству примитивной культуры памяти, не давая ей развивающие импульсы.
Мы как-то очень легкомысленно обращаемся со своей историей. Мечемся от одного прошлого к другому, шутя создаем исторические конструкции, единственное назначение которых – подтвердить наши высокие представления о себе. Но история – вещь серьезная. Она уже случилась; она остается в нас, и сегодня направляя нашу жизнь. А мы, заигравшись, так ни в чем и не разобрались, ничего в ней не поняли.
Для нас прошлое – такая же неизвестность, как и будущее. Оно бессмысленно – не наделено смыслом. Потому что, постоянно укрываясь за прошлое, смысла в нем не обнаружишь. Не случайно оно так болезненно – за что ни возьмись (и не только в советской истории), все вызывает конфликт.
Теодор Адорно писал, что прошлое нуждается в проработке, возможной только в рамках самокритического рассказа, критической само-рефлексии. Проработка имеет значение профилактической вакцины, которая прививается обществу, чтобы избежать рецидивов заболеваний варварством. Только тогда болезни можно преодолеть. Здесь и нужен обществу историк.
Но мы идем своим путем. Коллективные воспоминания приобретают для нас значение наркотического укола, отвлекающего от действительности. А народ, ушедший в бессознанку, легко подчинить и использовать. У нас контроль памяти – один из важнейших инструментов социального управления, обеспечения господства.
И историк, занимающийся Россией, встроен в эту систему подчинения/господства. В той пограничной области, где наука пересекается с социальной памятью, с массовой культурой, он чаще всего сдается обществу и власти. Поэтому у нас так плохо с самосознанием и самопониманием. Это не мешает историку быть весьма профессиональным и ответственным при изучении конкретных сюжетов. Однако задача просвещения и гуманизации памяти в нашем обществе им не выполнена. Ему не удалось сформировать взгляд на прошлое, свободный от идеализации или демонизации. Не удалось преодолеть общественные слепоту и инерцию. И он обречен вместе с обществом заходить в те же тупики, в которых оно уже побывало.
Кстати, себя от этого историка я не отделяю.
К вопросу о россиеведении
Российская историческая наука – русофобия – россиеведение
Д. Свак
Недавно на мою долю выпала почетная и ответственная задача: одно очень авторитетное английское издательство попросило меня коротко обобщить результаты развития русской исторической науки в XIX в. При работе над этим кратким обзором золотого века русской исторической науки меня интересовало прежде всего то, что связывает давнее прошлое с сегодняшним днем, каковы те главные уроки прошлого, которые сохраняют актуальность и влияют на сегодняшний день. Было интересно столь отчетливо видеть, что даже в свои самые лучшие периоды русская историческая наука вела непрерывную борьбу за собственную легитимацию, и все же сохранила свою целостность и добилась более или менее самостоятельного научного статуса лишь благодаря своей лояльности к власти. Грустно, что золотой век окончился, поскольку была утрачена даже та относительная свобода, отобранная ненасытной властью. И в течение 70 лет исторической науке не оставалось ничего иного, как бесстыдно обслуживать политику, а значит, заниматься крайне примитивным идеологизированием или «антикварным», устаревшим позитивизмом.
Российская историческая наука перед «соблазнами» постмодерна
Тяжела ноша, которую приходится тащить на себе современной российской исторической науке. И ее не облегчили ни нападки постмодерна, ни смена общественного строя.
В истории, а следовательно, и в исторической науке нечасто встречаются беспрецедентные явления. Историка постоянно сопровождает и мучает психологическое состояние déja vu, ощущение того, что все уже случилось в прошлом, и чувство бессилия из-за того, что мы опять вступили в ту же реку. Таково мое отношение к печально знаменитому постмодерну как к одной из многих атак на историю с целью разрушить в кризисный период здание, воздвигавшееся в течение столетий. Снова появились сомнения, обособились некоторые области истории, а историки начали пользоваться новой лексикой. Единая терминология сменилась понятийной неразберихой, диалогом глухих, атомизацией, принесением целого в жертву фрагментам.
Этот процесс протекал в атмосфере политической возбужденности, сопутствовавшей смене общественного строя, которая, конечно, породила неофитов. В интеллектуальном смысле смена общественного строя всегда в первую очередь выбрасывает на поверхность шлаки, худших, вероотступников. Все хорошее, что было раньше, вдруг оказывается в мусорной корзине, и из ящиков письменных столов появляются гениальные открытия, которыми незаслуженно пренебрегали ранее. Однако нового мусора всегда оказывается гораздо больше, чем истинных достижений. Быть может, ради этих истинных достижений действительно сто́ит выбросить из несущейся тройки старый груз?
На мой взгляд, нельзя делать вид, будто бы советской исторической науки вовсе не существовало. Само собой разумеется, я оплакиваю не всепроникающую классовую борьбу и тем более не ее «облеченные в религиозные одежды» разновидности, сознательные фальсификации или благонамеренные, но невежественные упрощения. Но нельзя не сожалеть о позитивизме талантливых историков, ведь в тяжелые времена именно он поддерживал преемственность между русской историографией XIX и XX вв. Если взглянуть на вековой путь русской исторической науки крупномасштабно, то он увидится нам непрерывно развивающимся живым организмом, усвоившим профессиональный стандарт, накопленный учеными от Шлецера до Ранке, – своего рода «местный» вариант «общей» истории. Этот стандарт до сих пор обязателен для любого историка. Вероятно, он будет необходим и после преодоления нынешнего кризиса. Таким образом, если рассматривать русскую историческую науку в процессе ее развития, то позитивизм нельзя игнорировать.
Но как же быть с новой социальной историей, микро– и психоисторией, историей ментальностей, исторической антропологией и тому подобными новыми «историями»? Прежде всего, можно ли вообще называть эти субдисциплины новыми? Изучая «народное сознание», советские историки, например, достаточно много занимались тем, что сегодня называют «ментальностью», да и «микроистория» отнюдь не была чужда фактографии советской исторической науки. Следовательно, эти «современные» жанры вызывают у опытного историка ощущение déja vu и ведут к дальнейшей фрагментации профессии, практически порождая новые вспомогательные дисциплины. Иначе говоря, происходит расширение тематики и методологии, что можно лишь приветствовать. Зато новая социальная история, обещающая новые подходы к истории и новые объяснения исторических явлений, как будто не так уж и нова. Благодаря работам В.О. Ключевского и П.Н. Милюкова, русская историческая наука внесла свой вклад в обновление профессии, осуществленное первым поколением Анналов, и этот комплексный подход не был чужд некоторым выдающимся представителям советской исторической науки.
Таким образом, есть основа и опора для преемственности. Помогла и безыдеологичность первых лет после смены общественного строя: ведь если очистить историческую науку от идеологической и политической шелухи, то останется старый добрый позитивизм и его русский вариант – «государственная школа». Только этого оказалось мало западной исторической науке, испугавшейся атак постмодерна; и началось перекрашивание старого, его обновление, иногда, безусловно, с помощью нежных цветов, дающее привлекательные результаты. Однако нам нельзя соблазняться сладкими звуками медленно формирующегося языка исторической науки. Клио не должна походить на престарелого ловеласа, желающего сохранить вечную молодость с помощью искусственных «чудодейственных» средств. Она не должна беспринципно поклоняться актуальной моде, не должна говорить как попало, обязана называть вещи своими именами.
К сожалению, поначалу новая российская историческая наука этим путем не пошла. Как уже часто бывало в истории, она бросилась подражать моде. Однако из русской истории мы хорошо знаем, что на российской почве прививаются лишь те внешние влияния, которые соответствуют реальным потребностям, органически вытекают из традиций и, следовательно, могут быть представлены как свои.
История как зона властного интереса
В русской исторической и духовной среде история имеет не косметическую функцию: и общество и власть волей-неволей формулируют в ней свои ожидания. Труднее всего выяснить, какие из них принадлежат обществу. Видимо, это и было причиной запуска телеканалом «Россия» в 2008 г. экспериментального зонда под названием «Имя Россия», предназначенного для анализа общественного мнения. На этом сто́ит немного остановиться, так как это шоу стало крупнейшей попыткой повлиять в желаемом направлении на исторические взгляды масс, заменить новой идентичностью старую, утерянную вместе с социализмом. Ход и итог конкурса показали, что, натолкнувшись на противоположное давление масс, элиты не знают, какие ценности прошлого следует предложить людям нашей эпохи.
И здесь мы подошли к проблеме требований или заказа власти. Упомянутое выше шоу пролило свет на связанные с историей ожидания общества и элит, а соответствующие пожелания власти выразились в Указе Президента РФ от 20 мая 2009 г. № 549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». У нас тоже делаются подобные попытки, например, в связи с юридической наказуемостью отрицания Холокоста, однако они не получают поддержки большинства в парламенте. В случае России такой Указ можно было бы поддержать, если бы он относился только к событиям Второй мировой войны. Этот жест по отношению не только к жертвам Холокоста, но и ко всем безвинным жертвам войны был бы очень важен. Однако текст Указа имеет расширительное значение и поэтому в принципе допускает ограничение свободы мнений и создание верховного «суда» по научным историческим вопросам. Это противоречит современной политической воле и явно свидетельствует о наличии недоброжелательности. И все же в этом случае, как и у нас в отношении Холокоста, демократы забили тревогу и предпочли отказаться от подобного правового регулирования вопроса. Думается, они поступили правильно.
Следуя своему собственному вековому пути развития, историческая наука и сегодня в основном движется по рельсам, проложенным «государственной школой»; государство снова является главным началом российской истории. Это во всех отношениях соответствует традиции. Правда, предполагается более сложный, чем, скажем, у славянофилов, союз между народом и властью (например, роль православия явно становится все более значимой). Уваровская «триада» стучит в дверь: традиционная, лояльная к власти историческая наука, несомненно, широко распахнула бы двери власти, если бы получила такой заказ. Велик был ельцинский хаос (второе издание «Смутного времени»), поэтому велик и испуг.
Историческая наука всегда служила государству: она слишком нуждается в государственных дотациях, чтобы служить людям. Однако у меня и в мыслях нет снова принуждать историю к роли служанки политики. Тут она не нуждается в моей помощи. Но сегодня общая картина выглядит так, что в ней цветет сто цветов, и это внушает оптимизм в отношении альтернатив. Однако mainstream есть mainstream, и это может успокоить власть. Нет нужды в указах, так как линия Кавелина – Соловьева – Ключевского по-прежнему доминирует и стоит на стороне государства, являясь одновременно и прекрасной школой. Такое положение дел может послужить гарантией и для общества, ведь в данном случае речь идет отнюдь не об одностороннем движении, характерном для советской исторической науки, так что нет необходимости и в регулировщике.
Явление русофобии
Какое же отношение имеет ко всему этому «посторонняя», нерусскоязычная русистика? До сих пор речь шла о внутреннем деле российской науки. Однако помимо того, что наука не может быть втиснута в национальные рамки, нужно сказать, что интерпретация и рецепция российской истории могут быть затруднены в связи не только с «неразберихой», постмодерном и властным «заказом», но и с таким международным явлением, которое мы называем русофобией. Для нейтрализации этого явления многое может быть сделано именно международным научным сообществом.
Дело в том, что русофобия – современное понятие. Правда, она черпает аргументы и из исторических источников, из по существу безвредных стереотипов, но ее сутью является сознательное, руководимое политическими интересами стремление нанести вред. Западная демократия наших дней чрезвычайно чувствительна: не политкорректно, не comme il faut оскорблять народы, навешивать на них принижающие их ярлыки. Мы соответствующим образом относимся к ксенофобии как к органической части досовременного или «средневекового» национального сознания, исторически сложившемуся средству поисков самоидентичности. Ныне к этим шаблонам уже вряд ли можно относиться терпимо, они просто рассматриваются как расистские. Такого рода русофобия функционирует примерно так же, как и антисемитизм.
Иногда достаточно сложно провести границу между старыми стереотипами о русских и русофобией. Историк может с удобствами путешествовать по эпохам и изучать антирусские источники, и это не затронет национальные чувства. Опасность состоит в использовании этих источников в политических целях, за которым, как мы знаем, всегда скрывается экономическая и властная конкуренция. Прикрывать это призвана русофобия. В результате старые стереотипы могут попадать в политический «бермудский треугольник» «власть – массмедиа – общественное мнение», легко превращаясь в антирусское оружие.
В настоящее время идея нации снова переживает период возрождения. Первые усилия, направленные в Средние века на самоопределение наций, были одновременно и первыми проявлениями ксенофобии. Парадоксальным образом и в нашем «глобализованном», «наднациональном» мировом порядке нашлось место для ксенофобии, в том числе и для русофобии. Необходимо международное сотрудничество русистов, их совместная исследовательская деятельность для беспристрастного изучения этого исторического явления.
Россиеведение как учебный предмет
Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что существует потребность в россиеведении. Очень важно позиционировать россиеведение как в российской, так и в международной интеллектуальной среде вообще и в профессиональной научной среде в частности. При таком осмотрительном подходе, быть может, можно будет добиться того, чтобы к россиеведению относились с терпимостью, а в некоторых случаях даже оказывали ему поддержку.
Конечно, я понимаю и сомнения, и противоположные мнения, касающиеся россиеведения. Россия изучается таким множеством серьезных, располагающих вековыми традициями научных дисциплин, что желание втиснуть все эти компетенции в рамки одной может показаться абсурдным. Я не имею в виду институционализацию новой научной дисциплины, ведь время таких «супернаук» уже прошло. Однако под влиянием сильной сегментации, наблюдающейся в развитии науки, мы пришли к осознанию необходимости интегративного, комплексного подхода, недостаток которого по-настоящему чувствуют те, кто занимается не только наукой, но и преподавательской деятельностью. Тем, кто работает в нероссийских высших учебных заведениях, ясно, что если существует американистика или германистика, то должна существовать и русистика. Однако эти специальности имеют в основном филологическую направленность, поэтому я выбираю понятие россиеведение, ассоциируемое с понятием страноведение, оторвав его от традиции, связанной с языковой практикой. Это – нечто похожее на принятые в западных университетах russian studies, только комплекснее, охватывает больше областей и сильнее ориентировано на современность. Это единственная специальность, кажущаяся пригодной для подготовки в университете так называемых «экспертов по России». Мы в Будапеште разработали его curriculum, в 2010 г. началось обучение на магистерском уровне. Я считал бы целесообразным продолжить эту работу в форме совместного экспериментального обучения на основании единого списка учебных предметов.
Вопрос в том, нужно ли россиеведение как учебный предмет и в российской системе образования? По-моему, нужно, так как университетское обучение так же сегментировано, как и наука. Различные профессии настолько изолировались друг от друга, что, получив школьное образование, по необходимости нацеленное на средний уровень, студенты углубляются лишь в материалы своей узкой специальности. Историк обидно плохо знает литературу, филолог не имеет информации об экономических вопросах, экономист не ориентируется в изобразительных искусствах, и все они утопают в деталях, не видят долгосрочных тенденций и закономерностей, не могут разместить Россию в контексте общемировых процессов.
Было бы просто найти новую российскую идентичность в прошлом – в «православии – самодержавии – народности», но мы вряд ли стремимся к этому. Я поддержал бы более трудоемкий путь поисков: возвращение к основам. Для этого и пригодилось бы россиеведение, которое можно было бы преподавать в системе высшего образования подобно диалектическому материализму в прежние времена. Конечно, и этот предмет может быть дискредитирован плохими преподавателями и обязательной политической «нагрузкой». Но больше шансов на противоположное. У нас в Венгрии русские штудии альтернативны, и никто не ненавидит их, как раньше ненавидели обязательное изучение русского языка. Прослушавший эти курсы никогда не станет русофобом. А в России россиеведение как учебный предмет, возможно, позволил бы давать концентрированные и комплексные знания о национальных ценностях: внушать гордость, идеалы и представлять реальный образ своей нации.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































