Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 2"
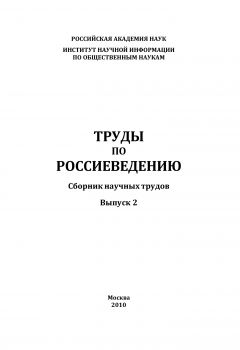
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
Но эти частные несогласия никак не отменяют для меня принципиальной важности сказанного А. Шмеманом. Попробуем суммировать это. – Русское сознание равнодушно к истине. Истина в христианской традиции – Сам Христос. Следовательно, русское сознание равнодушно к Христу. – Как же так (спросим мы)? Все XIX столетие отечественная литература и любомудрие только и занимались поиском и выработкой образа «русского Христа». То есть, в известном смысле, наша культура была христоцентричной. Но гениальные, неповторимые попытки провалились (при этом, конечно, «Идиот» Достоевского наряду с «Дон Кихотом» и «Гамлетом» останется высшим достижением христоцентричного мироощущения; также как «Капитанская дочка» и последний классический роман русской литературы «Доктор Живаго» являются непревзойденными образцами христианской культуры – подобно готике, итальянской живописи, русской поэзии). – Алеша Карамазов пошел в революционеры. Монах-революционер. Бомбист. Или иначе – Шатов победил князя Льва Николаевича Мышкина.
Спустимся на ступеньку ниже. – Запад релятивизирует абсолютное. То есть приспосабливает к социальной жизни, насыщает ее абсолютным. Социальное христианство – это путь Европы. Мы возводим в абсолютное относительное. Социализм, например. Отсюда, кстати, «вечный испуг перед историей». Испугались и «закрыли» историю – тем же социализмом-коммунизмом или чем-то ретроспективно-утопическим. Здесь действительно полное господство историософии. В условиях же «или… или» (а не «и… и», которое близко о. Александру (мне тоже)), диктатура историософского сознания становится смертельно опасной для русских и их соседей (которые, как известно, у нас по всему миру; помните: «с кем граничит СССР? – С кем хочет, с тем и граничит»).
Вообще-то это чаадаевский по типу и силе пассаж. Однако написанный в постчаадаевскую эпоху. Когда все уже не начинается, а, напротив, кончилось. И результаты налицо (сказав о «результатах», почему-то вспомнил выступление на «круглом столе» одного советского профессора – философа в послесоветские годы; он отчитывался: «по результатам изучения Бога», «мы получили грант на изучение Бога»; все говорилось с нудной серьезностью; так вот – у русской культуры время, отведенное на «изучение Бога», завершилось, гранта уже не получить; следует признать поражение великой попытки). – «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать».
Зная все это, встанем и пойдем. Попробуем вновь…
5 ноября 1979 г., понедельник
о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 488–489)
Вчера вечером, приводя в некое хотя бы подобие порядка книги (дошло до того, что никогда не могу найти нужную), сделал «открытие». Пожалуй, как и все мои «открытия», оно показалось бы всем «наивным».
Мне вдруг стало ясно, что той России, которой служит, которую от «хулителей» защищает и к которой обращается Солженицын, – что России этой нет и никогда не было. Он ее выдумывает, в сущности, именно творит. И творит «по своему образу и подобию», сопряжением своего огромного творческого дара и… гордыни. Сейчас начался «толстовский» период или, лучше сказать, кризис его писательского пути. Толстой выдумывал евангелие, Солженицын выдумывает Россию. Биографию Солженицына нужно будет разгадывать и воссоздавать по этому принципу, начинать с вопроса: когда, где, в какой момент жажда пророчества и учительства восторжествовала в нем над «просто» писателем, «гордыня» над «творчеством»? Когда, иными словами, вошло в него убеждение, что он призван спасти Россию, и спасти ее, при этом, своим писательством? Характерно, что в своем «искании спасительной правды» Толстой дошел до самого плоского рационализма (его евангелие) и морализма. Но ведь это чувствуется и у Солженицына: его «фактичность», «архивность», желание, чтобы какой-то штаб «разрабатывал» научно защищаемую им Россию, подводил под нее объективное основание. Сотериологический комплекс русской литературы – Гоголь пишет нравственное руководство «тамбовской губернаторше», Толстой создает религию. И даже Достоевский свое подлинное «пророчество» начинает путать с поучениями и проповедью (включая сюда и Пушкинскую речь, насквозь пропитанную пророческой риторикой). Теперь, по всей видимости, на этот путь вступил и Солженицын. Ходасевич где-то кого-то цитирует, кто в страшные годы военного большевизма писал: «стихам России не спасти, Россия их спасет едва ли» (Муни?)146146
См.: В. Ходасевич. «Некрополь». Очерк о Муни (Самуиле Викторовиче Киссине).
[Закрыть]. А стихи-то, пожалуй, имеют – в России, во всяком случае, – большую, чем проза, сотериологическую функцию – Ахматова, Мандельштам, Пастернак…
5 ноября 2010 г., пятница
Юрий Пивоваров
Подхвачу мысль о. Александра, но направлю в другую сторону. Солженицын, по его словам, творит Россию. Разумеется! Он продолжатель и великий представитель креативной русской литературы. Гоголь создал гоголевские типы, Чехов – чеховские, Достоевский – «русских мальчиков»; все эти «лишние люди», «кающиеся дворяне», «замоскворецкие и поволжские купцы», безусловно, выдуманы. Но теперь они для нас реальнее реально живших людей, теперь по ним мы узнаем Россию. Более того, мы встречаемся с ними в повседневной жизни. Разве г-н N не Собакевич, а г-н Z не Манилов и т.д.?! Наше общество с XIX в. (в целом, но отчасти и раньше), когда родилась литература (русская), состоит из людей, родившихся в воображении литераторов. Настоящая социология отечественного социума возможна на основе (и исходя из) этой типологии. Это касается и таких наук, как история, политология, экономика, право, философия. Они невозможны вне той России и тех русских, что созданы от Фонвизина до Зиновьева.
Шмеман ошибается: дело здесь не в гордыне. Видимо, это была единственная возможность стать и быть. Именно литература дала России лицо в мировой истории, т.е. неповторимость, единственность, совершенную особость. Нас можно узнать только по литературе («узнать» – в разных смыслах). Даже русский коммунизм порожден ею. Это, впрочем, известно. Неизвестно другое – он ею же и побежден, изжит. О. Александр говорит о «сотериологической функции» нашей поэзии (его ряд: «Ахматова, Мандельштам, Пастернак…»; отточие позволяет продолжить: Блок, Цветаева, Бродский, а также «второй ряд»: Анненский, Хлебников, Гумилев, Маяковский, Есенин, Заболоцкий, Слуцкий, Окуджава, Высоцкий, и «третий ряд»: Петровых, Багрицкий, Коган, Самойлов, Левитанский, Соколов, Галич, Ахмадуллина; многие другие). Сотериология означает спасение. Поэзия спасла (в религиозном, социальном, эстетическом смысле) Россию. Русская поэзия есть современное русское богословие. Как икона в допетровские времена. Бого-словие – это прославление Бога, Богочеловека. Это – слово о Боге и Богочеловеке. Это следование за Христом, то, что в протестантизме называют (die) Nachfolge.
Русская поэзия сохранила и преумножила Богочеловеческое в русских душах. «Смертью смерть поправ». Она не убоялась умирать за «други своя» и свою бессмертную душу и превзошла коммунистическое «ничто». – Кто читал русскую поэзию ХХ в., кто воспитан ею, кто, не выучивая наизусть, говорит ее языком (духом), тот – «спасен». Тому не страшен никакой коммунизм, фашизм и т.д. Русская поэзия ХХ в. – опора для всех, кто выбирает добро, нормальность, любовь. Что и есть «спасение», доступное нам.
Но нельзя не сказать и о прозе ХХ столетия. Платонов, Булгаков, Зощенко, проза поэтов (Пастернак, Мандельштам, Цветаева), Гроссман, Солженицын, Шаламов, другие – величайшие соучастники нашего спасения (когда начинаешь перечислять, дух от счастья захватывает; «жизни бедной на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат» – и хотя это сто раз правильно, «великой» не только из-за «утрат»; великой «из-за» тех, кто это сказал).
И вдогонку о креативности литературы. Толстой выдумал Левина и в марте 1917 года он стал премьером (министром-председателем) первого русского свободного правительства (кн. Г.Е. Львов; сравните их биографии: Лев Николаевич был хорошо знаком с великим земцем). Но и второй премьер – А.Ф. Керенский – тоже выдумка литературы. Здесь многие поработали: Тургенев, Достоевский, Чехов, Блок, Ал.Н. Толстой и др. Кстати, и в эмиграции Львов и Керенский «оправдали» творческую фантазию своих литературных отцов. Князь, подобно Левину (Толстому), опростился, работал сезонным рабочим у зажиточных крестьян Подпарижья, тачал обувь, шил дамские сумочки – с этого всего и жил. Земского денежного запаса, к счастью спасенного от большевиков, не трогал (на себя ни копейки), все только в помощь бедным эмигрантам. Львов – полностью реализованный Левин. Ну, и Александр Федорович прожил свою жизнь как Рудин. Стопроцентный «лишний человек». И даже после своей смерти «лишний». Никому не нужный – ни эмигрантской России, ни советско-постсоветской, ни диссидентам, ни Западу. Во всем и всем виноватый. Старший Верховенский. Рыцарь Прекрасной Дамы, оказавшейся Катькой из «Двенадцати» (шоколад «Миньон» жрала). Только у двух людей, может быть самых ослепительных русских гениев ХХ в., нашлись для него слова сочувствия и восхищения – у Бориса Патернака и Осипа Мандельштама.
И Рюрикович, князь Георгий Евгениевич, и потомственный дворянин, присяжный поверенный Александр Федорович действительно доказали, что русская литература, отстранив Власть, стала главной движущей силой русской истории. И Львов, и Керенский относятся к золотому запасу России.
8 ноября 1979 г., четверг
о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 489–490)
«Спор о России». Этот спор есть, прежде всего, спор о Западе, об отношении России к Западу. С одной стороны, налицо – все более интенсивным становящийся припадок антизападничества. Мы хотим свободы, но не западной, хотим законности, но не западной, хотим «народоправства», но не западного… Все это старо, как мир, – поздние славянофилы, Данилевский, евразийцы, Бердяев и вот теперь – Солженицын. Между всеми этими «антизападниками» масса различий и даже – глубоких. Но одно их всех соединяет: убеждение в разложении, если не смерти, Запада, причем источником этого разложения считается как раз западное понимание свободы. Второе обвинение, предъявляемое Западу, – это его «левизна»? с Запада пришел марксизм… Третье: нечувствие, непонимание русской драмы… Со всеми этими обвинениями можно спорить, но они, так сказать, реальны, то есть обращены на нечто существующее. С ними, опять-таки с оговорками, согласны многие и на Западе. И, в конце концов, нельзя оспаривать того, что Запад действительно переживает глубокий кризис. Гораздо сложнее обстоит дело с положительной программой этого течения: что оно хочет для России, как представляет себе этот, свободный от западного, свой, чисто русский идеал государственного устройства, общества и т.д. Здесь нет ни ясности, ни согласия, ни даже просто убедительного образа. Русская «авторитарная» идея – власти? Но в чем же она реально состоит? Не права, а обязанности? Народ как соборная личность. «Духовные запросы»… Что все это значит? Все это, в ту или иную меру, в довершение всего увенчивается ссылкой на «религиозное» и «христианское» вдохновение этого идеала. Но при этом ни у кого из этих идеологов «христианской» России не замечается никакого интереса к сущности христианства, кроме как пронизанности русского «национального быта» христианскими символами и обычаями. России нужно Православие – но, пожалуйста, не говорите нам об его содержании, нам не нужно богословских умствований… Вот «данные проблемы». В них ничего нового, и в этом, может быть, самое страшное.
8 ноября 2010 г., понедельник
Юрий Пивоваров
И через тридцать лет ничего не изменилось. Антизападничество и все остальное. И, конечно, особость во всем, и православизация жизнебыта. Все точно описывает о. Александр. – Однако как и куда уйти от всего этого? Это же и есть русская культура (очень во многом). Выйти за ее пределы? – Сомнительно. Трудно представить себе это практически. Во-первых, сама культура не пускает. Во-вторых, выйдя, перестаешь быть русским? Или, отказавшись от существенного в нашей культуре, можно остаться русским? (Однако: что вообще значит «быть русским»? И как «русский» может быть «не русским»?).
Правда, в каком-то узком смысле преодолеть это можно. Скажем, принимая ряд важных идей Данилевского и евразийцев, совершенно отказаться от их воззрений как системы. Перестать обличать и уличать Запад. Любить его, стараться понять, набираться у него уму-разуму. При этом трезво понимая: мы – другие, наш путь – другой. – Здесь о. Александр заметил бы, что я вновь тяну всю эту набившую оскомину дребедень. В том-то все дело, что – нет. И разве вся русская история не показала и не доказала, что Россия не хочет (и не может) идти по западному пути. И ей самой придется искать путь к свободе, праву, социальной солидарности. А ведь придется (уже пришлось). Иначе – диссоциация в мире, аннигиляция из него. Мой тезис: или Россия станет свободной и ответственной, или ее вообще не будет. Выбор любого антилиберального устройства губителен.
А с Западом, повторю, надо быть как можно ближе. Дружить с ним. Да и не с кем больше. Мы – незападные белые, мы – незападные христиане. Акцент на «белые» и «христиане». При этом «белые» – не раса в «биологическом» смысле. Скорее, в социальном.
Но в целом «приговор» о. Александра принимаю.
22 февраля 1980 г., пятница о. Александр Шмеман
(Дневники, с. 512–513)
Очередной номер «Русской мысли». И опять тот же вопрос: что меня так раздражает в эмигрантской прессе? Часть ответа – язык. Мне кажется, что русский язык – самый трудный в мире. Не грамматически (хотя он и грамматически трудный), а по какой-то легкости, доступности в нем фальши, подделки, инфляции. Он – как разбитое, ненастроенное пианино. На нем легко «бренчать». И потому подлинный писатель должен все время его выверять, настраивать, очищать от легкости и «приблизительности». Быть может, это так потому, что создан он был элитой, но очень скоро попал в руки «неэлиты», того, что Солженицын называет «образованщиной». А тут этот, по Тургеневу, «великий, могучий и свободный» язык моментально «расстраивается», становится той же жижей, подделкой с нажатой педалью, что звучит, например, в стихах Надсона да даже – что греха таить – иногда у Блока. Эта опасность существует, конечно, во всех языках, но в большинстве из них она опознается, ибо им присуща иерархичность, организованность. С русским же языком плохо то, что подавляющее большинство русских распознать этой подделки, пошлости, инфляции не способны, ибо сами говорят на такой вот «жиже». Точность, собранность, дисциплина, «выверение» – не русские качества, и это отражается и в языке. Поэтому всякая русская газета (по природе своей «спешная») – мучение для читателя. Всякий «естество свое на вопль понуждает», и не только на вопль, но и на декламацию, риторику. Поэтому, при полной искренности (ох уж эта русская искренность!), все звучит фальшиво… Вот из о. Дудко (героя, исповедника, все что угодно, но, Боже мой, до чего плохого «писаки»!): «Господи, помоги всем коснувшимся или прислушивающимся к невыносимому стону русских мучеников – быть стойкими, как они…». Не говоря уже о том, что ни на одном языке нельзя себе представить такой грамматической «приблизительности» (если «коснувшимся» – то стона, а не «к стону», и т.д.), все в этой фразе «шокирует»: «невыносимый стон мучеников», «касание его», это «журнальное» обращение к Господу и т.д. Но главное – это безостановочно нажатая педаль, сплошная «лирика». «Тысячелетие крещения на Руси (?) должно же значить (?), что не напрасно (?) святой апостол Андрей Первозванный водрузил на киевских горах крест – символ будущего воскресения (?)». «Еще немного осталось, совсем немного (?), когда во всеуслышанье и по слову праведника – преп. Серафима Саровского – запоют на Руси Пасху – Христос воскресе!».
Все это было бы недостойной придиркой к человеку, к людям, у которых – и я пишу это вполне искренне – недостоин развязать ремней обуви, если бы не глубокое убеждение, что слова, слово – не только бесконечно важны, но и являют глубокую, прикровенную сущность. Вот такими, приблизительно, «громогласными» словами всегда говорили и говорят, например, карловчане, и именно в них, в этих словах, раскрывается, как это ни странно, их ложь. «Мы – с Церковью мучеников» и т.д. В них уже – осуждение всех других, которые «не с мучениками». В них гордыня избранничества, особого пути, максимализма и т.д.
Как только молчавшая столько десятилетий Россия начинает говорить, она захлебывается в декламации. И это – и о. Дудко с о. Глебом [Якуниным], и диссиденты (в том же номере длинная статья какого-то новоприбывшего о журнале «Гнозис»: «…рассказ… «Приход» открывает неизведанные области психологической несовместимости душевных пространств, заставляя задуматься над нашей тайной, раскрывая (приоткрывая) нам самих себя в период, когда мы находимся как бы во «взвешенном» состоянии…»), и «талантливая литературная молодежь в поисках своего творческого поля» (из той же статьи).
Но декламация – и в том-то и все дело – всегда плохой признак, дурной симптом. Она всегда прикрывает, «заговаривает» отсутствие чего-то: подлинной глубины, подлинного опыта. Вспоминаются слова Лермонтова в «Герое нашего времени»: «…не русская это храбрость…». Самая же опасная из всех «декламаций» – религиозная. А потому и проверка языка должна была бы стоять на первом месте. Увы, даже и это звучит «декламацией»…
22 февраля 2010 г., понедельник
Юрий Пивоваров
Как «точен», «выверен» в этих словах о. Александр. И как безнадежна ситуация… Если бы он дожил и услышал как заговорили люди конца XX – начала XXI столетия. Невыносимо слышать эти интонации, эту смесь низкопробной лексики с безвкусицей заимствований… Русские так и не поняли, что их единственное богатство не газ, нефть (территория, империя и т.д.), а – язык. Это то, что никогда не подведет, что не подвержено коррозии, девальвации, дефолту. Но его необходимо беречь – ввести в УК статьи, защищающие язык и предполагающие наказание за попытки порчи. И обязательно – подобно Закону Божьему – читать и учить наизусть прозу (и прозу наизусть!) и поэзию.
А. Шмеман прав – слово и есть сущность. Русская же сущность – это принципиальный отказ от декламации (даже Цветаева на обертонах невыносима, а это ведь из самых больших праздников нашего языка).
Кстати, мысли о. Александра о русском языке и, так сказать, практике русского говорения–писания близки концепции языка И. Бродского и его пониманию русского языка. Оба усматривают серьезнейшие изъяны нашей социальной жизни именно в природе, строе русского языка, то есть сознания. Это, конечно, весьма опасная позиция. Поскольку, встав на нее, хотим мы этого или не хотим, но вынуждены будем сделать вывод: русской ментальности имманентны определенные негативные (болезненные) качества. – Да, такая позиция, повторим, опасна, в том числе, и морально. К тому же как это «совмещается» с тем, что для А. Шмемана (и И. Бродского) язык был «прикровенной сущностью»? – В том-то все и дело, что – совмещается. Язык, сознание – это возможности, данные нам. Данные – выработанные в ходе многовековой культурной работы поколений (в этом смысле они даны каждому). Разумеется, каждое поколение пользуется ими по-своему и вносит свой вклад.
Язык как возможность таит в себе и то, что имплицитно ориентировано на добро, но и на – зло. Иначе не понятно, откуда в абсолютно всех культурах мира берутся насилие, несправедливость, эксплуатация. Язык как глубоко сущностный феномен, следовательно, – глубоко внутренний, не явленный в рамках строгой и жесткой системы запретов-разрешений, позволяет превращать его в «разбитое пианино», в декламацию и пр.
Но ведь это и есть тема христианского выбора, следования и ответственности. Поэтому главная наша цель не в «модернизации» и т.д., а в том, что когда-то было обещано (и выполнено) Анной Ахматовой – «Но мы сохраним тебя, русская речь». – Теперь пришла наша очередь.
Рецензии
В.П. Булдаков. Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. – М.: Росспэн, 2007. – 204 с
Более двух десятилетий российские социальные науки, история в первую очередь, переживают период мучительного нащупывания методологических инструментов и рамок, с помощью которых можно было бы адекватно интерпретировать феномен России – страны, как стало модным считать, с «непредсказуемым прошлым», а следовательно, и с непостижимым будущим. Многое мешает: и инфантильная зависимость от тех марксистских догм, которые не выдержали испытания временем, и твердолобая приверженность далеким от марксизма истпартовским мифам, и порожденная импульсом ревизии идеализация досоветского прошлого, и неспособность критически оценить немарксистские социологические теории (кто-то просто зазубривает их), и неустойчивость российской социальной жизни, не настолько голодной, чтобы порождать истины в аскезе мансард, но и не настолько сытой, чтобы обрести независимость от меняющейся конъюнктуры.
Но в мозаике работ, отражающей полярно противоположные и промежуточные, а в целом привычные состояния ума, появляются и исследования, предлагающие нестандартные подходы к изучению российской истории. Приверженцем одного из таких подходов уже давно является Владимир Прохорович Булдаков, автор широко известной книги «Красная смута» (1997)147147
Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. – М.: РОССПЭН, 1997. – 376 с. (2-е изд. – М., 2010).
[Закрыть], в которой впервые излагался взгляд на революции и переломные моменты исторического пути России с антропологических позиций. Конечно, еще древние греки внушали людям, что человек – мера всех вещей, однако попытки доказать эту истину методами социальных и гуманитарных наук начались по существу лишь с Фернана Броделя и «Школы анналов». Серией статей и рецензирумой книгой В.П. Булдаков продолжает шлифовать и развивает свое понимание России через призму исторической антропологии. Всякий прогресс, пишет он, антропоцентричен; но мало того, в России власть является «производной от народных представлений о ней… людская масса по-своему формирует власть… совершенно особым, социологически трудноуловимым способом» (с. 22–23). В этих строках, собственно, и выражено методологическое кредо автора, бросающее вызов привычным представлениям о царской власти как о самодовлеющем Левиафане, формирующем русскую историю – страну, народ и государство. К пониманию современных реалий данное кредо имеет прямое отношение: не думайте, адресуется автор к постсоветским интеллектуалам, что дела идут не так, как хотелось бы, только потому, что бездарные чиновники не подпускают вас к процессу принятия решений; власть изоморфна народу, а против народа (био– и социальной массы, сросшейся с землей/территорией и воплощающей традиционную культуру) просвещенная элита бессильна. Когда в начале ХХ в. произошел «спонтанный вброс примордиалистских представлений в псевдоклассовую среду» (с. 98), самодержавие не смогло воспрепятствовать этому.
«Смута» – наиболее близкий сердцу автора и одновременно наиболее емкий термин, призванный охарактеризовать времена, процессы и события, когда социальная масса восстает против порядка, установленного ею же вскормленной властью, которая теряет организационную и управленческую силу, а с нею и идеологическую привлекательность, становясь объектом всеобщего неприятия, нередко иррационального. Уязвимость понятия «смута» – в его смысловой полифонии и в силу этого неопределенности; оно предназначено одновременно вобрать в себя и заменить привычные термины научно-политического глоссария (восстание, переворот, революция, гражданская война), выпадая из градуированного понятийного ряда. Это не значит, что оно неприемлемо; оно просто менее утилитарно в социологическом исследовании (хотя вполне способно получить привязку к конкретному периоду, как, например, к началу XVII в. в России). И следует согласиться с В.П. Булдаковым в том, что в концепциях исторической антропологии образ Смуты не менее, если не более, уместен, чем образ Революции.
А вот понятие кризиса при еще большей полифоничности претендует на абсолютную утилитарность. Пожалуй, наиболее интересный вопрос, вытекающий из прочтения книги, относится к корреляции понятий «смута» и «кризис». Если смуты происходят с определенной периодичностью, то кризисы, как пишет автор, «стали признаваться естественной формой пространственно-временного существования России» (с. 75). Вместе с тем он предлагает понятие единого «российского кризиса», причем один из разделов книги посвящен анализу семи составляющих этого кризиса, проиллюстрированных примерами из истории страны с XVI по XXI в. Но для того чтобы назрела очередная смута, необходим хоть какой период «не-смуты», период относительного спокойствия, а какое спокойствие, если кризис по существу перманентен? Если же кризис не перманентен, то почему мы должны рассматривать кризисы как естественное состояние российского социума? На мой взгляд, этот вопрос остается без четкого ответа. Я, подобно Владимиру Прохоровичу, не вижу Россию прошлого глазами Б.Н. Миронова – как нормально развивавшуюся и достаточно благополучную страну, которую революционеры спихнули с пути прогресса. Однако из этого не следует, что она то ввергалась в кризис, то накрывалась валом смуты.
Историческая антропология не может существовать вне связи с другими социальными дисциплинами, использующими понятие кризисности применительно ко всем основным сторонам и периодам исторического бытования России. Автор и сам констатирует: «…представление о кризисном ритме русской истории превращается в банальность» (с. 14). И в другом месте ставит вопрос, словно предвосхищая ход мысли читателя: «Можно ли проводить аналогии, игнорируя “принципиальное” несходство эпох?» (с. 104). Ответ дан достаточно корректно: «Исследователи приходят к выводу, что синхронная историческая реконструкция функционирования власти в XVI–XVII и XX вв. способна выявить реактуализацию некоторых (курсив мой. – Ю.И.) элементов традиционного общества, которые обычно считаются поглощенными последовательными волнами модернизации» (с. 104). К «некоторым элементам» относятся распределительный принцип социально-экономической политики и поощрение (кормление) чиновничества (здесь следуют ссылки на работы Т. Кондратьевой и О. Бессоновой), а также неизменная психоментальность homo rossicus на протяжении истории. Действительно, даже этих постоянно повторяющихся явлений достаточно, чтобы опровергнуть постулат о принципиальном несходстве эпох. Но, с другой стороны, их недостаточно, чтобы говорить о полном сходстве характеристик российского социума из века в век; вот и автор в данном случае видит новое проявление не всех, а лишь некоторых традиционных для России феноменов.
Полагаю вместе с тем, что исследователь, утверждающий новый подход к анализу природы и динамики российской общественной жизни, имеет право на гиперболу ради привлечения внимания к постановке проблемы. Поэтому не могу спорить с исходной когнитивной позицией автора, лишний раз подчеркивающей значимость антропологического ракурса в изучении прошлого и настоящего нашей страны: «Для историка взгляд в лицо русского бунта может стать моментом истины в понимании всей русской истории» (с. 62). Русский бунт – обратная сторона русского смирения; этому двуликому Янусу, этой социально-личностной амальгаме посвящены тысячи строк в исторических работах, причем написанных не только самими русскими (вспомним хотя бы классическую для зарубежного россиеведения работу Джеймса Биллингтона «Икона и топор»). Анализ социальных институтов через призму антропологии и социальной психологии имеет не меньше прав на существование, чем анализ социальной психологии через призму социальных институтов.
Утверждая первый подход, В.П. Булдаков не отрицает необходимости второго. «Естественные природно-биологические ритмы постоянно пересекаются и резонируют в ней (в истории. – Ю.И.) с ритмами социально-экономического происхождения», – замечает он, правда, мимоходом (с. 36). Это необычайно перспективная тема, нуждающаяся в специальных исследованиях агрегированными средствами тех самых наук, которые соответствуют типологии указанных «ритмов» (циклов, процессов), – географии, биологии, социологии, экономики, плюс средствами демографии, социальной психологии, правоведения, политологии и, конечно же, самой истории. До известной – но лишь до известной – степени данная тема является предметом изучения самого В.П. Булдакова; экономическая составляющая присутствует в его работах маргинально. Между тем никто не опроверг марксистский тезис о том, что материальное бытие определяет сознание, и хотя не всегда российские кризисы, бунты и смуты вызывались резким ухудшением благосостояния населения (к примеру, в революциях 1917 г. решающую роль сыграли мировая война и политическое банкротство как консервативных, так и либеральных сил), они неизменно протекали на фоне экономических неурядиц. В урожайные годы и периоды промышленных подъемов люди разных слоев спокойно обретались в своей микросреде – семьях, общине, колхозах, светских гостиных, предместьях, рабочих кварталах и т.д.
Историко-антропологическому ракурсу рецензируемой книги удивительно соответствует образная форма выражения мыслей автора – вряд ли такая форма отвечала бы стилю правоведческого или экономического исследования. Автор словно предлагает читателю лишний стимул задуматься о роли пресловутого «человеческого фактора» в истории. Некоторые его комментарии близки к афоризмам. Приведу несколько примеров. Относительно социально-психологической природы бунтов: «Оказывается, заключенный может полюбить свою камеру, продолжая ненавидеть тюрьму. Так называемая общинная революция очень напоминала собой тюремный бунт. Как ни невероятно, в экстремальных условиях русский человек готов был порушить государство-тюрьму ради более комфортного пребывания в привычной камере» (с. 64). О критике авторитарной власти либералами: это «псевдопарламентские пляски вокруг принципа авторитаризма» (с. 91). О нынешней (да и всегдашней) вере в спасителей нации: «Людям трудно поверить, что масштабность лидера вырастает из их собственного бессилия» (с. 195).
Хлесткость лексики в приведенных и других примерах оттеняет смысл того, чем автор стремится поделиться с читателем, который, вероятно, не всегда с ним согласится. Но в ряде мест книги подкупает научная точность изложения важных выводов, даже если последние касаются устоявшихся истин. Это относится, в частности, к вопросу о привычке людей к опеке государства и социальному иждивенчеству: «Избыточный государственный патернализм всегда чреват инфантилизацией социальной среды, если угодно, ее креативной дисфункциональностью» (с. 47). Парадоксальность выражения «креативная дисфункциональность» – кажущаяся. Ведь, как было отмечено в начале рецензии, автор твердо и оправданно стоит на позиции влияния народной массы на власть, и даже тогда, когда существующая форма власти сметается, социальный переворот несет креативные последствия в виде создания (или попыток создания) новых ее форм.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































