Текст книги "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"
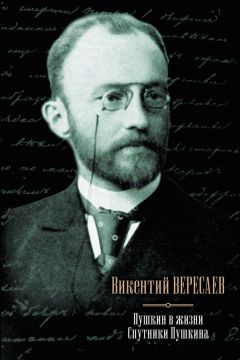
Автор книги: Викентий Вересаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 77 (всего у книги 134 страниц)
Прошел обусловленный год – и Лунин опять взялся за перо. И опять пошли в Третье отделение его письма, еще более резкие, чем прежде. Он писал о крепостном праве, о польском вопросе, о подавлении всякого свободного мнения. «Из вздохов, заключенных под соломенными кровлями, рождаются бури, низвергающие дворцы», «В наше время почти нельзя сказать «здравствуй» без того, чтоб это слово не заключало в себе политического смысла», «Если ожидать истину из правительствующего сената, то много утечет воды, пока это случится» и т. п. Лунин написал еще разбор донесения следственной комиссии по делу декабристов, где подверг донесение самой резкой критике. Статья получила распространение в списках, об этом было донесено в Петербург. Император приказал произвести у Лунина строжайший обыск и отправить его за Байкал, подвергнув строжайшему заключению, так чтобы он не мог ни с кем иметь сношений ни личных, ни письменных. Жандармы нагрянули к Лунину с обыском. Увидев над его постелью ружье, жандармский офицер смутился. Лунин усмехнулся и сказал:
– Не бойтесь. Таких людей, как вы, бьют, а не убивают.
Когда Лунина увозили, вся деревня сбежалась его провожать. Прощались, плакали, бежали за его телегой, кричали:
– Помилуй тебя Бог, Михаил Сергеевич! Бог даст, вернешься! Будем оберегать твой дом, за тебя молиться будем!
27 марта 1841 г. Лунин был доставлен в Иркутск и подвергнут допросу. Он отвечал скупо; из лиц, которым дал свою статью, назвал только двоих умерших, заявил, что писал статью, по его убеждению, в соответствии с истиной. Но арест, видимо, потряс его глубоко; на допросе говорил он отрывочно, без связи и последовательности, забывал, что только что сказал. В тот же день Лунин с запечатанным конвертом был отправлен за Байкал. В Нерчинске в первый раз за всю жизнь дрогнул душой этот несгибающийся, бесстрашный человек. Должно быть, слишком большой жутью охватило его ожидание предстоящей кары. В новом своем показании он опять никого не выдал, но закончил показание так: «Я сознаю себя виновным; и, готовясь принять с благодарностью все кары мне определенные, полагаю единственную здесь надежду мою на прозорливую справедливость и великодушие государя-императора». Его увезли к самым границам Китая, в Акатуй, местность с убийственным климатом; заключили в ужаснейшую тюрьму, где содержались уголовные преступники-рецидивисты. Крышка гроба крепко захлопнулась за Луниным. С тех пор никто из близких не видел его. Но через посещавшего его ксендза и через некоторых привязавшихся к нему часовых Лунину изредка удавалось давать о себе вести на волю. Он писал М. Н. Волконской и ее мужу: «Мои предыдущие тюрьмы были будуарами по сравнению с тем казематом, который я занимаю. Он так сыр, что книги и платье покрываются плесенью, моя пища так умеренна, что не остается даже чем накормить кошку. Я погружен во мрак, лишен воздуха, пространства и пищи, окружен разбойниками, убийцами и фальшивомонетчиками. Мое единственное развлечение заключается в присутствии при наказании кнутом во дворе тюрьмы. Перед лицом этого драматического действия, рассчитанного на то, чтобы сократить мои дни, здоровье мое находится в поразительном состоянии, и силы мои далеко не убывают, но, наоборот, кажется, увеличиваются. Все это меня совершенно убедило в том, что можно быть счастливым во всех жизненных положениях и что в этом мире несчастны только дураки и глупцы. Если только не вздумают меня повесить или расстрелять, я способен прожить сто лет. Но мне нужны лекарства для бедных моих товарищей по заключению. Пришлите средства от лихорадки, от простуды и от ран, причиняемых кнутом и шпицрутенами». Трудно решить, правда ли было то, что писал Лунин о своем здоровье и настроении, или он только не хотел ныть и возбуждать к себе жалость. В начале 1846 г. новый шеф жандармов, граф А. Ф. Орлов, бывший товарищ Лунина по кавалергардскому полку, доложил императору Николаю, что «содержавшийся в Акатуевском тюремном замке государственный преступник Лунин 3 декабря 1845 г. скоропостижно скончался».
Лунин был создан из материала, из которого формируются подлинные революционные борцы. Тем интереснее отметить, как искривляется сознание даже таких людей под влиянием их классово-привилегированного происхождения. До осуждения Лунин был богатым человеком, владел не одной сотней душ крестьян. Членам своим Тайное общество рекомендовало освобождать принадлежащих им крестьян. Лунин своих крестьян не освободил, но составил в 1819 г. духовное завещание на имя двоюродного брата Н. А. Лунина, где поручал ему в течение пяти лет после смерти завещателя провести освобождение всех крепостных. Условия освобождения были самые суровые: «Уничтожить право крепостное над крестьянами и дворовыми людьми, не касаясь земель, лесов, строений и имуществ вообще». Мало и этого: на освобожденных налагалась «обязанность в отношении доставления наследнику доходов», определение этих обязанностей предоставлялось наследнику. Все же земли должны были быть превращены в майорат, передаваемый из рода в род в нераздробленном виде одному из сыновей владельца. Когда после осуждения Лунина возник вопрос об утверждении завещания, пункт о закабалении помещику освобожденных крестьян вызвал возражение даже со стороны министра юстиции. «Невозможно, – писал он, – дозволить уничтожение крепостного права с оставлением крестьян на землях помещика и со всегдашней обязанностью доставлять оному доходы».
Княгиня Евдокия Ивановна Голицына(Princesse Nocturne)
(1780–1850)
Рожденная Измайлова, дочь сенатора. Получила прекрасное образование, была красивой женщиной. В 1799 г., по желанию императора Павла, была выдана замуж за некрасивого, ограниченного и расточительного князя С. М. Голицына. С воцарением АлександраI Голицына разъехалась с мужем и зажила независимой жизнью. Вскоре она полюбила образованного и умного князя М. П. Долгорукова, просила у мужа развода, но тот отказал. За это она позднее отказала в разводе мужу, когда он вздумал жениться на фрейлине А. О. Россет, будущей Смирновой. Вяземский пишет про нее: «Княгиня Голицына была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в своей первой молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные, выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос и произношение необыкновенно мягкие и благозвучные, – и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней было что-то ясное, спокойное, скорей, ленивое, бесстрастное. По собственному состоянию своему, по обоюдно согласованному разрыву брачных отношений, она была совершенно независима. Но эта независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать – в этой храмине, тем более что и хозяйку можно было признать жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у ней собиравшемуся, что-то, не скажу, таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно бы было думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные. Выше сказали мы: собирались по вечерам. Можно было бы сказать – собирались в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге la Princesse Nocturne (княгиня ночная). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, и беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра. Была ли княгиня очень умна или нет? Знав ее довольно коротко, мы не без некоторого смущения задаем себе этот щекотливый вопрос. Но положительный ответ на него дать не беремся». В другом месте Вяземский отзывается о ней так: «У Голицыной полуночной есть душа, и иногда разговор ее, как россиниева музыка, действует на душу. Но все это отдельные фразы».
Голицына держалась очень «патриотических» взглядов, была ярой противницей автономии Польши и конституционного образа правления. Вскоре по окончании Отечественной войны она появилась в Москве на балу Благородного собрания в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. В сороковых годах предприняла целый поход против министра государственных имуществ Киселева за заботы его о разведении в России картофеля, – она считала это нововведение посягательством на русскую национальность. Кроме того, Голицына обнаруживала большую склонность к математике, дружила с выдающимися математиками, издала даже собственное сочинение по математике, – «совершенное сумасбродство», по отзыву А. Тургенева. В тридцатых годах Голицыну встретил у князя В. Ф. Одоевского В. В. Ленц и описывает ее так: «Старая и страшно безобразная, она носила всегда платья резких цветов, слыла ученою и, говорят, вела переписку с парижскими академиками по математическим вопросам. Мне она показалась просто скучным синим чулком». Во время пребывания Бальзака в 1845 г. в Петербурге Голицына, не будучи с ним знакома, в полночь прислала за ним карету с приглашением к себе. Бальзак очень этим оскорбился и написал ей: «У нас, милостивая государыня, посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы. Я не врач».
В 1817 г. Пушкин сильно увлекался княгиней Голицыной. Карамзин писал князю Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию: от ее трезубца пышет не огнем, а холодом». Вскоре Пушкин и «записал от любви»:
Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно-свободной?
Где женщина – не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел –
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.
Пушкин продолжал бывать у Голицыной и в следующие годы до своей высылки, но увлечение ею уже стало остывать. В 1819 г. он послал ей свою оду «Вольность». Зная политические взгляды княгини, нельзя не видеть в этом со стороны Пушкина некоторого вызова. Посылку свою Пушкин сопроводил следующими любезными стихами:
Простой воспитанник природы,
Так я, бывало, воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю, –
И что же?.. Слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.
Мы не имеем сведений, встречался ли Пушкин с Голицыной впоследствии. Но, живя на юге, он несколько раз вспоминал о ней в письмах и в мае 1821 г. писал из Кишинева А. Тургеневу: «Вдали камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии».
Графиня Екатерина Марковна Ивелич(1795–1838)
Отец ее, Марк Константинович, по сообщению генеалога князя П. В. Долгорукова, был черногорский выходец, по фамилии Графивелич, поступил офицером на русскую службу и стал писаться «граф Ивелич». Так получился его графский титул. Он дослужился до чина генерал-лейтенанта и звания сенатора, отличался чудачествами, любил играть в карты и всем говорил «ты». Графиня Екатерина Марковна во время послелицейского пребывания Пушкина в Петербурге жила рядом с Пушкиным на Фонтанке близ Калинкина моста. Пушкин был постоянным посетителем Ивелич. «Некрасивая лицом, – пишет современник, – она отличалась замечательным остроумием; ее прозвища и эпиграммы действовали, как ядовитые стрелы. До конца жизни оставалась она в девицах и не любила, когда ее подруги выходили замуж». В 1824 г. с ней познакомилась С. М. Салтыкова, будущая жена Дельвига. Ивелич возмутила ее своим вульгарным тоном. Салтыкова писала подруге: «Она больше походит на гренадера самого дурного тона, чем на барышню. Что за походка, что за голос, что за выражения! К тому же она нюхает табак и курит, когда никого нет; выкурила пять или шесть трубок при мне в течение одного вечера. Какова девица?» Однако, познакомившись ближе, Салтыкова совершенно переменила мнение о графине Ивелич. «Я никак не предполагала, – пишет она той же подруге, – что у нее столько ума и такая благородная страсть к поэзии. Ужасно досадно, что у нее, из-за ее манер, вид мужчины. Она сама пишет русские стихи, и вовсе не плохие. Она уверяла меня, что Пушкин совсем не такой плохой человек, как о нем говорят, что этой репутации он не заслуживает, что он очень хороший малый и т. д.». Баргенев, однако, со слов Соболевского, сообщает, что сама Ивелич передавала матери Пушкина дурные слухи, ходившие про него в городе, и что это она выведена в «Руслане и Людмиле» под именем Дельфиры. Описывая Людмилу, Пушкин спрашивает:
Екатерина Семеновна Семенова
Скажите: можно ли сравнить
Ее с Дельфирою суровой?
Одной – судьба послала в дар
Обворожать сердца и взоры;
Ее улыбка, разговоры
Во мне любви рождает жар.
А та – под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блажен, кого под вечерок
В уединенный уголок
Моя Людмила поджидает
И другом сердца называет!
Но верьте мне, блажен и тот,
Кто от Дельфиры убегает
И даже с нею незнаком.
(1786–1849)
Смоленский помещик Путята, в благодарность за воспитание сына, подарил учителю кадетского корпуса, поручику Жданову, двух крепостных людей – парня Семена и девушку Дарью. Эту девушку Жданов сделал своей наложницей, а когда она забеременела, выдал замуж за Семена. Родилась девочка, которая отчество и фамилию получила от номинального отца и стала крепостной собственностью отца фактического.
Училась Семенова в театральном училище в Петербурге под руководством знаменитого актера Дмитревского. В 1803 г. дебютировала на сцене и вскоре выдвинулась как первоклассная трагическая актриса. Современник рассказывает: «Самое пылкое воображение живописца не могло бы придумать прекраснейшего идеала женской красоты для трагических ролей. И при этом голос чистый, звучный, приятный, при малейшем одушевлении страстей потрясающий все фибры человеческого сердца». Особенная сила Семеновой заключалась в способности целиком уходить в роль, самозабвенно переживать чувства изображаемого лица как свои собственные. Успех Семеновой был колоссальный; каждое выступление ее в новой роли было театральным событием.
Пушкин в послелицейское свое пребывание в Петербурге очень сильно увлекался Семеновой, даже был в нее влюблен. Думают, что под одной из «Екатерин» в его «донжуанском списке» следует разуметь Семенову. В бумагах Гнедича найдена была ненапечатанная в свое время статья Пушкина о русском театре с такой припиской Гнедича: «Пьеса, вообще сумасбродная, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же отдала ее». В статье этой Пушкин писал: «Говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой – и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собой. Семенова никогда не имела подлинника. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто – порывы истинного вдохновения, – все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано… Семенова не имеет соперниц». С особенным блеском выступала Семенова в трагедиях Озерова, являвшихся переходным этапом от ложноклассической трагедии к романтической драме. Именно в связи с Озеровым вспоминает Пушкин Семенову и в первой главе «Онегина»:
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил…
Общее развитие и образование Семеновой были очень невелики. Ей постоянно нужен был руководитель, который растолковывал бы ей роли. Сначала это был князь А. А. Шаховской, потом Гнедич. Непосредственное чувство постепенно все больше стало заменяться у Семеновой механическим следованием детальнейшим указаниям руководителей. Лишь изредка, в порыве вдохновения, она разбивала надетые на нее колодки и проявлялась во всей силе непосредственности. Избалованная общим поклонением, она стала лениться, роли изучала все небрежнее, сделалась мелкотщеславной и капризной, очень ревнивой к своей славе, высокомерной с товарищами-артистами. В начале 1826 г. Семенова оставила сцену и переселилась в Москву вместе с князем И. А. Гагариным, с которым жила уже пятнадцать лет и от которого имела четверых детей. В 1828 г. она вышла за него замуж. У нее бывали выдающиеся москвичи – С. Т. Аксаков, Надеждин, Погодин. Часто бывал и Пушкин. По выходе «Бориса Годунова» он поднес ей экземпляр трагедии с надписью: «Княгине Е. С. Гагариной от Пушкина, Семеновой – от сочинителя». Изредка Семенова выступала в домашних спектаклях у себя и у знакомых.
Александра Михайловна Колосова-Каратыгина(1802–1880)
Выдающаяся драматическая артистка, дочь известной в свое время танцовщицы Евгении Ивановны Колосовой, впоследствии жена знаменитого трагического актера В. А. Каратыгина. Было ей шестнадцать лет. Она готовилась к дебюту на сцене под руководством князя А. А. Шаховского и у него познакомилась с молодым, ей еще мало известным Пушкиным. Особенного внимания они друг на друга не обратили. Однажды, на Страстной, Колосовы и Пушкины одновременно говели в церкви театрального училища на Офицерской улице. В страстную пятницу, во время выноса плащаницы, растроганная Колосова горько плакала. И вдруг она Пушкину понравилась, – понравилась ее искренняя печаль, трогательная молодость, – ей было шестнадцать лет. Через сестру Ольгу он передал Колосовой, что ему очень больно видеть ее горесть, но что он напоминает ей – ведь Иисус Христос воскрес, – о чем же плакать? Они стали видеться чаще, – сначала у общей знакомой, графини Е. М. Ивелич, потом Пушкин начал бывать у Колосовых и вскоре сделался у них своим человеком. И мать – Колосова и дочь очень его полюбили. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, Саша Пушкин у Колосовых смешил их своей резвостью и ребяческой шаловливостью. Ни минуты не посидит спокойно на месте: вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабочий ящик матери, спутает клубки гаруса в вышивании дочери; разбросает карты в гран-пасьянсе, который раскладывает Евгения Ивановна. Она рассердится, крикнет:
– Да уймешься ли ты, стрекоза! Перестань, наконец!
Пушкин минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Однажды Евгения Ивановна пригрозилась наказать его – остричь ему когти: так она называла его огромные, отпущенные на руках ногти. Взяла ножницы и приказала дочери:
– Держи его за руку, а я остригу!
Дочь взяла Пушкина за руку, он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают. Все смеялись до слез.
В конце 1818-го и в начале 1819 г. Колосова дебютировала на сцене в ролях Антигоны («Эдип в Афинах» Озерова), Моины («Фингал» его же) и Эсфири («Эсфирь» Расина). Пушкин так рассказывает про эти дебюты: «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно – чистая, приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во все продолжение игры ее рукоплескания не прерывались. По окончании трагедии она была вызвана криками исступления, и, когда г-жа Колосова-большая, «прекрасной дочери еще более прекрасная мать», в русской одежде, блистая материнской гордостью, вышла в последующем балете, – все загремело, все закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу. Пример, единственный в истории нашего театра. Три раза сряду Колосова играла три разные роли с равным успехом».
Вскоре после этих дебютов Пушкин вдруг резко прекратил свои посещения Колосовой, а немного спустя до нее дошла злая эпиграмма на нее Пушкина:
Все пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любови,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И широкая нога!
Колосова думает, что причиной перемены отношения к ней Пушкина было следующее: говоря о Пушкине у князя Шаховского, Грибоедов назвал его «мартышкой», Пушкину же передали, будто так назвала его Колосова. Сомнительно, чтобы это было так: Грибоедов еще летом 1818 г. уехал из Петербурга. Во всяком случае, была и другая причина. В упомянутой выше статье Пушкина о русском театре он восторженно выхваляет Семенову, потом, рассказав об удачных дебютах Колосовой, продолжает: «Чем же все кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел, похвалы стали умеренные, рукоплескания утихли; перестали ее сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре стала она являться перед опустелым театром. Наконец, в ее бенефис, когда играла она роль Заиры, все заснули… Если Колосова будет менее заниматься флигель-адъютантами его императорского величества, а более – своими ролями; если жесты ее будут естественнее и не столь жеманными; если будет подражать не только одному выражению лица Семеновой, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем истинно хорошую актрису». Отмечают раздражение, с которым Пушкин говорит здесь о флигель-адъютантах. Можно думать, что, упоенная успехом, славой и поклонением знатной молодежи, Колосова равнодушно и покровительственно стала относиться к Пушкину. Это его задело, – и он стрельнул в нее эпиграммой. Была здесь и обида, и ревность, и, может быть, желание угодить сопернице Колосовой, нравившейся ему Семеновой.
Вскоре Пушкин был выслан из Петербурга. Через два года он послал Катенину из Кишинева письмо и приложил стихи, в которых каялся в своей эпиграмме на Колосову:
Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна, в дыму кадил,
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единой,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Мойной.
Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит,
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.
Письмо, однако, не дошло до Катенина; он и Колосова прочли стихи только после напечатания их в 1826 г. Осенью 1827 г., во время представления переведенной Катениным комедии Мариво, Катенин привел к Колосовой в уборную Пушкина, – «кающегося грешника», – объявил Пушкин.
Колосова, смеясь, напомнила:
– «Размалеванные брови…»
Пушкин, конфузясь и целуя ей руки, перебил:
– Полноте, бога ради! Кто старое помянет, тому глаз вон! Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве.
В начале тридцатых годов Пушкин читал у Колосовой, тогда уже Каратыгиной, в присутствии И. А. Крылова, своего «Бориса Годунова». Ему очень желалось, чтобы супруги Каратыгины прочитали в театре сцену у фонтана Дмитрия с Мариной. Но Бенкендорф постановки не разрешил.









































