Читать книгу "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"
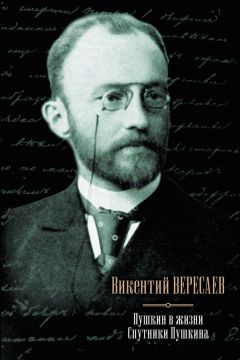
Автор книги: Викентий Вересаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Историей руководит божий промысел. Языческие народы в жизни своей руководились «интересами», у христианских народов Европы все положительные, материальные, личные интересы поглощались идеей. В этом одушевлении жизни духовными интересами вся тайна европейской культуры и залог ее дальнейшего развития. Эллинская культура и самый яркий ее представитель Гомер вызывает в Чаадаеве омерзение – «гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле, – все это заимствовано нами у Гомера. Философия истории по совести обязана бы наложить на чело Гомера клеймо неизгладимого позора». Средние века – это наивысший и прекраснейший расцвет истинно христианской культуры. «По истории средних веков, – пишет Чаадаев, – можно ясно видеть, какое направление приняла бы мысль христианских народов, если бы она всецело отдалась руке, которая ее вела». Но пришла эпоха Возрождения и сбила европейские народы с правильного пути. Этот возврат к язычеству будет возбуждать в новых народах стыд как воспоминание о сумасшедшем и преступном увлечении молодости. По мнению Чаадаева, «доказано, что наиболее плодотворными эпохами в истории человеческого духа были те, когда наука и религия шли рука об руку»; все великие научные открытия совершены тогда, когда наука опиралась на теологию (!). Новейшие научные открытия ведут к полному подтверждению космогонической системы, изложенной в Библии, и философия истории совершенно невозможна без допотопных событий, рассказанных в «книге Бытия». Все революции ничего, кроме вреда, не приносят и отбрасывают человечество далеко назад. «Ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и все остальное приложится вам». Сила, объединяющая человечество и ведущая его к Царству Божию на земле, это – «истинное христианство, представленное католичеством». Папство существенным образом вытекает из самого духа христианства, оно централизует христианские идеи, сближает их между собой и в силу своего божественного призвания величаво парит над миром материальных интересов. Протестантизм снова поверг мир в языческую разъединенность. Но, «слава Богу, реформация не все разрушила; слава Богу, общество было уже вполне построено для вечной жизни, когда этот бич поразил христианский мир». Россия осталась чужда великому нравственному движению, которым жила католическая Европа. Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к растленной, глубоко презираемой европейскими народами Византии и получили из ее рук мертвое, в корне искаженное христианство. И по этой причине, когда христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, – мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места.
Вот какое учение вынес Чаадаев из своей Фиваиды. Он стал появляться во всех великосветских салонах, ежедневно бывал в клубе. Изящный, умный, красноречивый, он везде делался центром общества. М. И. Жихарев рассказывает: «Склад речи и ума Чаадаева поражал всякого какою-то редкостью и небывалою невиданностью, чем-то ни на кого не похожим. Он обладал способностью магнетического притяжения людей. Его разговор, даже одно его присутствие действовали на других, как шпоры на благородную лошадь». Дамы ему поклонялись и носили на руках, им Чаадаев проповедовал особенно охотно, к даме обращены его религиозно-философские письма, которые он в копиях распространял в обществе. Он сам где-то назвал себя «философом женщин».
Чаадаев был проповедником – в представлении его недоброжелателей. Буйно-революционный христианский догматизм Ламмене вызывал в нем отрицательное чувство. «Как можно искать разума в толпе? – писал он. – Где видано, чтоб толпа была разумна? Это вовсе не христианское исповедание. Каждому известно, что христианство, во-первых, предполагает жительство истины не на земли, а на небеси; во-вторых, что когда она является на земли, то возникает не из толпы, а из среды избранных или призванных».
В 1836 г. Надеждин опубликовал в своем журнале «Телескоп» одно из «Философических писем» Чаадаева, написанное шесть лет назад и представлявшее совершенно ясное частичное изложение чаадаевской системы, выше изложенной: спасение человечества только в религии; у западноевропейских народов единственным могучим двигателем были идеи, поглощавшие все материальные и личные выгоды; основная сила, оживотворяющая Европу, это – католицизм; наше декабрьское движение – плод дурных понятий и гибельных заблуждений, оно отодвинуло нас назад на полстолетия и т. д. Рядом с этим письмо заключало в себе страстные нападки на Россию, на ее отсталость, некультурность, ничтожность ее истории, убожество ее настоящего. «Посмотрите вокруг себя, – писал Чаадаев. – Все как будто на ходу. Мы все как будто странники. Нет ни у кого сферы определенного существования. Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели… В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно, и к тому еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономией народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы… Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло из-среди нас». Под статьей стояло: «Некрополис» (город мертвых, т. е. Москва).
Герцен ярко рассказывает о впечатлении, произведенном статьей Чаадаева:
«Письмо Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться. Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и непривыкшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними – десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать. Вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать: «lasciate ogni speranza (оставьте всякую надежду)!» Появился наконец человек с душою, переполненною горечью; он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького на душе образованного русского. Строгий и холодный, автор требует отчета у России о всех страданиях, которыми она наделяет всякого, кто осмелился бы выйти из состояния скотины. Он хочет знать, что мы этой ценой покупаем, чем мы заслужили такое положение. Да, этот мрачный голос послышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что ее прошлое было бесполезно, ее настоящее излишне и что у ней нет никакой будущности».
Письмо Чаадаева, хотя и ложно понятое, как впоследствии признавал и сам Герцен, все же потрясло всю Россию, мыслящую, ищущую, задыхающуюся в николаевских цепях живую ее часть. Но и в официальной России письмо произвело огромный переполох. Журнал, где напечатано было письмо Чаадаева, закрыли, редактора Надеждина сослали в Устьсысольск, цензора, пропустившего статью, уволили со службы. Чаадаева же официально объявили сумасшедшим и отдали под врачебный надзор. Каждое утро полицейский лекарь должен был посещать Чаадаева и наблюдать за его здоровьем. Ему запрещено было писать. В остальном Чаадаеву была предоставлена свобода, он мог выходить из дома, мог принимать у себя гостей. Москва, всегда державшаяся несколько оппозиционно по отношению к Петербургу, с большим сочувствием относилась к людям, преследуемым Петербургом. Чаадаев, наряду с генералом Ермоловым и М. Ф. Орловым, стал в этом отношении одним из популярнейших в Москве людей. Популярности его способствовало исключительное обаяние, от него исходившее, огромный ум и изящное тонкое красноречие. Герцен так описывает Чаадаева того времени: «Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделялась каким-то грустным упреком на фоне московского высшего общества. Я любил смотреть на него среди этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его; он одевался очень тщательно; бледное, нежное лицо его, когда он молчал, было совершенно неподвижно, как будто из воску или из мрамора; «чело, как череп, голый» («Полководец» Пушкина); серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе; тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе, и живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него… Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, Бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения…»
Герцен до конца жизни сохранил нежную любовь к Чаадаеву и всегда вспоминал о нем с глубочайшим уважением. Но он многого не знал о нем. Не знал, что Чаадаев восторженно приветствовал Пушкина за его стихи на усмирение Польши, что писал ему по поводу этих стихов: «…вот наконец ты – национальный поэт; ты угадал наконец свое призвание». В 1851 г. Герцен, тогда уже эмигрант, издал за границей брошюру «О развитии революционных идей в России», где, между прочим, рассказывал о революционизирующем действии, произведенном на общество «Философическим письмом» Чаадаева в «Телескопе». Выдержки из этой статьи приведены выше. В письме к Герцену Чаадаев тепло поблагодарил его за его отзыв, а шефу жандармов графу А. Ф. Орлову по поводу этого отзыва писал: «Каждый русский, каждый верноподданный царя, в котором весь мир видит Богом призванного спасителя общественного порядка в Европе, должен гордиться быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого, священного призвания; как же остаться равнодушным, когда наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор?» И просил у Орлова разрешения написать опровержение на книгу Герцена. Копию этого письма Чаадаев дал прочесть своему племяннику М. И. Жихареву. Жихарев прочел и спросил:
– Зачем вы сделали эту ненужную гадость?
Чаадаев взял письмо, бережно сложил его в маленький портфельчик, который всегда носил при себе, и, помолчав с полминуты, ответил:
– Мой дорогой, приходится дорожить своей шкурой.
Письмо его в «Телескопе», помимо, может быть, намерений Чаадаева, сыграло именно такую роль, какую отмечает Герцен. Упорная борьба Чаадаева с национальным чванством и квасным патриотизмом тоже должна быть зачтена ему в заслугу; хотя «западничество» Чаадаева шло совершенно из других истоков, чем западничество Белинского, Герцена, Бакунина, Грановского, но в общей борьбе их со славянофильством Чаадаев являлся ценным союзником. Наконец, Чаадаев, какова бы ни была его направленность, был все же большой и оригинальный ум, начисто заклеванный российским двуглавым орлом.
Обязательный врачебный надзор, которому был подвергнут Чаадаев, через год был снят, но запрещение писать осталось в силе. После истории с напечатанием его письма Чаадаев прожил двадцать лет. Жил он все время на Новой Басманной, во флигеле дома, принадлежавшего его друзьям Левашовым; остался там жить, когда дом был продан другому лицу. Флигель с годами пришел в полную ветхость, покосился. Но Чаадаев продолжал жить в нем до самой смерти и не давал хозяину возможности ни перекрасить полы квартиры, ни поправить печи. Он и лето проводил в Москве, отказывался даже на день, на два посетить знакомых на даче или в подмосковной деревне. Вел жизнь точно размеренную; в определенные часы гулял, в определенные дни бывал в Английском клубе, сидел там всегда на диване в маленькой каминной гостиной; если находил свое место занятым, выказывал явное неудовольствие. У кого бы ни был в гостях, какой бы ни был интересный разговор, ровно в половине одиннадцатого прощался и уходил. Обедал всегда в том же ресторане Шевалье. Чаадаев принимал у себя по понедельникам от часу до четырех дня. В трех маленьких комнатах его флигеля собирался весь цвет московской и приезжей интеллигенции. Чаадаев любил, чтоб его в эти дни не забывали, и зорко следил не манкирует ли кто из знакомых его понедельниками. Вообще был очень обидчив, щепетильно считался визитами и не выносил малейше непочтительного к себе отношения. Тщеславие его не знало границ. Одна дама спросила его, гуляет ли он зимой пешком. Чаадаев ответил:
– Я крайне удивлен, что мои привычки неизвестны кому-нибудь. Знайте же, что я гуляю ежедневно от часу до двух.
Знакомый Чаадаева собирался ехать во Францию и спросил, не будет ли у него каких поручений. Чаадаев сказал:
– Скажите французам, что я здоров.
У него всегда был большой запас собственных литографированных портретов, и он их дарил новым знакомым. «Вряд ли он был способен на истинную привязанность, – рассказывает С. В. Новосильцева. – Несмотря на мягкость приемов, в нем проглядывала какая-то сухость, и он не пренебрегал случаем порисоваться даже в чувстве». Интересно, между прочим, что у Чаадаева, как у многих людей, сильно живущих умственной жизнью, было совершенно атрофировано половое влечение, у него за всю жизнь не было ни одного романа с женщиной, не было даже мимолетной связи. Реальной жизнью он совершенно не интересовался и проявлялся в ней с крайней наивностью. В начале 50-х гг. он говорил доброму своему приятелю, начальнику московских водопроводов:
– Решительно не могу понять вашего здесь назначения; я с ребячества жил в Москве и никогда не чувствовал недостатка в хорошей воде; мне всегда подавали стакан чистой воды, когда я этого требовал.
Когда-то Чаадаев был очень богат: общее его с братом имущество оценивалось в миллион рублей. Но Чаадаев не любил в чем-нибудь себе отказывать; прожил свою долю, прожил два полученных наследства. Брат долго помогал ему, но наконец отказался. Чаадаев занимал деньги направо и налево, за квартиру не платил, но нанимал помесячно элегантный экипаж, держал помимо другой прислуги камердинера, которому дозволялось заниматься только чистой работой, – даже сапоги этому камердинеру чистил другой служитель. Перчатки Чаадаев покупал дюжинами. Наденет одну перчатку, найдет, что она недостаточно элегантна, и отдает всю дюжину камердинеру.
Каковы были отношения между Чаадаевым и Пушкиным после высылки Пушкина из Петербурга, мы знаем мало. В 1826 г. оба они почти одновременно приехали в Москву: Пушкин – из псковской ссылки, Чаадаев – из заграничного путешествия. Но свиделись ли они в это время, мы достоверных сведений не имеем. Впоследствии встречались, беседовали. Однако дороги их слишком разошлись, от прежней умственной и нравственной близости мало осталось. Чаадаеву, ненавидевшему, как мы видели, Гомера, направление поэзии Пушкина было очень не по сердцу. В 1829 г. он писал ему: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть тебя посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, как зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, который должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинным настроениям черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе: зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мною всякий раз, когда я думаю о тебе, а думаю я о тебе так часто, что совсем измучился. Не мешай же мне идти, прошу тебя. Если у тебя не хватает терпения, чтобы научиться тому, что происходит в мире, то погрузись в себя и извлеки из собственного твоего существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной твоей. Я убежден, что ты можешь принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обмани своей судьбы, мой друг… Обратись с воплем к небу, – оно ответит тебе». И в ряде писем Чаадаев старался обратить Пушкина в свою веру, посылал ему копии «Философических писем», пророческим тоном писал о гибели современного мира и о грядущей новой истине, звал Пушкина стать глашатаем этой истины. Пушкин отвечал Чаадаеву, – с одним соглашался, на другое возражал, но в основном оставался, к счастью, глубоко равнодушным к призывам бывшего друга.
Вскоре после смерти Пушкина Чаадаев в своей «Апологии сумасшедшего», говоря о письме своем в «Телескопе», писал: «Может быть, преувеличением было опечалиться на минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».
Князь Петр Андреевич Вяземский(1792–1878)
Крупный помещик. Острый критик, суховатый, скрипучий поэт, с полным преобладанием ума над эмоцией. Это по поводу него и к нему писал Пушкин: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Ценен и до настоящего времени как мемуарист, как автор «Записной книжки», полной остроумия и блестящих, художественных характеристик тогдашнего быта и людей.
Сын князя Андрея Ивановича Вяземского, при Екатерине – наместника нижегородского и пензенского, при Павле – действительного тайного советника и сенатора. Родился в родовом подмосковном имении Вяземских Астафьеве, воспитывался в иезуитском пансионе в Петербурге, потом слушал у себя на дому лекции московских профессоров. В 1812 г. поступил в московское ополчение, в Бородинском сражении под ним были убиты две лошади. В 1818 г. определился на службу в Варшаву к Н. Н. Новосильцеву, принимал деятельное участие в выработке проекта русской конституции, составление которой было поручено Александром I Новосильцеву. Письмо Вяземского, содержавшее резкие отзывы о российских порядках, было перлюстрировано, он уволен от службы без прошения и отдан под негласный надзор полиции. Сам Вяземский по поводу увольнения своего говорит: «Я ни душою, ни телом не виноватый, а разве одною гимнастикою языка, прослыл за революционера и карбонара». Революционером и карбонарием Вяземский действительно не был. Он был умеренным конституционалистом, признававшим лишь лояльные способы борьбы, поклонником феодально-аристократической английской конституции, типичным либералом английского склада; стоял за уничтожение крепостного права из чувства чисто классового самосохранения. «Рабство, – писал он, – одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? Корысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего – все от этой меры зависит». Однако при всем этом Вяземский неистово ненавидел самодержавие, всепроникающим ядом отравлявшее строй русской жизни. Его стихотворения «Негодование», «Русский Бог» и др. по своему пафосу нисколько не уступают самым революционным стихам Рылеева и Пушкина и пользовались в свое время огромной популярностью. Оригинально, что Вяземский нисколько не сдерживался в письмах, прекрасно зная, что они тщательнейшим образом перлюстрируются. «Я, – рассказывает Вяземский, – писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает через перехваченные письма, что есть однако же мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего». К планам и стремлениям декабристов Вяземский никакого касательства не имел, хотя и был в дружеских отношениях со многими из декабристов. Имени его нет в официальном «Алфавите декабристов», куда занесены были даже лица оправданные. Однако император Николай был глубоко убежден в прикосновенности его к декабризму, ненавидел его всеми силами души и говорил Блудову: «Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других». Вяземский находился под усиленным наблюдением тайной полиции, он считался главой либерализма в Москве, доносы на него сыпались непрерывно. В 1828 г. было сообщено в Петербург, будто Вяземский собирается издавать под чужим именем газету; Николай через московского генерал-губернатора велел передать ему, что запрещает ему издавать оную газету, потому что ему известна развратная жизнь Вяземского, недостойная образованного человека.
В 1825 г. возник в Москве журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф», явившийся органом боевого русского радикализма. В его основании ближайшее участие принимал Вяземский, он усердно сотрудничал в журнале, исправлял и дополнял статьи молодого редактора, привлек к сотрудничеству Пушкина и других своих литературных друзей. Однако к концу двадцатых годов Вяземский стал отходить от журнала и наконец окончательно порвал с ним, признав Полевого «низвергателем законных литературных властей». Воевал с ним в «Литературной газете» Дельвига в защиту «литературной аристократии». Опальное положение, в котором находился Вяземский, начинало все больше тяготить его. Он послал царю обширную «Исповедь», в которой с достоинством, ни в чем не каясь, излагал свои лояльные политические взгляды. Письмо понравилось царю, и он предложил Вяземскому поступить на государственную службу, куда ему будет указано, – и указал на министерство финансов. Вяземский согласился. «Приходило так, – писал он А. И. Тургеневу, – что непременно должно было мне или в службу, или вон из России». Московский почт-директор А. Я. Булгаков сообщал брату: «…поэт наш сделался спокойнее и осторожнее… Очень радуюсь его назначению. У него прекрасная душа и способности, и когда отстанет от шайки либеральной да примется за службу, то будет полезен и себе, и семейству своему». Вскоре Вяземский был пожалован в камергеры, через два года службы назначен вице-директором департамента внешней торговли и редактором «Коммерческой газеты». Он правел все больше. Когда административная расправа постигла журнал бывшего его соратника Полевого, Вяземский писал: «Признаюсь, существование «Телеграфа» в том виде, как он был, может быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую». При Александре II Вяземский был несколько лет товарищем министра народного просвещения. К этому времени он превратился в типичного сановного старца, брюзжащего на все новое в литературе и жизни. Умер в Баден-Бадене в глубокой старости, восьмидесяти шести лет.
Вяземский был высокого роста, держался очень прямо; небольшие и небыстрые голубые глаза смотрели сквозь золотые очки проницательно; на тонких губах насмешливая улыбка. Вид невозмутимый, неподвижный и холодный. Голос немного хриплый. Вигель сообщает: «…с женщинами был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами холоден, как англичанин; в кругу друзей был он русский гуляка». Разговаривал остроумно и увлекательно. Пушкин про него рассказывает в «Евгении Онегине»:
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И близ него ее заметя,
Об ней, поправив свой парик,
Осведомляется старик.
Вяземский был большой похабник, очень любил острить и каламбурить в этом направлении. Пушкин в переписке с приятелями и в стихотворных посланиях к ним умел изумительно подделываться под стиль каждого; под пером Пушкина стиль этот получал высшее художественное воплощение и был для данного лица даже более характерен, чем собственные его писания. Подобную квинтэссенцию интимного стиля Вяземского находим в письме к нему Пушкина из Михайловского осенью 1825 г.:
В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю – сижу орлом
И болен праздностью поносной,
Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.
Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос…
И дух мой снова позывает
Ко испражненью прежних дней.
«Благодарствую, душа моя, – и цалую тебя в твою поэтическую (.....) – с тех пор, как я в Михайловском, я только два раза хохотал; при разборе новой пиитики басен и при посвящении г (.....) г (.....) твоего». И так дальше – сплошная похабщина.
Вяземский очень высоко ценил Пушкина, не раз выступал в печати с обширными статьями о его поэзии; уже с ранних лет знакомства в письмах его к Пушкину заметен тон внимательного подмастерья к чтимому мастеру. Это, однако, не мешало Вяземскому резко высказываться о политических и общественных промахах Пушкина, и тут влияние его на Пушкина должно было быть очень плодотворным. Так, по поводу эпилога к «Кавказскому пленнику» Вяземский писал А. Тургеневу: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, «как черная зараза, губил, ничтожил племена?» От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина». Когда, приехав в 1827 г. в Петербург, небрезгливый Пушкин свел личное знакомство с Булгариным и обедал у него, Вяземский с негодованием писал: «Не стыдно ли тебе, пакостник, обедать у Булгарина?» Резкое осуждение Вяземского вызвали и патриотические стихи Пушкина на взятие Варшавы. «Пушкин в стихах своих «Клеветникам России» кажет им шиш из кармана, – записывает он. – Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас?.. Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: «От Перми до Тавриды» и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст?.. «Вы грозны на словах, попробуйте на деле…» Неужели Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть? Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы?.. После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские (укрощение холерного бунта военных поселян), Нессельроде за подписание мира. Когда решишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться… Пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что «мы не сожжем Варшавы их». И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее». Когда у Пушкина все больше стало проявляться тяготение к царскому двору, Вяземский писал ему: «Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Как ни будь поверхностно и малозначительно обхождение супруга с девками, но брачный союз все от того терпит, и, рано или поздно, распутство дома отзовется. Брачный союз наш – с народом. Царская ласка – курва соблазнительная, которая вводит в грех и от обязанности законной отвлекает. Говорю тебе искренно и от души».
Пушкин со своей стороны любил и ценил Вяземского. В 1820 г. он написал к его портрету:
Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.
Бартенев со слов П. В. Нащокина записал: «Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно; он видел в нем человека безнравственного, ему досадно было, что тот волочился за его женою, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отдавать долг красавице». На полях записи Соболевский написал: «Это натяжка!» По-видимому, это действительно натяжка. Есть данные, что Вяземский действительно ухаживал за Натальей Николаевной, и Пушкину это не могло быть приятным. Но личная «безнравственность» Вяземского навряд ли могла особенно коробить Пушкина: цинизм выражений, легкое отношение к женщинам, ухаживание за чужими женами – всем этим в достаточной мере грешил и сам Пушкин.









































