Читать книгу "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"
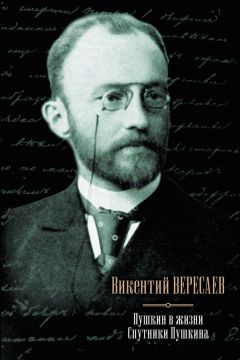
Автор книги: Викентий Вересаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
(1796–1855)
Французский путешественник маркиз де Кюстин характеризует его так: «Император ни на минуту не может забыть ни того, кто он, ни того внимания к себе, которое он постоянно вызывает у всех его окружающих. Он вечно позирует и потому никогда не бывает естествен, даже тогда, когда кажется искренним. Лицо его имеет троякое выражение, но ни одно из них не свидетельствует о сердечной доброте. Самое обычное, это – выражение строгости; второе – выражение какой-то торжественности и, наконец, третье – выражение любезное. Император – всегда в своей роли, которую он исполняет, как большой актер. Масок у него много, но нет живого лица, и когда под ним ищешь человека, всегда находишь только императора». Одну из таких совершенно определенных масок Николай надевал, имея дело с Пушкиным. Жестоко напуганный на всю жизнь декабрьским восстанием, царь боялся и Пушкина, революционные стихи которого находили при обысках чуть не у всех декабристов. Он нашел более выгодным не преследовать Пушкина, а сделать его безопасным. И вот он надел в сношениях с Пушкиным маску благоволения и ласковости, а из глазных разрезов этой маски смотрели глаза, полные ненависти и пренебрежения. Царь вызвал Пушкина из ссылки к себе в Москву, обласкал его, простил – и поручил неослабному надзору Бенкендорфа. Для Пушкина началась мучительная жизнь строго опекаемого мальчика, за каждый не угодный начальству шаг получавшего суровые нагоняи, опутанного по рукам и ногам сомнительными благодеяниями, за которые от него требовали восторженной благодарности. По-видимому, Николай совершенно не рассчитывал превратить Пушкина в преданного царю славослова вроде Державина, Карамзина или Жуковского, он вовсе не заботился о том, чтобы доставить Пушкину почетное и материально обеспеченное положение и этим привязать к себе. Каждое его благодеяние несло в себе для Пушкина скрытое оскорбление и перерождалось в совершенно ненужное стеснение. Личное цензорство царя дало Пушкину не право апеллировать к нему на цензурные запреты, а только связало Пушкина, лишив его права что-либо печатать без специального царского разрешения. Дарование ему камер-юнкерского звания было вполне сознательным издевательством над Пушкиным, потому что звание это давалось совсем молодым людям, и тридцатипятилетний Пушкин в кургузой камер-юнкерской курточке, в толпе юнцов, должен был вызывать только улыбку. Попытки Пушкина вырваться из Петербурга, избавиться от непомерных трат, которых требовала близость ко двору его и жены, встречали суровый отпор, а редкие вспомоществования в виде, например, займа на печатание «Истории Пугачевского бунта» нисколько не ослабляли долговой петли, все туже стягивавшей шею Пушкина. Ко всему этому присоединилось еще одно специальное обстоятельство. Николай был пленен красотой Натальи Николаевны и настойчиво домогался ее благосклонности. Всякий другой, из самой даже высокопоставленной знати, составлявшей придворный круг, был бы только польщен честью, выпадающей на долю его жены. А этот «сочинитель», титулярный какой-то советник и ничтожный камер-юнкер, – он не допускает об этом и мысли. Это особенно должно было раздражать Николая, потому что маска блюстителя семейной нравственности была одной из самых любимых его масок, и какие дела должны были делаться полюбовно, к общему взаимному удовольствию. В противоречии к обрисованному отношению царя к Пушкину стоит то, как царь отозвался на смерть Пушкина. Пенсия и всякие льготы, пожалованные его вдове, говорят, конечно, только о благоволении Николая к Наталье Николаевне. Но его крутая расправа с Геккереном, заподозренным в посылке Пушкину злополучных анонимок, как будто говорит за то, что хоть после смерти Пушкина царь понял весь размер этой национальной утраты. Новейшие исследования, однако, совершенно опровергают такое мнение. До последнего времени мы в какой-то странной слепоте считали, что в полученном Пушкиным пасквиле имеются в виду отношения его жены с Дантесом. Только совсем недавно П. Е. Рейнбот указал на истинный смысл пасквиля. Великим магистром ордена рогоносцев назывался в нем Д. Л. Нарышкин, муж любовницы Александра I. Пушкин жаловался в заместители великого магистра, – уж конечно, не как муж любовницы какого-то поручика, а как муж якобы любовницы Николая I. Вот что тогда все прекрасно понимали, вот что привело в бешенство Николая, вот за что он потребовал от голландского правительства убрать с поста посланника «каналью» Геккерена, – а не за то, конечно, что Геккерену вздумалось позабавиться над нечиновным камер-юнкером-рогоносцем. Нам лично, впрочем, кажется, что главной причиной, побудившей Николая разыграть роль печальника и мстителя за погибшего поэта, было давление общественного мнения, обнаружившегося с совершенно неожиданной для Николая силой.
Показное свое отношение к Николаю Пушкин проявил в ряде стихотворений: «В надежде славы и добра», «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю», «Герой». В последнем стихотворении поэт выражает огорчение по поводу разоблачения Бурьена, что Наполеон в яффском госпитале вовсе не пожимал руки чумным больным. Друг многозначительно отвечает поэту: «Утешься…» На этом стихотворение обрывается, и под ним стоит дата: «Москва, 19 сент. 1830 г.». В этот день император Николай посетил пораженную холерой Москву. В черновой статье о Радищеве Пушкин писал по поводу этого посещения Николая, что оно «принадлежит будущему историку». Истинное свое отношение к Николаю Пушкин унес необнаруженным в могилу.
Александра Федоровна(1798–1860)
Жена императора Николая I, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III и знаменитой своей красотой королевы Луизы. Она была хороша собой. Маркиз де Кюстин в своей беспощадной книге о России («La Russie en 1839») говорит: «Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена неописуемой грации… Она пленяет своею наружностью, звук ее голоса мягок и нежен». Ее учителем русского языка был Жуковский, который воспел ее под именем Лалла-Рук (героиня одноименной поэмы Томаса Мура). Пушкин описывает царицу в выпущенной им строфе восьмой главы «Онегина»:
И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется, и скользит
Звезда, – харита меж харит, –
И взор смущенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя, –
Для них без глаз один Евгений…
В дневнике Пушкин писал: «Я ужасно люблю царицу». Нащокин рассказывал Бартеневу: «Императрица удивительно как нравилась Пушкину; он благоговел перед нею, даже имел к ней какое-то чувственное влечение».
Великий князь Константин Павлович(1779–1831)
Второй сын императора Павла. Участвовал в итальянском походе Суворова, под Аустерлицем командовал гвардией. В 1812 г., вследствие постоянных резких столкновений с главнокомандующим Барклаем-де-Толли, был им отослан из армии в Петербург. С 1816 г. был главнокомандующим польских войск, а фактически – наместником и вице-королем Польши. Управлением своим он всех восстановил в Польше против себя. В 1820 г. развелся с женой, немецкой принцессой, и женился на польке Жанетте Антоновне Грудзинской, получившей титул княгини Лович. Вследствие этого брака он должен был отказаться от прав на российский престол, наследником которого именовался вследствие бездетности Александра I. Его отречение почему-то хранилось в строгой тайне, после смерти Александра декабристы воспользовались получившимся неопределенным положением и подняли войска против Николая. После воцарения Николая Константин остался польским главнокомандующим. Польское восстание 1830–1831 гг. заставило его бежать из Варшавы, командование было передано Дибичу; вскоре Константин умер от холеры в Витебске.
Был он плотный, немного лысый, с белокурыми, неприятного пепельного цвета волосами, с серыми бровями, нависшими на серые глаза, одутловатый, курносый, безобразный, как отец. Был бешено вспыльчив, перед фрунтом проявлялся мелочно-придирчивым, жестоким самодуром; подобно отцу и братьям имел страсть к воинским учениям, к выправкам, выпушкам и всякой муштре. «Фельдфебель по натуре», – характеризует его Николай Тургенев. После Березины, когда разбитый Наполеон уходил из России, Константин на смотру был очень шокирован внешним видом русской армии, совершенно не соответствовавшим уставу. В обтрепанной, не по форме, одежде, отвыкшие в непрерывных боях от всех тонкостей плац-парадной маршировки, войска выглядели совсем не так, как на параде. Глядя на покрытый славой гвардейский полк, проходивший перед ним церемониальным маршем, Константин воскликнул в негодовании:
– Эти люди умеют только драться!
Сам он таким умением не отличался и, как многие фрунтовики, был большой трус.
Вне службы Константин, по рассказам, был человек добродушный и даже сентиментальный, дома, у себя, держался радушнейшим и любезнейшим хозяином, так что даже когда ему в разговоре случалось прервать чью-нибудь речь, он немедленно останавливался и извинялся.
После смерти Александра, когда все думали, что императором будет Константин, Пушкин писал Константину: «Как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминает Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».
Когда в апреле 1828 г. Россия объявила войну Турции, Пушкин и Вяземский просили разрешения отправиться при главной императорской квартире на театр военных действий. Великий князь Константин писал по этому поводу Бенкендорфу: «Вы говорите, что писатели Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что, ввиду прежнего их поведения, как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-нибудь положиться; точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства». А через две недели писал ему же: «Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного; они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».
Великий князь Михаил Павлович(1798–1840)
Младший сын императора Павла. В тридцатых годах состоял командиром гвардейского корпуса и главным начальником всех сухопутных военно-учебных заведений. Огромного роста, плотный, несколько сутуловатый, с большими, проницательными голубыми глазами, в высокой прическе, как ее тогда носили, рыжий (офицеры его называли «рыжий Мишка»). Говорил громко, отрывисто и повелительно. Был беспощадно строгий формалист, взыскивал с офицеров и солдат за малейшее нарушение формы и правил службы. Ежедневно, гуляя по улицам, ловил офицеров в калошах, солдат в расстегнутых мундирах и т. п. Был большой остряк и очень любил каламбуры. Острословие было любимейшим делом его жизни и величайшей его гордостью. По утрам, после докладов, ему передавали острые слова, ходящие по городу и приписываемые ему. Если острота была хороша, великий князь молча улыбался, если же была плоха, то говорил:
– Вздор, я этого не говорил!
Таким образом, остроумие всего гвардейского корпуса приписывалось ему. За острое слово он готов был простить все. Однажды он поймал на улице офицера, одетого не по форме, и велел ему сесть к себе в сани, чтобы увезти на гауптвахту. Офицер, садясь, задел великого князя шпагой. Михаил рассердился:
– Дурак, и садиться-то еще не умеет!
– Это оттого, ваше высочество, что не в свои сани не надобно садиться, – ответил офицер.
Великий князь пришел в восторг, рассмеялся и отпустил офицера.
Был он человек колоссально необразованный. В кабинете его каменноостровского дворца не было ни одной книги, кроме «Рекрутской школы», «Батальонного учения» и т. п. Читал только военную газету «Инвалид». Утром первым делом его было прочитать «Инвалид», и часто он восклицал:
– Ах, негодный этот Воейков (редактор «Инвалида»)! Поручик Иванов уже четыре дня, как приехал, а он сегодня только напечатал об этом!
Весной 1830 г. Михаил был в гостях у Елизаветы Михайловны Хитрово, увидел у нее портрет Пушкина и сказал:
– Знаете ли, что я никогда не видал Пушкина близко; у меня были против него большие предубеждения; но по всему, что до меня доходит, я весьма желаю его узнать и особенно желаю иметь с ним продолжительный разговор.
И взял у Хитрово прочесть «Полтаву».
В середине тридцатых годов Пушкин нередко виделся с великим князем. Имел ли с ним Михаил тот «продолжительный разговор», который собирался с ним вести, и о чем мог быть этот разговор, мы не знаем. Но разговаривали они часто. Однажды, например, они встретились утром в дворцовом саду. Великий князь спросил Пушкина:
– Что ты один здесь философствуешь?
– Гуляю.
– Пойдем вместе.
Разговорились о плешивых. Пушкин сказал:
– Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молодые оплешивливают.
– Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивели, что при отце моем носили пудру и зачесывали волоса; на морозе сало леденело, – и волоса лезли… Нет ли новых каламбуров?
– Есть, да нехороши, не смею представить их вашему высочеству.
– У меня их тоже нет. Я замерз.
И они распростились.
Другой раз у Пушкина был большой разговор с великим князем о дворянстве. Пушкин говорил, что необходимо замкнутое и экономически крепкое дворянское сословие, что теперешнее разоренное старинное дворянство с его просвещением, с ненавистью против аристократии, с его притязаниями на власть и богатство представляет такую страшную стихию мятежей, какой нет и в Европе. Между прочим, он сказал великому князю:
– Вы весь в ваше семейство: все Романовы революционеры и нивелировщики.
– Спасибо! Так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю. Вот репутация, которой мне недоставало.
«Разговор, – пишет Пушкин в дневнике, – обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай Бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!»
Летом 1837 г., через полгода после смерти Пушкина, великий князь Михаил Павлович встретил в Бадене Дантеса, разжалованного за дуэль с Пушкиным в солдаты и высланного за границу. Великий князь на три дня расстроился от этой встречи. Придворная дама спросила:
– Воспоминание о Пушкине вас встревожило?
– О нет! Туда ему и дорога!
– Так что же?
– Да сам Дантес! Бедный! Подумайте, ведь он солдат!
Александр Христофорович Бенкендорф(1783–1844)
Учился в пансионе аббата Николя, где на науки обращалось мало внимания, а главное значение придавалось светскому воспитанию. Пятнадцати лет поступил на военную службу, участвовал в турецкой и наполеоновских войнах, выделялся храбростью, получил Георгия 4-й и 3-й степени. В 1821 г., будучи генерал-адъютантом и начальником штаба гвардейского корпуса, подал императору Александру записку о тайных обществах, которую тот оставил без последствий. После смерти Александра записка была найдена в его бумагах и обратила на Бенкендорфа благосклонное внимание Николая. Он был введен в состав верховного суда над декабристами, а в июле 1826 г. назначен командующим императорской квартирой, шефом жандармов и главным начальником так называемого Третьего отделения собственной его величества канцелярии, на которое возложена была высшая охрана государственного порядка в стране. С этих пор Бенкендорф стал самым приближенным и доверенным лицом Николая. В 1832 г. он был возведен в графское достоинство, в 1834 г. получил андреевскую ленту.
Монархист-бюрократ граф М. А. Корф дает Бенкендорфу такую характеристику: «Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно беспамятством и вечною рассеянностью, наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним в комитете министров и в государственном совете, я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересовать его лично. Часто случалось, что он, после заседания, на котором присутствовал от начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах, при довольно живом светском разговоре он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно. Личной воли имел он не более, чем дарования и высших взглядов. В жизни своей он много раз значительно обогащался, потом опять расточал все приобретенное и при конце дней оставил дела свои в самом жалком положении». Главной пружиной, направлявшей всю деятельность Третьего отделения, был М. Я. фон Фок. Безграмотный Бенкендорф почти всегда подписывал не читая бумаги и находился вполне под влиянием Фока. Вигель называет Бенкендорфа пустоголовым фанфароном, менее кого-либо другого имевшим способностей для занятия возложенной на него важной должности. В 1840 г. Герцену пришлось быть на приеме у Бенкендорфа, и вот как он описывает этот прием. «Дверь отворилась на обе половинки, и вошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Он очень мало говорил с просителями, брал просьбу, бросал на нее взгляд, потом отдавал Дубельту, прерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготовлялись к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли! А человек этот отделывается общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столоначальник положит какое-нибудь решение, чтоб сдать дело в какую-нибудь другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится? Бенкендорф подошел к высокому, несколько согнувшемуся старику в темно-зеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Старик стал на колени и вымолвил: «Ваше сиятельство, войдите в мое положение!» – «Что за мерзость! – закричал граф. – Вы позорите ваши медали!» – и, полный благородного негодования, прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал. Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человечными! Дубельт взял у старика просьбу и сказал: «Зачем это вы, в самом деле? Ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю».
В 1844 г. Бенкендорф получил от Николая полмиллиона рублей на лечение, уехал за границу, сошелся там с француженкой, возвращался с ней в Петербург, на пароходе принял католичество и, не доехав до Петербурга, внезапно умер.
Пушкин попал в лапы Бенкендорфа в 1826 г., немедленно по возвращении из ссылки и получении «прощения» от императора. Из этих беспощадных лап Пушкину не суждено было вырваться до самой смерти. Необразованный, глубоко равнодушный к литературе, Бенкендорф видел в Пушкине только ветреного сорванца и беспокойного вольнодумца, очень опасного своей общественной популярностью. Он был всегдашним посредником в сношениях Пушкина с царем и передавал ему царские решения и замечания в холодно-официальных словах, по существу невероятно грубых. Получаешь как будто личное оскорбление, читая эти высокомерные запросы и выговоры, обращаемые тупым жандармом к великому поэту, словно к озорному мальчишке, с которым стесняться нечего. Весной 1827 г. Пушкин просил у Бенкендорфа разрешения приехать из Москвы в Петербург. Бенкендорф отвечал: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С.-Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано». Летом 1829 г. Пушкин ездил на Кавказ в действующую армию Паскевича. Бенкендорф знал и о том, что Пушкин собирался туда поехать, и о том, что он там находится; однако, по возвращении Пушкина, направил к нему запрос: «Государь император, узнав, по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же с своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашем сделать сие путешествие». Пушкин ответил: «Я чувствую, насколько положение мое было ложно и поведение – легкомысленно. Мысль, что это можно приписать другим мотивам, была бы для меня невыносима. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой немилости, чем показаться неблагодарным в глазах того, кому я обязан всем, для кого я готов пожертвовать своим существованием, и это не фраза». В начале 1830 г. Пушкин подал Бенкендорфу просьбу о разрешении ему поехать за границу. Ответ Бенкендорфа обнаруживает большую «заботливость» его и императора о Пушкине: «Его величество государь император не удостоил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий». Вскоре Пушкин уехал в Москву. О предполагаемой поездке этой он, встретясь на гулянии с Бенкендорфом, сообщил ему, и Бенкендорф ему на это сказал:
– Вы всегда на больших дорогах.
Однако, когда Пушкин уехал, вслед ему полетел грозный запрос Бенкендорфа: «К крайнему моему удивлению, услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей поездке. Поступок сей принуждает меня вас просить об уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову? Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к сему поступку, будут довольно уважительны, чтобы извинить оный; но я вменяю себе в обязанность вас предуведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению». Пушкин в полном отчаянии отвечал: «Письмо, которым вы удостоили меня, доставило мне истинное горе; я умоляю вас дать мне минуту снисхождения и внимания. Несмотря на четыре года ровного поведения, я не смог получить доверия власти! С огорчением вижу, что малейший из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство. Во имя неба, удостойте на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно!..»
Став женихом Гончаровой, Пушкин писал Бенкендорфу, что родителей его невесты очень смущает его ложное и сомнительное положение в отношении к правительству. «Г-жа Гончарова, – сообщал он, – боится отдать свою дочь за человека, имеющего несчастие пользоваться дурной репутацией в глазах государя. Мое счастие зависит от одного слова благоволения того, к которому моя преданность и благодарность уже и теперь чисты и безграничны». Ответ Бенкендорфа: «Я имел счастье представить императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16-го числа сего месяца. Его императорское величество, с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по сему случаю, что Он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качества сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины, – и в особенности такой милой, интересной женщины, как m-lle Гончарова. Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, – я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз: я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам; в нем не может быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его Величество Император, в совершенном отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу – не как шефу жандармов, а как человеку, к которому Ему угодно относиться с доверием, – наблюдать за вами и руководительствовать своими советами; никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени до времени давал, как друг, могли вам быть только полезны, – я надеюсь, что вы всегда и впредь будете в этом убеждаться».









































