Читать книгу "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"
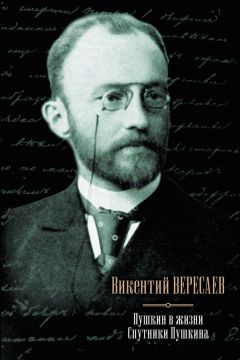
Автор книги: Викентий Вересаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
(1802–1868)
Отец ее, Егор Кириллович Варфоломей, молдаванин, владел обширными поместьями в Бессарабии, был членом верховного областного суда, председателем палаты и откупщиком всего края. Он жил открыто, к небольшому своему дому пристроил огромную танцевальную залу, разрисовал ее под трактир и давал в ней балы за балами. У него был собственный оркестр из крепостных цыган, славившийся на весь Кишинев. Подвернув под себя ноги, Варфоломей, как паша, сидел на диване с чубуком в руках и встречал гостей приветливым: «Пофтим (просим)». Разговаривать он с ними не умел, во время танцев сидел молча, попыхивал чубуком и с наслаждением глядел на танцующих. Жена его была говорливая и радушная. У них была дочка Пульхерия – полная, круглая, свежая девушка, очень красивая. В 1818 г. Кишинев посетил император Александр I, бессарабское дворянство дало ему бал. На балу этом император, большой любитель женской красоты, отличил Пульхерицу, одну ее из всех девиц пригласил на польский и задал несколько вопросов. Была она девушка наивная, простодушная и молчаливая. На все вопросы отвечала только милой улыбкой, никем особенно не увлекалась, на балах со всеми кавалерами танцевала с одинаковым удовольствием, всех одинаково любила слушать. Когда кто пробовал объясниться ей в любви, она прерывала его словами:
– Ah, quel vous êtes! Qu’est се que vous badinez![255]255
Ах, какой вы! Все-то вы шутите! (фр.). – Ред.
[Закрыть]
Хорошо танцевала, была в Кишиневе общей любимицей. Про нее сложен был такой припев к молдавскому танцу жок:
Пушкин одно время сильно, по-видимому, увлекался Пульхерицей, – по словам А. Ф. Вельтмана, «девственной ее красе посвятил несколько восторженных стихов». Полагают, что к ней обращено стихотворение Пушкина «Дева»:
Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал: она сердца влечет невольной силой.
Неосторожный друг, я знал: нельзя при ней
Иную замечать, иных искать очей.
Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастия, наперсники судьбы
Смиренно ей несут влюбленные мольбы;
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит.
Нельзя не признать, что многое в этом стихотворении очень подходит к Пульхерице. Вельтман гротескными чертами обрисовывает Пульхерицу как бездушный заводной механизм-автомат, обтянутый лайкой, – не существо, а вещество. Странно, что Пушкин мог увлечься подобной куклой, притом и красоты-то вовсе не такой уж исключительной. Пушкин, – между прочим, и в Кишиневе, – влюблялся много и часто, между тем в «донжуанском» своем списке вспомнил только два кишиневских женских имени, и одно из них – имя Пульхерии. Видимо, она оставила в его сердце прочную память, какой не могла бы оставить смешная вельтманская подделка под человека. Пушкину нравилась девственная чистота Пульхерицы, ее простодушие и доброта, сердце, не знавшее ни зависти, ни желаний, а «гордое» равнодушие ее к влюбленным мольбам только усиливало влечение к ней.
Все старания отца выдать дочь замуж разбивались о холодность и равнодушие Пульхерицы. Отец был принужден влюбиться вместо дочери в В. П. Горчакова, приятеля Пушкина, но Горчаков не прельстился несколькими стами тысяч приданого и бессарабскими поместьями. Варфоломей уверял:
– Мусье Горчаков, вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам!
– Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить.
– Поверьте мне, что она вас любит!
Но Горчаков не верил клятвам отцовским. Только лет через десять-двенадцать, когда про Пульхерицу пели в жоке уже не «кишиневский наш божок», а «устаревший наш божок», она вышла замуж за бывшего греческого консула в Одессе Мано.
Тодораки Балш(?–?)
Молдавский боярин, во время гетерии бежавший в Кишинев из Ясс, столицы Молдавии. Молдавия и Валахия, впоследствии соединившиеся в одно государство – Румынию, находились в то время под протекторатом Турции. Более столетия обеими странами управляли поставленные турками греки-фанариоты (Маврокордато, Гика, Мурузи, Караджа, Суцо и др.). Они возбуждали неистовую ненависть к себе населения корыстолюбием, хищениями, отсутствием забот об управляемом народе, пренебрежением к румынской национальности, стремлением эллинизировать население; туземное боярство негодовало на устранение его от участия в управлении страной. В 1822 г. отправлена была в Константинополь депутация с ходатайством, чтобы господари обоих княжеств избирались общим собранием дивана из местных, туземных бояр. Инициатива посылки депутации и главная руководящая в ней роль принадлежала Тодораки Балшу. Порта удовлетворила ходатайство. Имя Балша вошло в историю Румынии как одного из деятелей национального ее освобождения. Впоследствии Балш был главнокомандующим (гетманом) молдавских войск.
У Пушкина с Балшем и его женой вышла дикая история, рисующая взбудораженно-мутную хаотичность душевного состояния, которую переживал «бес-арабский» Пушкин в кишиневский период своей жизни. Никогда, ни раньше, ни позже, не писал он таких циничных до пошлости эпиграмм (на Аглаю Давыдову, на кишиневских дам), никогда не проявлял такой прямо болезненной раздражительности, доходившей до полной разнузданности. Жена Балша Мариола была дочь молдавского «великого ворника» Богдана, казненного за вымышленное преступление господарем-фанариотом Мурузи. Она была женщина лет под тридцать, довольно пригожа, чрезвычайно остра и словоохотлива; хорошо говорила по-французски. Пушкин любил с ней болтать и доходил иногда до речей весьма свободных; это ей нравилось, и она не оставалась в долгу. До какой точки дошли их отношения – неизвестно. Но Пушкин вскоре увлекся другой дамой, более красивой и интересной. Мариола надулась на Пушкина, при каждом удобном случае старалась его уколоть. Он сделался с ней сдержаннее и стал демонстративно ухаживать за ее тринадцатилетней дочерью Аникой, такой же острой на слова, как мать. Мариола увидела в этом желание Пушкина подчеркнуть ее возраст, показать, что она имеет уже взрослую дочь, и еще больше озлобилась на Пушкина. Тогда в обществе много говорили о ссоре двух молдаван; им следовало драться на дуэли, но они не дрались. Липранди как-то заметил:
– Чего от них требовать! У них в обычае нанять несколько человек да их руками отдубасить противника.
Пушкин очень над этим потешался. Однажды, в 1822 г., на Масленице, на вечере у вице-губернатора Крупянского, сидя рядом с Мариолой, он сказал:
– Экая тоска! Хотя бы кто нанял подраться за себя!
Г-жа Балш обиделась за молдаван, вспыхнула и ответила:
– Да вы лучше деритесь за себя.
– С кем же?
– Вот хоть со Старовым; вы с ним, кажется, не очень хорошо кончили.
Пушкин возразил, что если бы на ее месте был ее муж, он сумел бы поговорить с ним. Отозвал Балша от карточного стола и потребовал от него удовлетворения. Балш пошел расспросить жену. Та ему сообщила, что Пушкин наговорил ей дерзостей. Балш воротился к Пушкину и с негодованием сказал:
– Как же вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену?
Пушкин пришел в бешенство, схватил подсвечник и замахнулся на Балша. Подоспевший Н. С. Алексеев успел его удержать. На следующий день, по настоянию Крупянского и генерала Пущина, Балш согласился извиниться перед Пушкиным. Крупянский вызвал к себе Пушкина. Балш высокомерно сказал:
– Меня упросили извиниться перед вами. Какого извинения вам угодно?
Пушкин, не говоря ни слова, дал ему пощечину и вслед за этим вынул пистолет. От Крупянского Пушкин пошел на квартиру к генералу Пущину, где его видел В. П. Горчаков, бледного, как полотно, и улыбающегося. Наместник Ив. Н. Инзов посадил Пушкина на две недели под арест. Пушкин, видимо, нисколько не считал себя неправым и из-под ареста писал приятелю (по-видимому, Н. С. Алексееву):
Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом
И не видался я
Давно с моим Орестом.
Спаситель молдаван,
Бахметьева наместник,
Законов провозвестник,
Смиренный Иоанн,
За то, что ясский пан,
Известный нам болван
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородою –
И трус, и грубиян –
Побит немножко мною,
И что бояр пугнул
Я новою тревогой,–
К моей конурке строгой
Приставил караул.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Долго после этого Пушкин говорил, что не решается ходить без оружия, на улицах вынимал пистолет и с хохотом показывал его встречным знакомым.
Артемий Макарович Худобашев(ок. 1770 – не ранее 1839)
Маленький старичок-армянин, с огромным носом, кособокий. Служил почтмейстером в Одессе, но однажды его чем-то обидел козел, и он, забыв свой сан, вступил в открытый бой с козлом на площади перед театром; бой этот наблюдал с балкона своего дворца генерал-губернатор граф Ланжерон с семейством. Худобашеву пришлось переселиться в Кишинев. При графе Воронцове он был чиновником особых поручений для Кишинева.
Прочитав «Черную шаль» Пушкина, Худобашев очень был возмущен стихом:
Неверную деву лобзал армянин.
Он видел тут насмешку над армянами. Ругал Пушкина и говорил возражавшим:
– Что за важность! И мой брат Александр Макарыч тоже автор!
Пушкин познакомился с Худобашевым и потешался над ним вдоволь. Худобашев очень любил говорить по-французски, при этом гнусил и беспощадно коверкал язык. Пушкин не иначе говорил с ним, как по-французски, уверил его, что «Бавария» будет по-французски не «Baviere», a «Bavars». Шутники за тайну сообщили Худобашеву, что под армянином в «Черной шали» Пушкин разумел его, Худобашева. Это очень польстило Худобашеву, и он давал понять, что правда отбил кого-то у Пушкина. Пушкин не давал ему проходу и, как только увидит, начинал читать «Черную шаль». Дело завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван, садился на него верхом и приговаривал:
– Не отбивай у меня гречанок!
Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником. Пушкин говаривал, что когда ему грустно, он ищет встречи с Худобашевым, который всегда «отводит его душу», и при каждой встрече обнимался с ним.
Иван Николаевич Ланов(ок. 1755–?)
Старший член управления колониями, статский советник. Старик за шестьдесят пять лет, приземистый, с большим брюхом, лысый, широкое лицо с красным носом дышало важностью и самодовольством. Он часто обедал у своего начальника генерала Инзова и встречался за столом с Пушкиным. Чинуша, пропитанный глубочайшим чинопочитанием, никак не мог переварить, что какой-то коллежский секретарь Пушкин совершенно независимо держится не только с ним, статским советником, но даже с самим генералом от инфантерии Инзовым. Он высокомерно оглядывал Пушкина и в общем разговоре совершенно не удостаивал вниманием того, что говорил Пушкин. Однажды Ланов с важностью ораторствовал за столом, что самое лучшее средство от всех болезней – вино, что один его знакомый секретарь заболел не более и не менее как чумой, выпил четверть водки – и все как рукой сняло.
Пушкин, сдерживая смех, сказал:
– Может быть, но только позвольте усомниться.
– Да чего тут позволить! Раз я говорю так – значит, так! А вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.
– Почему?
– Потому что между нами есть разница.
– Какая?
– Та, что вы еще молокосос.
– А, понимаю! Верно, есть разница. Я – молокосос, а вы – виносос.
Обед в это время кончался. Инзов улыбнулся и ушел к себе. А Ланов вспомнил, что он когда-то был адъютантом у Потемкина, и вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин в ответ только хохотал. Ланов настаивал. Воротился Инзов, узнал о вызове и уговорил Ланова взять его обратно. Если Ланов требовал от коллежского секретаря уважения к себе как к статскому советнику, то и сам умел оказывать уважение генералу от инфантерии. Он исполнил желание Инзова. Пушкин был рад, потому что такая смешная дуэль его вовсе не привлекала. После этого Инзов устроил так, что Пушкин за его столом не встречался с Лановым.
Ириней Нестерович(1785–1864)
Архимандрит, ректор кишиневской семинарии. Инзов, заботясь о религиозно-нравственном просвещении Пушкина, просил о. Иринея почаще беседовать с Пушкиным и наставлять его. Однажды, в Страстную пятницу, зашел Ириней к Пушкину. Пушкин сидит и что-то читает. Ириней спросил:
– Чем это вы занимаетесь?
– Да вот, читаю историю одной особы…
Это рассказывала некоему Мацеевичу племянница Иринея, П. В. Дыдицкая. «Или нет, – поправилась Дыдицкая, – помню, еще не так он сказал, не особы, а читаю, говорит, историю одной статуи». Мацеевич замечает: «Да, именно так передавала этот факт П. В. Дыдицкая. В продолжение трех лет, через длинные промежутки, я все просил ее повторить этот рассказ, и она все говорила одно: история одной статуи. Что хотел выразить этим Пушкин?»
Ириней посмотрел в книгу, – это было евангелие. Он пришел в ярость.
– Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам!
И уехал. Пушкин испугался, на следующий день отправился в семинарию к племяннице Иринея.
– Так и так, – говорит, – боюсь, чтобы ваш дядя не донес на меня. Попросите вашего дядю.
– Зачем же вы так нехорошо сделали?
– Да так, – само как-то с языка слетело.
Дыдицкой удалось отговорить дядю.
Ириней был по происхождению полусерб-полумолдаванин. Крепкий, худощавый брюнет среднего роста, с огненными глазами, с крупноволнистыми, блестящими волосами. Можно удивляться, что монах не донес на Пушкина за его кощунственный отзыв о евангелии. Впоследствии сам он с гордостью писал о другом своем доносе, на Вл. Ф. Раевского, и хвалился, что первым открыл «зловредное для государства учение, которое преподавал Раевский юнкерам в военном бессарабском лицее».
В 1826 г. Ириней был назначен епископом в Пензу, в 1830-м переведен архиепископом в Иркутск. Ириней представлял красочную фигуру редкого в русской жизни ультрамонтана, больше напоминавшего католического прелата, чем безгласного российского архиерея. Адъютанту Александра I он однажды сказал:
– Ты – адъютант царя земного, а я – адъютант царя небесного.
Любил повторять:
– Я – власть, я – наместник Христа, другой власти нет!
В Пензе ждали приезда императора Николая. Весь город чистился, красился, один только архиерейский дом стоял непобеленный, с кучами голубиного помета на карнизах. К Иринею явился полицмейстер с предложением губернатора почистить и побелить дом. Ириней спросил:
– А для какой потребы это нужно?
Полицмейстер удивился:
– Губернатор желает, чтобы никакой мерзости не было во время бытности государя в Пензе.
Ириней спросил:
– Где же ты будешь в это время?
– Как где? Буду встречать государя.
– Ну, если ты, высшая мерзость нашего города, явишься пред лицом государя, то скажи губернатору, что мне не для чего белить и чистить свой дом: он и так вдесятеро чище тебя.
Другой раз, уже в Иркутске, во время архиерейского служения, священник, выходя из царских врат для произнесения молитвы «благословляю», по принятому обычаю, поклонился генерал-губернатору Лавинскому. Ириней воротил священника в алтарь и на весь собор распушил его:
– Кому ты кланялся? Ты, пастырь, кланялся овце твоего стада? Ты молишься златому тельцу!
Вообще в церкви Ириней нисколько не стеснялся и, по выражению современника, церковную службу нередко превращал в ротное ученье.
– Ключарь, перевяжи галстук архидиакону – узлом назад!
Читающему дьячку:
– Стой! Пропустил точку с запятой, читай сначала, – на коленях.
Священнику:
– Замолол! Не внятно, – читай снова, да не кобянься!
С подчиненными держался совершенным самодуром. При облачении, например, стоит, подняв руки, хотят его облачить, – он рук не опускает; бегут, несут другое облачение, – все держит руки вверх; так до тех пор, пока не принесут облачения, которое ему на этот раз желается. Духовенство его ненавидело, в Пензе служили молебны об избавлении от него, из Иркутска непрерывно поступали на него жалобы в синод за самоуправство. Жаловался в Петербург и сам генерал-губернатор. В июне 1831 г. на основании высочайшего повеления состоялось постановление синода: архиепископа Иринея ввиду расстройства умственных способностей немедленно удалить от управления епархией и заточить в один из вологодских монастырей. К Иринею явился чиновник с предложением ехать с ним в Вологду. Ириней заявил, что царскому указу он беспрекословно подчинится, но царские указы должны быть печатные, а предъявленный ему писан от руки, значит, подложный. Призвал караул с соседнего шлагбаума, с помощью солдат отвел чиновника на гауптвахту и посадил его под арест. Прибыли генерал-губернатор и комендант. Ириней благословлял солдат и стекавшийся народ, в исступлении призывал их на помощь, молил выручить его, заявлял, что его хотят посадить в тюрьму и зарезать. С трудом удалось уговорить его отправиться домой. Из Петербурга были присланы флигель-адъютант и жандармский полковник, которые и увезли Иринея в Вологду. Он был заточен в Спасо-Прилуцкий монастырь. Там ему было разрешено архиерейское служение, а затем отдан в управление, один из первоклассных ярославских монастырей.
В Каменке
Из Кишинева Пушкин несколько раз приезжал в село Каменку Чигиринского уезда Киевской губернии. Каменка была большое, богатое поместье, принадлежавшее старухе Екатерине Николаевне Давыдовой, по первому браку – Раевской. Ее сыновьями были знаменитый боевой генерал Н. Н. Раевский, В. Л. и А. Л. Давыдовы. С последними Пушкин познакомился в Кишиневе у М. Ф. Орлова, они и пригласили его к себе в Каменку.
Екатерина Николаевна Давыдова(1757–1825)
Рожденная Самойлова, племянница Потемкина. Отец выдал ее замуж за полковника Николая Семеновича Раевского помимо ее желания. Она была так еще молода, что первые годы замужества часто тайком от мужа играла в куклы; как зазвенят бубенцы, возвещающие возвращение супруга, она поспешно убирала куклы. В 1771 г., еще до рождения сына Николая, Екатерина Николаевна овдовела, а немного спустя вышла замуж вторично, уже по любви, за офицера Льва Денисовича Давыдова, впоследствии дослужившегося до чина генерал-майора. От него у нее было несколько детей. Как племянница Потемкина, Екатерина Николаевна была так богата, что из одних заглавных букв принадлежавших ей имений можно было составить фразу: «Лев любит Екатерину». Жила она в Каменке, в огромном барском доме. Кроме ее детей, у нее воспитывалось много племянников и племянниц; с ними вместе воспитывалась дочь старика-дворецкого на правах приемной дочери, но соблюдался такой обычай: когда отец, обнося блюдо, доходил до дочери, она должна была встать и поцеловать ему руку. По старому обычаю, дом кишел приживальщиками и приживалками. Жили широко и привольно, празднество сменялось празднеством. Содержался собственный оркестр, певчие; в торжественные дни палили из пушек.
Василий Львович Давыдов(1792–1855)
Учился в пансионе аббата Николя в Петербурге. Пятнадцати лет поступил в лейб-гусарский полк. Участвовал в кампаниях 1812–1814 гг., был ранен под Кульмом и под Лейпцигом. В 1820 г. из Александрийского гусарского полка вышел в отставку с чином полковника и поселился в имении матери Каменке. Он был одним из деятельных членов Южного тайного общества, состоял председателем Каменской управы Тульчинской Думы общества. К нему в Каменку ежегодно съезжались для совещания члены общества. Это не навлекло подозрений полиции, потому что съезды приурочивались к 24 ноября, дню именин старухи Давыдовой: в этот день съезжались вся ее семья и много гостей. По отзыву декабриста князя С. Г. Волконского, Василий Львович был «личностью замечательною по уму и теплоте чувства; его можно было назвать коноводом по влиянию его бойких обсуждений и ловкого, увлекательного разговора». В противоположность изысканности маркиза, отличавшей его брата Александра Львовича, Василий Львович, как сообщает В. П. Горчаков, «щеголял каким-то особым приемом простолюдина».
Один из съездов членов Тайного общества пришелся как раз на время, когда в Каменке в первый раз гостил Пушкин. Приехали Якушкин, М. Ф. Орлов, Охотников. На именины матери приехал генерал Раевский с сыном Александром. Обедали внизу у старухи-матери; обеды были роскошные и веселые, с неизменным шампанским; после обеда собирались в огромной гостиной, где царила хорошенькая жена Александра Львовича, Аглая Антоновна. Вечера проводили наверху, у Василия Львовича, много спорили на общие темы. Генерал Раевский сам не принадлежал к Тайному обществу, но подозревал его существование и с напряженным любопытством слушал споры. В последний вечер Василий Львович, Орлов, Охотников и Якушкин сговорились действовать так, чтобы сбить с толку Раевского, – принадлежат ли они к Тайному обществу или нет. Председателем выбрали Раевского. С полушутливым-полуважным видом он руководил прениями. К концу прений Орлов предложил поставить на обсуждение вопрос: насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России? Одни высказывались за, другие – против. Пушкин с жаром доказывал, что такое общество было бы сейчас очень полезно. Якушкин возражал и высказывал уверенность в полнейшей бесполезности подобного общества. Генерал Раевский стал поддерживать Пушкина и указал случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой. Тогда Якушкин сказал:
– Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите. Я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверно, к нему не присоединились бы?
– Напротив, наверное бы присоединился.
– В таком случае давайте руку!
Раевский протянул руку. Якушкин расхохотался и сказал:
– Разумеется, все это только шутка.
Все смеялись, только брат Василия Львовича, Александр Львович, безмятежно дремал в креслах; не смеялся и Пушкин. Он был очень взволнован; у него явилась полная уверенность, что Тайное общество либо уже существует, либо тут же получит свое начало. Он покраснел, встал и сказал с навернувшимися слезами:
– Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою облагороженною, видел высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка!..
Свою жизнь в Каменке Пушкин описывает в письме к Гнедичу от 4 декабря 1820 г.: «Нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое проходит между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов».
Пушкин воротился из Каменки в Кишинев, наэлектризованный беседами с заговорщиками, полный ощущения надвигающейся грозной и радостной поры, когда высоко вознесется кровавая чаша для причастия всех, чающих воскресения из мертвых нового бога-христа – Свободы. На Страстной неделе 1821 г. он писал В. Л. Давыдову:
…Меж тем как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной,
И за бутылками аи
Сидят Раевские мои…
Тебя, Раевских и Орлова
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя…
Я стал умен, я лицемерю –
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи…
Однако ж гордый мой рассудок
Мое раскаянье бранит,
А мой ненабожный желудок
«Помилуй, братец, – говорит, –
Еще когда бы кровь Христова
Была хоть, например, лафит…
Иль кло-д-вужо, тогда б ни слова,
А то – подумай, как смешно! –
С водой молдавское вино».
Но я молюсь – и воздыхаю…
Крещусь, не внемлю сатане…
А всё невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоем вине…
Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлою струей
И за здоровье тех и той.
До дна, до капли выпивали!..
Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет…
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! – мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся –
И я скажу: Христос воскрес.
Те – революционеры, та – свобода. Через несколько лет В. Л. Давыдову пришлось причаститься «кровавой чашей»: в январе 1826 г. он был арестован, привезен в Петербург и приговорен к двадцатилетней каторге. Умер в Сибири.









































