Текст книги "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"
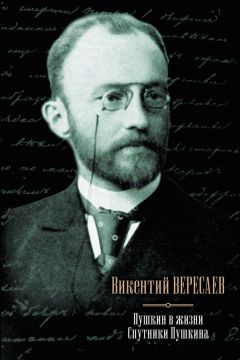
Автор книги: Викентий Вересаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 81 (всего у книги 134 страниц)
В Кишиневе
Весной 1820 г. Пушкин был выслан из Петербурга в Екатеринослав, в распоряжение генерала Инзова, главного попечителя о колонистах южной России. С разрешения Инзова Пушкин отправился с семьей Раевских на Кавказ и в Крым, где прожил до осени. Тем временем Инзов был назначен исправляющим должность наместника Бессарабской области и переехал в Кишинев. Пушкин, как посланный в распоряжение Инзова, должен был жить там, где Инзов. Из Крыма Пушкин приехал в Кишинев в конце сентября 1820 г. и прожил там до лета 1823 г., когда был переведен в Одессу. В марте 1824 г. он на две недели приезжал в Кишинев из Одессы.
Иван Никитич Инзов(1768–1845)
Трогательнейшая фигура из всего пушкинского окружения. Всю жизнь Пушкин не знал родительской ласки. И вот на два-три года, во время пребывания Пушкина на юге, судьба послала ему отца – заботливого, любящего, без обиды строгого и любовно прощающего, мудро умевшего ладить с озорным, капризным и озлобленным юношей. Еще в Екатеринославе, как только высланный из Петербурга Пушкин попал под начальство генерала Инзова, Инзов поспешил отпустить его с генералом Н. Н. Раевским на Кавказ и по этому поводу писал петербургскому почт-директору К.Я.Булгакову: «Расстроенное здоровье г. Пушкина и столь молодые лета и неприятное положение, в коем он по молодости находится, требовали, с одной стороны, помочи, а с другой – безвредной рассеянности, потому отпустил я его с генералом Раевским, который в проезд свой через Екатеринослав охотно взял его с собою. При оказии прошу сказать об оном графу И. А. Каподистрии (управляющему в то время министерством иностранных дел). Я надеюсь, что за сие меня не побранит и не назовет баловством». В Кишиневе пропадавшего от безденежья Пушкина Инзов поселил в своем доме, поил, кормил, давал взаймы деньги. Когда напроказит, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал его под арест, т. е. несколько дней не выпускал из комнаты. Донесения в Петербург писал в таком роде: «Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах… Он, побуждаясь тем же духом, коим исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в сем случае… В бытность его в столице он пользовался от казны 700 рублями в год; но теперь, не получая сего содержания и не имея пособий от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании терпит, однако ж, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии. По сему уважению я долгом считаю покорнейше просить распоряжение вашего к назначению ему отпуска здесь того жалованья, какое он получал в С.-Петербурге». Жалованье было назначено. Через два месяца по приезде Пушкина в Кишинев Инзов отпустил его в Каменку к Давыдовым. Пушкин там загостился. А. Л. Давыдов написал Инзову письмо, что Пушкин, по случаю простуды, не мог приехать вовремя и что приедет немедленно по выздоровлении. Инзов отвечал: «До сего времени я был в опасении о г. Пушкине, боясь, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь при неудобствах степных дорог не получил нещастия. Но, получив почтеннейшее письмо, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах».
Пушкин всю жизнь вспоминал об Инзове с нежностью и благодарностью, писал о нем: «…добрый и почтенный старик; доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные». Особенно оценил Пушкин Инзова, когда от него попал под начальство графа Воронцова, холодного и высокомерного вельможи, видевшего в Пушкине только «коллежского секретаря».
Внешние факты биографии Инзова: службу начал кадетом, участвовал в ряде войн. В 1818 г. назначен главным попечителем о колонистах южной России, 15 июня 1820 г. – исправляющим должность наместника Бессарабской области в Кишиневе, в июле 1822-го – исправляющим должность новороссийского губернатора (оставаясь в Кишиневе); через год его в этой должности сменил граф Воронцов. Был масоном и мистиком. Любил ботанику. Большая его библиотека состояла из сочинений мистиков Сведенборга, Штиллинга, Беме и им подобных, а также сочинений ботанических. Всеобщая молва называла Инзова побочным сыном императора Павла. Предположение это, по-видимому, основывалось исключительно на большом наружном сходстве Инзова с Павлом.
Михаил Федорович Орлов(1788–1842)
Побочный сын графа Фед. Григ. Орлова, брата любовника Екатерины II Григория Орлова и убийцы Петра III Алексея Орлова-Чесменского. Крупный помещик. Получил образование в пансионе аббата Николя, поступил в кавалергардский полк, проделал кампании 1805, 1807 и 1812–1814 гг., участвовал во многих сражениях, проявил блестящую храбрость, получил Георгиевский крест. Был назначен флигель-адъютантом к императору Александру I, который его очень полюбил. Ему было в 1814 г. поручено вести переговоры о капитуляции Парижа и подписать ее условия. Двадцати шести лет он был уже генералом. За границей Орлов сошелся с Николаем Тургеневым, работавшим в то время со Штейном. Тургенев оказал на Орлова большое влияние в смысле ознакомления с передовыми идеями того времени. Как большинство военной молодежи, Орлов вернулся в Россию из заграничных походов глубоко враждебным к господствующим на родине порядкам. Он составил на имя царя петицию об уничтожении крепостного права, под которой подписались многие сановники, в том числе граф М. С. Воронцов, Блудов и другие. Совместно с богачом графом М. А. Дмитриевым-Мамоновым проектировал учреждение тайного «Ордена русских рыцарей» с широкой программой либеральных реформ – введения конституции, упразднения рабства, учреждения суда присяжных, свободы печати. Конституция, однако, мыслилась на английский образец, с фактическим предоставлением всей власти феодальной аристократии и нарождавшейся промышленно-помещичьей буржуазии. Орлов, вместе с Н. Тургеневым, пытался влить политическую струю в веселое, беззаботное насчет политики литературное общество «Арзамас». Либерализм Орлова, однако, не помешал ему прийти в крайнее возмущение от дарования Александром I конституции Польше и от проектируемого, по слухам, присоединения к Польше Литвы. В 1817 г. Орлов составил записку царю с протестом против дарованных Польше учреждений и стал собирать подписи среди генералов и сановников. Император заблаговременно узнал об этом и сурово потребовал от Орлова представления записки. Не желая подводить подписавшихся, Орлов ответил, что потерял записку. «Узнав о записке, – рассказывает Н. Тургенев, – я не преминул упрекнуть Орлова в рабском патриотизме, внушившем этот протест, и Орлов согласился со мною».
Император совершенно охладел к беспокойному своему любимцу и удалил его в Киев, на должность начальника штаба 4-го корпуса, командиром которого был Н. Н. Раевский. Письма Орлова из Киева к близким лицам показывают, какие он в это время переживал настроения. «Что вы пишите о моем положении при дворе, – писал он Александру Раевскому, – это я знал заранее и нисколько этому не удивляюсь. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей, благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа. Я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? Несколько более широкой сферы деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке. Что ж! Я буду ждать, буду ждать, если нужно, и десять лет». Орлов убежден, что надвигается «всеобщее крушение», хотя сам, может быть, и не доживет до «зари этого прекрасного дня». Сестре своей он пишет: «…дай Бог вам счастья и покоя, а мне – жизни бурливой за родную страну». Скромная роль начальника корпусного штаба мало давала простора для такой «бурливой жизни». Однако и на этой должности Орлов развил, в пределах возможного, самую кипучую деятельность. Он энергично взялся за насаждение ланкастерских школ взаимного обучения, тогда только что начинавших пробивать себе дорогу в России. Его стараниями маленькая, в сорок человек, киевская школа кантонистов разрослась в большое учебное заведение до 1800 учащихся; обученные в этой школе учителя открыли такие же школы в ряде других городов. Официальная газета «Русский инвалид» писала о школе Орлова: «…видеть оную и не восхищаться ею были бы две совершенно несовместимые идеи». На заседании киевского отделения Библейского общества, которого вице-президентом он был избран, Орлов произнес смелую либеральную речь, где говорил о необходимости всеобщего обучения и резко нападал на обскурантов и политических староверов. «Они убеждены, – говорил Орлов, – что они – избранники, которым все остальные люди обречены в рабство самым промыслом, и в этой уверенности они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления». Князь Вяземский в восторге писал об этой речи А. Тургеневу: «Ну, батюшка, оратор! Вот пустили козла в огород! Я в восхищении от этой речи. Орлов недюжинного покроя. Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерскою прозорливостью!» Эта речь Орлова, равно как и некоторые его письма с резкими нападками на крепостное право разошлись во множестве списков и создали ему большую славу среди оппозиционных слоев русского общества. О нем говорили как о «человеке высшего разряда», как о «светиле среди молодежи». К нему с вниманием приглядывались члены «Союза благоденствия».
Орлов, добиваясь более самостоятельного места в армии, хотел получить в командование дивизию. Пять раз он получал отказ, наконец в 1820 г. был назначен командиром 16-й пехотной дивизии, стоявшей в Кишиневе. По пути из Киева на место новой службы он заехал в Тульчин и там был принят в члены «Союза благоденствия» Пестелем, Юшневским и Фонвизиным. Однако к активной революционной деятельности Орлов не имел склонности, «всеобщее крушение» считал теперь не так уж близким и к широким политическим задачам относился без прежнего пыла. «Политика запружена и Бог знает, когда потечет, – писал он А. Раевскому. – Я также строю умственную насыпь, чтобы запрудить мысли мои. Пускай покоятся до времени». Орлов приехал в Кишинев и вступил в командование дивизией. В дивизии делалось то же, что и везде: от непрерывных изнурительных учений, не признававших никакого отдыха, солдаты падали в обморок в строю, офицеры и унтер-офицеры беспощадно избивали солдат палками, тесаками и шомполами, провиантские чиновники их обкрадывали, и солдаты голодали. Жаловаться было бесполезно. Солдаты дезертировали десятками, их ловили и расстреливали. Орлов издал по дивизии приказ, в котором запретил применять к солдатам телесные наказания, грозил беспощадной расправой всем начальствующим лицам, кто посмеет истязать и обкрадывать солдат, требовал, чтобы в солдате воспитывалось чувство собственного достоинства. И приказ этот был не секретный, – Орлов предписывал прочесть его во всех ротах своей дивизии, чтобы все солдаты знали о приказе. И все время Орлов строго следил за тем, чтобы начальствующие лица исполняли приказ. Вот другой приказ от января 1822 г.: «В Охотском полку гг. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания. И что же? Лучше ли был батальон от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии – я ничего не нашел. После сего примера кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат не может быть без побоев доведен до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем тем гг. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и что они найдут во мне строгого мстителя за их беззаконные поступки… Предписываю приказ сей прочитать по ротам и объявить совершенную мою благодарность нижним чинам за прекращение побегов в течение моего командования». Орлов деятельно занялся также насаждением в своей дивизии ланкастерских школ взаимного обучения. Во главе кишиневской школы он поставил энергичного члена «Союза благоденствия» майора В. Ф. Раевского, основал ряд школ и в других городах и местечках, где стояли части его дивизии, тратил на школы много собственных средств. Наилучшую характеристику его деятельности дают донесения секретных агентов в Петербург: «В ланкастерской школе, говорят, что кроме грамоты учат их и толкуют о каком-то просвещении. Нижние чины говорят: «дивизионный командир наш отец, он нас просвещает». Липранди Иван Петрович говорит часовым, у него стоящим: «Не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник, мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и тестовые наставление сие передайте один другому».
В январе 1821 г. созван был в Москве съезд депутатов «Союза благоденствия» для решения вопроса о дальнейшем существовании общества. Хотя Орлов состоял членом союза всего несколько месяцев, но он пользовался среди членов таким влиянием и уважением, что был выбран в депутаты. По дороге в Москву он остановился в Киеве и сделал предложение Екатерине Николаевне, старшей дочери бывшего своего командира Н. Н. Раевского. Переговоры шли через Александра Раевского. Он поставил Орлову основным условием выход из Тайного общества. На съезде, как известно, формально было принято постановление о закрытии общества, чтобы удалить из него ненадежные элементы, а из основного ядра образовать свое общество. В это новое общество Орлов не вступил.
15 мая он женился на Екатерине Николаевне и с ней возвратился в Кишинев. В Кишиневе Орлов нанимал два больших дома на Ильинской улице. Жил на широкую ногу, держал открытый стол для всей военной молодежи. Ярый реакционер Вигель рассказывает про Орлова: «Сей благодушный мечтатель более чем когда-либо бредил конституциями. Прискробным казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина. Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор В. Ф. Раевский (совсем не родня г-же Орловой), с жаром витийствовали. Тут был и Липранди. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм… Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии».
Пушкин очень часто бывал у Орлова. Екатерина Николаевна, жена Орлова, писала брату Александру: «У нас беспрестанно идут споры – философские, политические, литературные и др., мне слышно их из дальней комнаты. У нас не мало оригиналов… Пушкин больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно… Спорит с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – вечный мир аббата Сен-Пьера».
Деятельность Орлова давно уже привлекала к себе настороженно-враждебное внимание штаба армии и корпусного командира Сабанеева. За ним был учрежден секретный надзор. В июле 1821 г. начальник корпусного штаба, генерал Вахтен, сделал смотр одному из полков орловской дивизии. Хотя полк представился в самом образцовом виде, Вахтен грубо разнес командира полка, нашел во всем непорядки и разрешил не только унтер-офицерам, но и ефрейторам бить солдат палками до двадцати ударов. В декабре 1821 г. случилось происшествие, за которое начальство жадно ухватилось, чтобы свалить Орлова. Раньше было в обычае, что экономические деньги за продовольствие солдат в половинном размере шли в пользу ротного командира. Приказом и Сабанеева и Орлова это было отменено и предписано частью раздавать деньги на руки солдатам, частью причислять к артельным суммам. Солдат-артельщик одной из рот Камчатского полка, входившего в дивизию Орлова, привез из города экономические деньги. Командир роты потребовал у него эти деньги. Артельщик ответил, что рота не приказала отдавать деньги ему, а распределила их по взводам. Взбешенный командир велел подвергнуть артельщика наказанию палками. Его вывели на двор. Собрались солдаты и закричали, что не дадут наказывать, что артельщик исполнял их приказание. Когда же командир велел приступить к экзекуции, солдаты вырвали палки, переломали их и освободили товарища. Преступление против дисциплины было чудовищное, и виновных ждало бы ужасное наказание. Но командир сообразил, что не поздоровится и ему за попытку присвоить солдатские деньги. Через своего денщика он вступил в переговоры с солдатами, и решено было предать дело взаимному забвению. Дней через десять генерал Орлов делал полку инспекторский смотр. На таком смотру солдат опрашивают, все ли они получают, что полагается, не обращаются ли с ними жестоко и т. п. Солдаты обступили Орлова и заявили, что получили все, что наказания командир прекратил и теперь они всем довольны. Вдруг из задних рядов кто-то сказал:
– Намеднись капитан хотел было наказать артельщика за то, что он не отдал ему деньги за провиант. Но мы не допустили до этого, а потом помирились.
Проще всего было Орлову пропустить это заявление мимо ушей. Но как лояльный либерал, – «хорошо, по замечанию современника, умевший различать человеколюбие от священных обязанностей дисциплины», – Орлов спросил:
– Как это «не допустили»? Рассказывайте.
Солдаты с наивной гордостью рассказали, как было дело. Орлов, продолжает современник (Липранди), – «с горестью выслушав эти показания, сознал всю важность поступка и поручил бригадному генералу П. С. Пущину произвести строжайшее следствие». Сам же Орлов уехал в данный уже ему отпуск в Киев, где должна была родить его жена. Пущин не спеша стал собираться начать следствие, даже никого еще не арестовал, как вдруг нагрянул извещенный обо всем Сабанеев. Он повел следствие, под палками заставляя солдат давать показания. Артельщик, фельдфебель и наиболее виновные солдаты за бунт против начальства были прогнаны сквозь строй, а об Орлове и Пущине Сабанеев, помимо штаба армии, послал донесение прямо в Петербург. Вскоре был арестован майор В. Раевский по обвинению в политической пропаганде среди солдат. Заварилась каша. Орлову ставилось в вину, что он ослабил дисциплину в дивизии, потакал солдатам, держался запанибрата с подчиненными, вверил школу такому вольнодумцу, как В. Раевский. Ставились в вину и упомянутые его приказы по дивизии, особенно же предписание читать эти приказы солдатам. Пущин был уволен в отставку. Орлову предлагали уехать «на воды», а там обещали дать ему другую дивизию. Но он требовал формального суда. Суда он не добился, а в апреле 1823 г. был лишен дивизии и назначен «состоять по армии», т. е. числиться военным, не неся службы.
На этом оборвалась навсегда деятельность талантливого и энергичного человека, который пытался лояльно работать в условиях существующего строя, не посягая на его основы. После удаления с действительной службы Орлов жил то в Москве, то в Крыму, то в калужском своем имении, где занимался улучшением имевшегося у него стеклянно-фарфорового завода. Разразилось 14 декабря. Орлов был арестован в Москве и привезен в Петропавловскую крепость. Рассказывают, что ему грозила жестокая кара, но младший брат его Алексей Федорович, первым бросивший свой полк в атаку на каре мятежников, на коленях вымолил у императора Николая прощение брату. В сущности, однако, никаких серьезных обвинений нельзя было и предъявить Михаилу Орлову: участвовал он только в «Союзе благоденствия», а это следственной комиссией «оставлялось без внимания». Неопределенные показания некоторых арестованных говорили только о каких-то сожженных письмах и о том, что члены Тайного общества считали Орлова сочувствующим целям общества. Главное, что было поставлено Орлову в вину Верховным судом, – это та же деятельность в Кишиневе, за которую он в свое время уже понес кару: Владимир Раевский, приказы Орлова по дивизии, чтение их в ротах, бунт Камчатского полка. Орлов был исключен из военной службы и выслан под надзор в калужскую свою деревню. В 1831 г. брат выхлопотал ему разрешение жить в Москве.
Москва окружила Михаила Орлова почетом и уважением, как генерала Ермолова, как Чаадаева, как других талантливых людей, у которых николаевский режим отнял возможность деятельности. В 1834 г. с ним встречался в Москве Герцен. «Бедный Орлов, – рассказывает он, – был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала. Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщало его наружности неотразимую привлекательность. От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу принимался писать «О кредите», – нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах, и воспоминание прошедшего, желание сохранить его как нечто святое ставило Орлова в беспрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться кающейся Магдалиной, – говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дан ему прошедшим интересом, и оставаться окруженным ореолом оппозиционности», – говорил другой голос. От этого Орлов делал беспрерывные ошибки. Вовсе без нужды и без пользы громогласно иной раз унижался – и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение». Второй раз Герцен видел Орлова в 1841 г., по возвращении своем из ссылки. Орлов произвел на него ужасное впечатление. «Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение и не видел выхода. Работавши семь лет и все по-пустому, чтоб получить поприще, он убедился, что там никогда не простят, что ни делай. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением, а не с увлечением смотрело на старика. Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос. Но не выдержал». Через два месяца Орлов умер. Герцен записал в дневнике: «Я посылаю за ним в могилу искренний и горький вздох; несчастное существование оттого только, что случай хотел, чтоб он родился в эту эпоху и в этой стране».









































