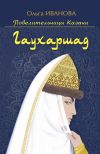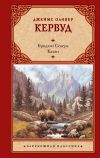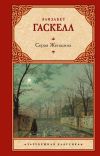Текст книги "Сююмбика"

Автор книги: Ольга Иванова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
Глава 6
Широкая, извилистая дорога пролегала перед посольством, которое возглавлял казанский бек Бакшанда. Каменистая дорога казалась бы скучной и однообразной, если б не росла по краям молодая трава, оживлявшая тёмно-серые валуны. Взгляд Бакшанды цеплялся за изумрудно-зелёные островки, отвлекал от невесёлых дум. «Красиво владение крымцев! Море, плещущееся внизу, под обрывом чёрных скал, напоминает лазурное покрывало красавицы, трепещущее на ветру. А эти цветущие, дурманящие непривычным иноземным запахом кустарники и деревья. Окажись с нами солтан Булюк, остановились бы весёлым станом на этой поляне, пекли бы мясо, пили кумыс, праздновали бы возвращение ханского сына в Казань!»
Но не было повода для веселья у старого дипломата, и тревожные думы теснились в его голове. Словно травленый волк, побывавший в засаде, чуял он: неспроста был так ласков с ними крымский хан. Приём оказали им почтительный, и меджлисы, на какие звали Бакшанду, – обильны, а ответные дары, какие он вёз для казанских вельмож, богаты. Нечем было попрекнуть хана Сагиба. Вот только речи – непонятные мудрёные слова в ответ на прямую просьбу казанского дивана прислать на ханство наследника Булюка. Крымский повелитель порадовался решению казанских вельмож и Булюка хвалил, отметил ум его, стать да удаль. Но когда пришло время посольству отбывать в Казанские Земли, солтана с ними не отправил. Сказался, что должен запросить у великого султана Сулеймана Кануни высочайшего согласия, а заодно желает раскрыть неопытному родственнику тайны дворцового управления. Тяжело вздохнул Бакшанда, чернее тучи теснились в его голове подозрения. Отчего в те дни, когда посольство гостило в Бахчисарае, хитромудрый повелитель Крыма не послал своих гонцов к султану Сулейману? И разве мало у него было времени наставлять сына покойного племянника в государственных делах? А Бакшанде очень понравился солтан Булюк. Мало чем напоминал он хана Сафу, всё пересилила в нём кровь степняка Мамая – на смуглом скуластом лице узкие проницательные глаза. Неразговорчив, а если поведёт речь, то только по делу, нет шелухи и пустословия – истинный ногаец! И по глазам этим, и по виду, с каким держался казанский царевич, а также по речам чувствовал посол: ради трона Казани будет Булюк служить верой и правдой возвысившему его ханству. А такого хана сейчас не хватало Казани – правителя, который не будет вспоминать, что он отпрыск Гиреев, и не станет по-рабски гнуться перед русским царём.
Пока ехал Бакшанда со своими думами и подозрениями по крымской дороге, в Бахчисарае Сагиб-Гирей принимал сыновей покойного хана Сафы. Утром с послами отправил крымец грамоту турецкому султану с просьбой дать на казанский престол своего племянника Даулет-Гирея.
«…Ваш казанский юрт стал тяжёл для управления, – писал хан Сагиб Сулейману. – Всё чаще осаждают его враги нашей веры, кяферы московские. Дабы не утерять из венца правоверных одной из бесценных жемчужин, не стоит ли послать в Казань хана сильного и воина славного, коим, несомненно, является племянник мой. Он долгие годы пользуется милостью вашей. Не пора ли солтану Даулет-Гирею стать правителем…»
Теперь, когда полдела было сделано, и имя Даулета как претендента на казанский трон названо, следовало устранить неугодных наследников – сыновей Сафы.
Двадцатидвухлетний Булюк словно предчувствовал свою участь, во дворец явился с тяжёлым сердцем. В отличие от него восемнадцатилетний солтан Мубарек был весел и говорлив, по поводу и без повода заливался юношеским звонким смехом. Мубарек прибыл в Бахчисарай малолетним ребёнком, мало помнил он Казань и отца своего, а в Крыму рос на всём готовом, сидел за ханским столом, на охоте мчался рядом со знатными вельможами. Сколько помнил себя Мубарек, хан Сагиб был с ним ласков и щедр, оттого солтан ничего не боялся и спокойно отправился вместе с братом этим вечером во дворец.
Повелитель, как часто бывало, находился в своём саду, любовался видом распускающихся ночных фиалок, которые окутывали воздух пленительным ароматом. На пришедших царевичей Сагиб-Гирей глянул с неохотой, словно недовольный тем, что оторвали его от занятного дела. Мубарек со снисходительной улыбкой оглядывал клумбы и грядки, в душе насмехался: «Что за страсть у хана – цветочки! Истинный повелитель должен любить три вещи – войну, женщин и богатство».
Сагиб-Гирей словно услышал эти крамольные мысли, покосился на младшего солтана:
– Вот скажи, Мубарек, как умеючи подрезать розовый куст?
У младшего солтана смех так и прыснул из глаз:
– Дело ли это воина, великий хан?!
– Любое знание даёт силу, – вкрадчиво произнёс Сагиб-Гирей. – Когда отцветает розовый куст, его надо обрезать, весь обрезать, не жалеючи. Только тогда он сможет дарить красу и аромат свой заново!
У Булюка желваки заходили под тёмными скулами, понял, слова эти не для глупого Мубарека, для него. Но нашёл в себе силы собраться и дать достойный ответ:
– И срезать, повелитель, надо уметь. Высоко подрежешь – новый побег слабым будет, а низко – может и вообще не зацвести.
– Умё-он! – протянул хан и оправил халат, словно была в том надобность. – Да только бывает куст хорош и красив, да вырос не на том месте да не в то время!
И уже не таясь, равнодушно указал заждавшемуся караулу:
– Взять обоих!
Скрестив руки на животе, он наблюдал, как уводили казанских солтанов. Ничего не понимающий Мубарек брыкался, оглядываясь, кричал:
– Повелитель, за что?!
А Булюк шёл молча, не противился, но у выхода из сада оборотился, полоснул, как кинжалом, ненавидящим взглядом.
По приказу хана Сагиба царевичей поместили в зиндан – известие об этом спустя два дня донёс до трона султана Сулеймана соглядатай, который проживал при дворе крымского хана. А спустя ещё несколько дней бек Бакшанда в первом же яме родного ханства узнал, что Казань уже провозгласила новым повелителем малолетнего Утямыша. Мать трёхлетнего хана Сююмбика-ханум вместе с начальником крымской гвардии огланом Кучуком теперь заседала во главе казанского дивана. О наследнике Сафа-Гирея солтане Булюке в Казанском ханстве уже никто и не вспоминал, кроме его матери Фатимы, которая всё ещё находилась в заточении в крепости Кара-Таш. В том же яме сообщили Бакшанде, что воцарение Утямыша не обошлось без крови, прокатилось по столице восстание, и бились друг с другом воины знатнейших вельмож. Каждый желал выгодного для своего рода правителя, каждый мечтал при этом о высокой должности для себя. А решилось всё гвардией крымцев, она оказалась в тот день наиболее грозной силой в Казани. Кое-кто из недовольных по уже проторенной дороге отправился в Москву на службу к русскому царю. Сеид и казанские карачи, поразмыслив, смирились с навязанным им ханом, повиновались и порядку, принятому при покойном повелителе, – на значимых местах в казанском диване вновь воцарились крымцы.
Послу Бакшанде предаваться философии жизни и вздыхать о судьбе Булюка не дали, едва он прибыл в Казань, как вновь возглавил посольство, но теперь его путь лежал в Москву. Царя Ивана спешили известить о воцарении на престоле малолетнего сына хана Сафы Утямыша с матерью Сююмбикой. Содержала грамота и просьбу об установлении мира между двумя соседними государствами. Ханум писала московскому государю: «Не хотим мы войны между Казанью и Москвой. Обещаем не посылать на твои земли, великий государь, своих войск, не разрушать городов твоих и не пленять людей. И ничего, кроме мира между нами, не желаем мы так сильно. О чём от имени моего малолетнего сына хана Утямыш-Гирея доношу до тебя, государь, казанская ханум Сююмбика». Посредником в деле мира вызвался выступить ногайский беклярибек Юсуф. Но не ведал старый беклярибек, что молодой царь, уже почуявший вкус побед и богатой добычи, не желал довольствоваться малым, как бывало это с отцом и дедом его. Государь Иван IV возжелал присоединить Казанское ханство к драгоценному ожерелью своих земель, и по замыслу его духовников последнюю битву следовало провозгласить крестовым походом против басурман.
Глава 7
Казань переживала нелёгкие времена. Московиты хоть и не переходили границы ханства, но неизменно держали войска во Владимире и Муроме. Постоянная угроза тяжким бременем ложилась на страну, казанцы жили в ожидании беды, и это ощущение со временем только усиливалось. Сююмбика пыталась удержать поводья власти над ханством, но оно подобно большому кораблю, потерявшему руль, неслось к штормам и невзгодам. Женская рука была слаба, а эмиры, похвалявшиеся своей мужской доблестью, не пытались её поддержать, а лишь уподоблялись торговкам с базарной пощади, которые делили доходные места и привилегии. Ханум призывала их, – спорящих и грызущихся, – одуматься, вспомнить о неминуемой беде, грозящей родным землям.
– Будьте едины, и враг не сломит нас! Копите силу в улусах своих, ибо близок день, когда придётся встать на защиту Казани!
Она бросала слова словно в пустоту и видела вокруг равнодушные лица и пустые глаза. Вельможи не желали слушать женщину. Ханум распускала диван и долго сидела на троне без сил, тяжёлая ноша, которую она взвалила на себя, пугала, ведь ни один из могущественных эмиров не вставал рядом и не подставлял своё плечо. Карачи словно не видели грозовой тучи, бурлившей на границах ханства, а она ощущала опасность, исходившую от Москвы. Недаром царь Иван не ответил на её речи о мире, неспроста копил он силу в Муроме и Владимире. Она вызывала Кучука в слепой надежде найти поддержку у него, но крымец на все её страхи лишь смеялся:
– Что с того, что придут урусы под Казань? Они приходили не раз и поворачивали обратно! Им не по зубам неприступные стены, и пушек у нас хватает, ханум. Напрасны ваши страхи, это всё женское.
В словах Кучука слышался оттенок лёгкого презрения. «И он не считается со мной, – в отчаянии думала Сююмбика. – Он готов пустить врага на казанские земли, только бы не обращать внимания на слова женщины. О Аллах, как все они слепы! Дай же им глаза, а мне дар красноречия, чтобы смогла я достучаться до их чёрствых душ!»
Весной казанская ханум направила в Москву посольство. Во главе поставила того, кто более всех в ханстве ратовал за мир, – прославленного Мухаммадьяра. Поэт был совестью её народа, он первым поддерживал решения Сююмбики по ослаблению налогового бремени, улучшения жизни простых людей. Знатнейшие члены дивана, да и оглан Кучук считали всё это блажью ханум, заигрыванием с чернью, недостойной их высочайшего внимания.
– Мы потеряем на этом немало денег, – ворчал главный казначей ханства. – Скоро речка налогов обмелеет и станет напоминать скудный ручей.
Кучук высказался ещё прямей:
– Если высокородная ханум считает, что этим задобрит жалких людишек, то она ошибается. Чернь понимает лишь язык силы и плети. Если толпу задабривать халвой и шербетом, то однажды она возомнит себя равной вельможам и откусит палец дающего.
Сююмбика-ханум не нашлась, что ответить оглану, но затаила на него обиду. Он, призванный ханом Сафой помогать ей, постоянно не соглашался с указами госпожи, а его высокомерие, с каким он разговаривал со своей повелительницей, становилось невыносимым. Как далёк был от неё крымский оглан, так понятен и близок по духу Мухаммадьяр. Она зачитывалась его нравоучительными поэмами-притчами, в них Мухаммадьяр сочувствовал бедам и тяготам жизни своего народа, требовал справедливости от правителей. Поэт в своё время стоял костью в горле Сафа-Гирея. Повелитель, не терпевший, чтобы ему перечили, готов был выслать Мухаммадьяра за пределы ханства. Но поэт находился под личным покровительством ханум, и хан не стал вступать в конфликт с любимой супругой по столь ничтожному поводу. Однако однажды он высказал своё мнение Сююмбике:
– Тогда как всех правоверных нашей земли мы призываем на газават[122]122
Газават – священная война против неверных.
[Закрыть], ваш Мухаммадьяр, ханум, считает лучшим выходом объявление газавата своим пороком. По его словам, наши худшие враги – это жадность, лень и зависть, а не кяферы.
Поэт и сейчас не отступал от своих утверждений. Даже на заседании дивана, выслушав разгневанные речи эмиров, которые клеймили урусов и поносили их веру последними словами, Мухаммадьяр не побоялся заявить:
– Вера кяферов не может быть злом против правоверных. Они своей неверностью вредят только себе. Если ты кяфер, это не значит, что враг. С урусами можно говорить и договариваться.
– Вот попробуй и договорись! – после долгого молчания изрёк оглан Кучук. – Наша ханум собирает посольство в Москву, поезжай с ними.
Она промолчала тогда, но Мухаммадьяр разговора не забыл и послал госпоже своё согласие на отъезд.
Сейчас поэт стоял перед ней в простой опрятной одежде с белой чалмой на голове. Он ничем не напоминал важного илчи, скорей благочестивого суфия, кем был и оставался всю свою жизнь.
– Прости, Мухаммадьяр, – сказала госпожа, – слышала я, желал ты отречься от земной суеты и в последние годы стал муджавером[123]123
Муджавер (муджавир) – здесь: хранитель мавзолея, чтец Корана.
[Закрыть] тюрбе великого хана Мухаммад-Эмина. Но твой народ, Мухаммадьяр, взывает к тебе, твоя Земля просит послужить ей.
– Нет ничего почётней, чем служить своей родине и народу, ханум. – Поэт оборотил к Сююмбике спокойное лицо. – Для дела чистого и благородного готов я и жизнь положить. Мухаммадьяр достаточно пожил на этом свете, достаточно сказал, он отправится в логово противника с желанием добыть мир, который необходим Казани, как глоток свежего воздуха.
У ханум навернулись слёзы на глаза, ей не пришлось много говорить и убеждать, чуткое сердце Мухаммадьяра всё понимало само. Она отправилась проводить посольство до самых ворот, глядела вослед долго, не чувствуя зябкого ветра, тянувшего с реки. Сююмбика шептала оберегающие молитвы и просила еле слышно:
– Возвращайся скорей, Мухаммадьяр. Возвращайся, верный сын своего ханства, да пребудет с тобой Аллах.
Мухаммадьяр прибыл в бурлящую Москву весенним дождливым днём. Столица, несмотря на непогоду, кипела от раздуваемых страстей. Повсюду – на больших торжищах, площадях, в боярских хоромах и простых избах – разговор шёл о войне. Обсуждали намерения царя Ивана идти на татар. И в церквях неустанно призывали отомстить безбожным басурманам, которые многие столетия изгалялись над православными. Люди, стоя в душных соборах, плакали, не в силах слушать душераздирающие описания мук томившихся в казанском рабстве христиан. На площадях, по странному стечению обстоятельств, появлялись жители приграничных земель и рассказывали о зверствах татар, об опасной жизни бок о бок с коварными соседями. Под конец долгих речей, которые слушались толпой со вниманием, неизменно добавляли:
– Сгиб их царь Сафа, но растёт в царских теремах выкормыш его! Сейчас волчонок мал, а завтра поднимет голову и, сговорившись с крымцем, придёт на нашу русскую землю отвоевать её, как воевали татары со времён кровавого Батыги[124]124
Батыга – так на Руси звали внука Чингисхана Бату-хана.
[Закрыть].
В толпе кто-то истерично, с надрывом заплакал:
– Натерпимся опять с детками малыми, а то угонят их в неволю басурманскую и пропадут все до единого. Так помолимся же за батюшку нашего царя, на него, защитника русских земель, уповаем!
Посольство Мухаммадьяра остановилось на Татарском дворе. Сидели в доме, не показываясь на улице, ждали, когда царь сам призовёт их на аудиенцию. А Иван IV заставлял ждать. Бакши не раз переписывал челобитную, всё опасался оскорбить неосторожным словом государя московитов. Наступало лето, а царь всё безмолвствовал. В одну из ночей разъярённая толпа пришла на Татарский двор с факелами, дом запалили с трёх сторон. Казанцы попрыгали из окон, но их схватили и потащили на расправу. Избитых и покалеченных послов выручили стрельцы, под охраной привели на Царский двор, где Иван IV, накинув на плечи кафтан, вышел им навстречу. Он с равнодушием взглянул на закопчённые, окровавленные лица:
– С чем явились, казанцы?
Мухаммадьяр выбрался вперёд, в толмаче он не нуждался, изучил язык урусов давно и ответил складно:
– Явились мы к твоему порогу, господин, с добром и миром, а ты встречаешь нас сварой и позором.
– Чернь взбунтовалась, – лениво бросил царь. – А всё от того, что переполнилась чаша терпения народа, не желает Русь более терпеть набегов татарских.
– Казань не единый раз вопрошает тебя о мире, великий государь. Если не кривишь душой и хочешь истинного мира, протяни свою руку!
Иван нетерпеливо мотнул головой:
– Хотите мира, так примите хана из моих рук. Пришлю к вам правителем Шах-Али и воевод московских. Смиритесь – не быть войне, а нет…
Молчание воцарилось на дворе, и дышала угрозой сама тьма, таившаяся по углам, не освещённым огнём факелов. Мухаммадьяр ощутил, как отступили за его спину казанцы, никто не посмел вымолвить слова. Поэт опустил голову, тяжесть легла на сердце, он видел, какие бы слова ни были произнесены сейчас, царь урусов не даст мира. И даже ненавистный Шах-Али, которого, как занозу под ноготь, загоняют в Казань, является упоминанием свободолюбивому народу – вот ваш удел: вечное поклонение и вот правитель, достойный вас.
– Чем же не угодил нынешний повелитель, государь? – тихо вопросил Мухаммадьяр.
– Что за государь? Неразумный мальчишка! – с презрением отвечал Иван.
– Но и ты, великий государь, вступил на трон в малом возрасте, и тебя поддерживала матушка твоя.
Глаза московского государя гневно полыхнули, словно само сравнение показалось ему богохульством:
– Ваш хан, как глиняная свистулька, выставляется на обозрение всякий раз, когда надо показать его народу! А на деле на троне сидит развратная баба, полюбовница крымская! Наслышаны мы в Москве о шашнях царицы с Кучуком Крымским.
Покачнулся Мухаммадьяр, сжались невольно кулаки. Не сам, казалось, а оскорблённая низкими обвинениями душа заговорила строками, писанными когда-то:
Знай, что язык людскому роду дан,
Как чудо из чудес, как талисман.
Кто справедлив, и чей язык правдив,
Тот ни на глаз, ни на руку не крив.
А если крив язык, то весь, как есть,
Ты крив – и утерял людскую честь.
Ноздри молодого царя раздулись от бешенства, он глядел на дерзкого казанца и каменел от ярости. Хотелось крикнуть, приказать немедля бросить татарина на растерзание дворовым псам, но кто-то дотронулся до руки, и царь, обернувшись, наткнулся на безмятежные глаза жены.
– Что случилось, сокол мой? Что за люди?
Иван обнял жену за плечи:
– Шла бы ты спать, Анастасия. Здесь татары пришли, жалуются, что дом их пожгли. Что им делать в Москве, пусть отправляются в Муром. Там Шах-Али сидит с войсками, туда и ответ дадим на челобитную.
Провожая царицу, Иван обернулся, недобрым взглядом окинул Мухаммадьяра:
– А ты, татарин, в Муроме хану Шах-Али покажи свою доблесть. Коли поклонишься в ноги касимовцу и пригласишь на ханство, прощу твои дерзкие речи. А не поклонишься – иной будет сказ!
И подал знак стрельцам, кинувшимся тут же на казанцев.
Глава 8
Поутру послов отправили с обозом в Муром. Везли как пленников. Серая дорога плыла перед глазами брошенного в телегу Мухаммадьяра, а он грезил мечтами своими давними, не видя грязи, не ощущая тесноты. Свободна душа и мысли поэта, летят они легкокрылыми птицами и не прервать их полёта чужой воле, пока бьётся благородное сердце и живёт деятельный ум. «О, если б жили люди в вечном мире, не было бы меж ними вражды и непонимания, и правители были бы умны и бескорыстны! О, если б правящие миром были справедливы, милосердны и щедры! О, если бы их воинственность сочеталась с терпеливостью и способностью прощать, был бы весь мир подобен древней Махалле!»[125]125
В поэме «Нур-и-содур» Мухаммадьяр описывал идеальную жизнь еврейского квартала Махалля в древнем Багдаде, где царят бескорыстная привязанность, взаимопомощь и нет вражды.
[Закрыть]
В Муроме Мухаммадьяра поставили перед Шах-Али. Касимовец со временем не стал краше, и так же уродлива казалась его душа, топтавшая правоверных в угоду московитам. Хан и сейчас хотел выслужиться перед царём Иваном. Раз пожелал московский господин склонить дерзкого поэта к его ногам, значит, так тому и бывать – Мухаммадьяр поклонится ему или не увидит никогда ни берегов Итиля, ни самой Казани. Хан приблизился к поэту, разглядывал его лицо в засохших кровавых струпьях, казанцам так и не дали умыться, и они ехали избитыми и грязными до самого Мурома. Холодок неуверенности прополз по спине Шах-Али. «Вон как смотрит, – подумал, – такого разве сломишь? Хорошо господину приказывать, а этот Мухаммадьяр из благочестивых суфиев, не откажется ни от веры, ни от идеалов своих!» Но нетвёрдости своей касимовский хан не показал, со строгостью окинул взглядом других казанцев.
– О повелении великого царя вы все знаете. Кто из вас повезёт весть о моём назначении на ханство?
Ответил всё тот же Мухаммадьяр:
– Велик тот царь, кто прославляет свой народ, кто славен деяниями, достойными государя. А твой господин – ничтожество, забывший, что все мы лишь прах и тень, и только дела и слова наши остаются в этом мире.
– Как смеешь?! – Шах-Али задохнулся собственными словами, смотрел, выпучив глаза. Он боялся взглянуть туда, где столпились московские воеводы. Удачей было то, что казанец говорил на тюркском языке, и смысл жгучих, едких слов не дошёл до царских слуг.
Хан, не заслышав возмущённых криков, с трудом перевёл дух, оборотился назад. Воеводы мирно беседовали, и не разверзлись небеса, и русский бог не поразил непокорного Мухаммадьяра.
– Смерти желаешь, стихоплёт, но лёгкого конца не жди, – с угрозой вымолвил касимовец.
– Не всё ли равно, жизнь моя будет продолжаться пятьдесят или тысячу лет. Мы живём лишь в настоящем мгновении, нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни отнять будущего, потому что мы его ещё не имеем. Одно мы вправе выбрать: умереть с честью или позором. Род Мухаммадьяра никогда не выбирал позора, и нет на нём проклятья, которое лежит на твоём роде, хан!
– Палача! – взвыл Шах-Али.
Он и сам уже рвался с саблей вперёд, но остановился от одной мысли, что не обещал лёгкой смерти Мухаммадьяру. Значит, быть по сему. Пусть дерзкий испытает все муки человеческие на этой земле, прежде чем предстанет перед Судом Всевышнего.
К концу весны, как ожидала ханум, посольство Мухаммадьяра не вернулось. Не прибыло оно и летом. А она всё ждала и писала тревожные письма отцу. Ногайский беклярибек Юсуф спрашивал у Ивана IV: «Государь великий, пишет мне дочь, что утерялось на твоих просторах посольство казанское, а вместе с ним толмач Мухаммадьяр, славящийся написанием стихов. Повели же отыскать послов и отослать их в Казань». Ответ из Москвы был краток: «Толмач с послами отосланы в Муром, где за дерзость свою преданы смерти».
Казанскую ханум весть повергла в непреходящую печаль, не один день она исходила слезами:
– О Мухаммадьяр, как же случилась такая беда? Замолчал ты, и вся Казань лишилась языка, и некому сказать мудрого слова, и некому петь о добре и справедливости! Где же правда твоя, Всевышний, почему допускаешь ты зло на этой Земле?
А речи Мухаммадьяра не утихли, не умерли, прерванные рукой палача, и неслись они из уст мюридов и поэтов, и из уст ребёнка, читавшего строки великой книги:
Зима наступила суровая, с сильными холодами, нежданная пришла она на казанские земли, казалось, заморозив саму жизнь, и тогда огромная сила, созревшая на границах Московской Руси, двинула свои полки на Казань.
Столица ханства трепетала в преддверии большой битвы. Русские войска, по доносам проведчиков, во много раз превосходили силы крымского гарнизона, подкреплённого тысячами казанских эмиров. Московиты прибыли к столице в свирепую пору метелей[127]127
12 февраля 1550 года.
[Закрыть] и словно непроходимые снежные заносы обложили город. Царская ставка расположилась лагерем у озера Кабан, здесь проводили спешные военные советы, на которых опытные воеводы докладывали о расстановке сил. Молодой царь, слушая их уверенные речи, витал в мечтаниях о том часе, когда его воины войдут в Казань.
Ранним утром заговорили русские пищали, расположенные в устье Булака и у Поганого озера. Пушки с нацеленными на толстые стены жерлами тяжело ухали и окутывались облаками порохового дыма, но железные ядра не могли пробить крепостных ограждений, и неудачный обстрел сопровождался воинственными криками и насмешливым улюлюканьем казанцев. Находились смельчаки, которые бесстрашно взбирались на городские стены и грозили оттуда царю Ивану и воеводам. У молодого государя от гнева ходили желваки под закаменевшими скулами. В полном молчании наблюдал он за бесполезностью обстрела, а ведь на пушки, что с большим трудом доставили под стены казанской столицы, государь возлагал основные свои надежды. После очередного залпа, не принёсшего успеха, Иван IV махнул рукой:
– Все в мой шатёр. Позвать Шах-Али и царевича Едигера.
Вызванные царём татарские вельможи явились нескоро. Едигер находился за рекой Казанкой со Сторожевым полком, а хан Шах-Али на Арском поле. Войдя, они нашли военный совет в полном сборе, Иван IV хмурился, потупившись, сидели и прочие князья-воеводы.
– В чём неудача нашего обстрела? – спросил царь. – Ты, Шах-Али, не раз правил этим городом, да и ты, Едигер, говорили, бывал здесь.
Татары переглянулись, не знали, как ответить царю, не вызвав его гнева. Известно было, как неудержим в ярости молодой господин, лишь царица умела остановить этот гнев. Но Анастасии на поле битвы не отыскать, а отвечать необходимо сейчас. Вновь переглянувшись с Едигером, первым принялся говорить касимовец:
– Стены здесь крепки, великий государь, величина их в семь сажен. Срубы внутри засыпаны землёй и мелкими камнями, что пищалью в холм бить, что в стены.
– И то верно, – робко поддержал Едигер, – мощь стен такова, что ядрам их не пробить.
– Что же вы молчали прежде? – Иван Васильевич подскочил с походного трона, смерил съёжившихся татарских военачальников почерневшим взглядом. – Вы сокрыли от своего государя, которому служите и милостями которого кормитесь, важные сведения! Знали бы мы об этом в Нижнем Новгороде, подумали б с мастерами из ганзейских земель, как одолеть эту крепость.
– Прости, государь, – еле переводя дух от страха, вымолвил Шах-Али, – не ведали мы, что пищали не возьмут этих стен. Только здесь увидели их бесполезность, а остальное сами домыслили.
Царь с недовольством отмахнулся, мрачно уселся назад на жёсткое сидение:
– Не домыслили! Оттого и ханство ты никогда не мог удержать, что ума твоего не хватало думать по-государственному!
Шах-Али в ответ на упрёк потупился, но обида обожгла всё его нутро. Если б мог, возразил бы Ивану, сказал, отчего не мог усидеть на казанском троне. Не потому, что не дошёл умом до управления страной, а оттого, что всегда был верен Москве до последнего. Но слова застряли в горле, да и не осмелился б никогда сказать правды.
– Оставим пушки, нечего порох с ядрами зазря тратить! – махнул царь рукой среди тягостного молчания. – Князьям Шуйскому, Горбатому, Серебряному и Воротынскому готовить полки к штурму. Покажем татарам доблесть воинскую.
Князь Бельский, возглавлявший Большой полк, осторожно заметил:
– Не отложить ли штурм на завтра, государь? Следует подготовить воинов и осадные лестницы.
– Лестниц хватает, – с раздражением отмахнулся от совета воеводы Иван Васильевич. – А на штурм идти сейчас, и сегодня же войти в Казань!
Царь вновь разгневался, кричал громко, махая руками, изо рта летели слюни, обрызгивали стоявших впереди военачальников, но те не отодвигались, так и стояли, вытянувшись. Все пережидали бурную вспышку. Наконец Иван IV бессильно откинулся на спинку трона, проговорил тихо, без эмоций:
– Ступайте все и добудьте мне победу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.