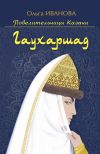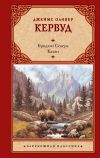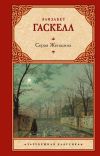Текст книги "Сююмбика"

Автор книги: Ольга Иванова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
Глава 23
После бегства крымцев в Казань вернулись прежние времена. Сын покойного карачи Булат-Ширина сорокалетний эмир Нур-Али возглавил казанский диван. Вместе с ним пришёл к власти и его друг по скитаниям оглан Худай-Кул. Первым решением нового дивана стала отправка посольства в крепость, возведённую на Круглой горе. Посольство возглавили сеид Кул-Шариф и сибирский эмир Бибарс Растов.
Хан Шах-Али и московские воеводы ожидали казанцев на берегу реки Зэи, которую московиты звали Свиягой. Позади воевод возвышались крепкие дубовые стены крепости, на стенах замерли стрельцы, вооружённые пищалями. Мрачно взирали послы на мощные укрепления, на городок, полный воинов, мастеровых и священников. Чтобы взять эту крепость, окружённую со всех сторон водой, сила нужна была великая. Понимали теперь казанцы, отчего проживавшие в этих местах горные люди покорно пришли на поклон к русскому царю. Так и они теперь шли поклониться ему, и одна только цель владела ими: не посредством войны, а языком дипломатии вернуть прежнюю свободу ханству, снять непосильную блокаду. О том и начал вести свои речи казанский сеид.
Хан Шах-Али украдкой разглядывал Кул-Шарифа. Духовный наставник казанцев оказался моложе всех предшественников, в чёрной ухоженной бородке даже седины не видно. Был он высок, крепок, прям станом, величием и спокойствием веяло от фигуры сеида, облачённой в белоснежный чапан с глухим воротом. На голове небольшая чалма, белая ткань намотана ровно, тщательно. И лицом Кул-Шариф привлекателен: умные тёмные глаза, прямой нос, твёрдый подбородок, строгие губы красивой формы. Когда сеид заговорил, Шах-Али поймал себя на том, что не слушает его речей, а заворожённо наблюдает, как спокойно и уверенно двигаются эти губы. Как, должно быть, любят Кул-Шарифа женщины! Поймал себя на греховных мыслях и нахмурился, для него, обиженного природой с детства, чужая мужская красота всегда казалась возмездием за неведомые провинности. Словно сам Всевышний указывал ему: «Вот каков ты мог быть!» А сеид Кул-Шариф, покончив с обычными приветствиями, приступил к главному:
– Бьёт челом великому царю и князю Ивану вся Земля Казанская. И просит она забыть наши ссоры и обиды, снять свой гнев с казанцев. Позволил бы нам великий государь, как прежде, плавать по нашим рекам, торговать купцам и ни в чём нужду не терпеть. А также просим мы дать нам в ханы Шах-Али, зовём его на престол наш и клянёмся верными ему быть, а также государю великому Ивану.
Подмигнул Шах-Али главный воевода Ивангорода Семён Микулинский: «Вон, мол, смотри, пришли всё ж казанские басурмане на поклон. Хоть и горды, а спину и им пришлось переломить!» Касимовский хан на этот взгляд и безмолвный диалог вдруг озлился, подумал с внезапной обидой за всех мусульман: «Веселишься, воевода, празднуешь победу?! Аль позабыл, как сотни лет ездили твои князья кланяться в Великую Орду, как платили ясак нашим дедам и прадедам?!» Подумал и тут же испугался, опустил взгляд, как бы не разглядел Микулинский опасный блеск в его глазах, не разгадал мятежных мыслей.
Послам предложили пожить в крепости, дождаться ответа. Долго томить не стали, на следующий же день пригласили в дом главного воеводы, там и объявили свои условия. Заключали русские с казанцами перемирие на двадцать дней, а за это время долженствовало решить всей Земле Казанской исполнить ли условия Москвы или жить по-прежнему запертыми от всего света. Предъявили послам и условия, показавшиеся на первый взгляд нетяжкими, и цена за спасение целого народа казалась не такой неподъёмной. Следовало казанцам выдать казанскую ханум Сююмбику вместе с малолетним ханом Утямышем, а также крымских жён и детей. Вторым пунктом исполнения условий шло освобождение всего русского полона. При согласии казанцев предлагалось послать в Москву посольство для заключения мирного договора.
Чёрным стал тот солнечный день для казанской ханум. Помнила она до последней минуты своей жизни, как ступил в её покои сеид Кул-Шариф, а с ним улу-карачи Нур-Али Ширинский. И объявили они Сююмбике об условиях царя, и просили от имени народа подчиниться воле Москвы ради мира и спокойствия Казанского ханства. Поднялась им навстречу госпожа, уронив с плеч воздушное покрывало, лишь промолвила побелевшими губами:
– Когда?
Отвёл взгляд сеид, и эмир Нур-Али опустил глаза. Не знали они, что ответить свергнутой повелительнице. Как пожелают русские воеводы, тогда и отправят они с почётом свой знатный выкуп за мир и покой в Казани.
Ушли вельможи, а Сююмбика толкнула дверцу в комнатушку Оянэ. Здесь вместе с её верной нянькой уже второй день пряталась от посторонних глаз молодая женщина по имени Айнур. Невестка бека Тенгри-Кула поселилась у неё с того момента, как сам бек и его сын мурза Данияр под покровом ночи умчались в Ногаи к её отцу. Сююмбика послала с ними письмо, в котором слёзно просила отца о помощи. Весь день молились женщины за успех посланцев ханум, не знали они, смогут ли пробиться сквозь мощные заслоны и заставы двое мужчин. Мысль найти хоть какое-нибудь средство, чтобы послать письмо к отцу в Сарайчик, зрела в голове ханум уже давно. Весточку написала она заранее, ещё до бегства крымцев, в ней заклинала отца прислать на подмогу ногайское войско. Знала, какая великая сила таится в необъятных степях Мангытского юрта, только бы собрать их всех вместе, сплотить! Обещала казанская повелительница наградить всех ногайских мурзабеков щедрой платой из казны, только б помогли избавиться от блокады, сковывавшей ханство по рукам и ногам. А коли смогли бы ногайцы снести дерзкую крепость Ивангород, возвысившуюся на Казанской Земле, тогда осталось бы только призвать турецкого султана и крымского хана заступиться за своих верных вассалов, не отдать правоверных на поругание гяурам. Письмо было написано на одном дыхании, но отправить его не представлялось возможным. После поездки в аул Ахмеда и ночного разговора с прорицателем она отважилась действовать одна. Долго решала ханум, кому из своих многочисленных подданных можно доверить столь важное и смертельно опасное дело, и остановилась Сююмбика на беке Тенгри-Куле, не нашла она никого честней, преданней и отважней, чем ханский улу-илчи.
Давно не виделась с беком казанская госпожа, поначалу, чтобы не возбуждать ненужной ревности в сердце Сафа-Гирея, а после не было случая свидеться. Все дела, связанные с перепиской и посольствами, вёл диван, и Сююмбика в эти вопросы не вмешивалась.
И вот вызванный бек явился к повелительнице. Она помнила каждое мгновение этой встречи, глядела на Тенгри-Кула, и громко стучало непокорное сердце. Должно быть, не зря ревность обуревала хана Сафу, этого мужчину она смогла бы полюбить так же, как когда-то полюбила молодого Гирея. Но сердце не умеет любить двух мужчин одновременно, она уже отдала свои лучшие чувства супругу, теперь ушедшему в мир иной. Память о нём помогла ей потушить огонь в своём взгляде. Тенгри-Кул был, как всегда, вежлив и почтителен и выглядел вполне счастливым человеком. Они долго говорили, и бек рассказал о волшебных переменах, произошедших в его жизни. Затаив дыхание, слушала Сююмбика историю любви юного Тенгри-Кула и базарной танцовщицы, и счастливое её завершение. Чем не поэма из тех, которыми была увлечена она? А после заговорила ханум о своих тревогах за Казань и маленького повелителя. Рассказала она и о прорицателе, о котором впервые услышала от самого бека Тенгри-Кула. Напоследок упомянула о послании, написанном беклярибеку Юсуфу.
– Если отец сможет отправить ногайцев, и тех наберётся не менее десяти тысяч, мы сможем действовать! Мы и сами воинов наберём, всем дадим оружие, кто в силах его держать.
Сююмбика говорила горячо, и бек согласно кивал головой. Ему ли, улу-илчи ханства, было не знать, в каком положении находится государство и как важна эта помощь извне. Поднявшись со своего места, Тенгри-Кул поклонился госпоже:
– Ханум, у вас есть выход, пошлите меня с сыном в Сарайчик.
С тревогой вглядывалась Сююмбика в спокойное лицо бека:
– Это очень опасно, Тенгри-Кул! Меньше всего хотелось бы рисковать вашей жизнью!
– Всё в воле Аллаха, госпожа, и иного пути я не вижу.
Теперь уж минул второй день, как её посланцы выехали из Казани, а в своих покоях ханум приютила молодую жену мурзы Данияра Айнур. В большом доме бека, кроме слуг, не оставалось никого, жёны Тенгри-Кула с его дочерьми и внуком давно уехали в имение. Айнур беспокоилась за них, переживала за сына Акморзу. В покоях ханум она играла с маленьким Утямышем, и слёзы наворачивались на глаза молодой женщины: «О, где моё сердечко, где Акморза?!» Оянэ, сочувствуя, утешала Айнур:
– В аулах живётся легче, чем в столице, там всегда найдётся пища, и приход войск не так страшен – можно укрыться в лесах. Родная земля всегда сокроет и поможет детям своим. Молись, красавица, и Всевышний дарует тебе скорую встречу с мужем и сыном!
И молодая женщина молилась, но тревога не отпускала её сердца, а вскоре к ней прибавилось гнетущее предчувствие беды. Пришло оно с благочестивым сеидом и сиятельным улу-карачи, когда принесли они чёрный приказ для ханум. Какой мусульманской женщине были бы непонятны боль и тоска, охватившие казанскую госпожу? Не по потерянной власти убивалась она, а страшилась тех испытаний, которые ожидали её с сыном в Москве. Что будет в гяурском плену с их душами, какому насилию подвергнется их вера? Но ныне не властны стали они над судьбой и могли лишь молиться, уповая на Всевышнего, и ждать вестей из Сарайчика.
На следующее утро столицу покинуло посольство во главе с мурзой Енбарсом Растовым, сыном эмира Бибарса. Посольство везло челобитную русскому царю о согласии казанцев со всеми условиями Москвы.
Глава 24
В крепости Ивангорода главный воевода Микулинский читал челобитную казанцев: «Царю, государю великому, князю Всея Руси Ивану Васильевичу Худай-Кул-оглан и эмир Нур-Али, и вся Земля Казанская, муллы и сеиды, шейхи, шейх-заде, мол-заде, имамы, азии, абызы, эмиры и огланы, и казаки, и чуваши, и черемисы, и мордва, тебе, государю, челом бьёт. Просим, чтобы государь пожаловал милостью своей, гнев свой отдал, а дал бы на ханство Шах-Али. А Утямыш-Гирея хана вместе с матерью его взял бы к себе, а также жён и детей крымцев. А полону русскому дали бы мы волю, как он того велел…»
Воевода Микулинский челобитной остался доволен, и в тот же час дал в сопровождении посольству дьяка Губина и отпустил казанцев в Москву.
Пришёл день торжества для Шах-Али – указом царя Ивана IV хан утверждался на казанском троне. Но радость нового повелителя омрачилась заявлением царского дьяка, Шах-Али давалась в управление лишь Луговая сторона и Арская земля.
– А Горная сторона, – гнусаво зачитывал дьяк царскую грамоту, – ныне принадлежит Москве, так как государь великий Иван Васильевич взял её божьей милостью ещё до казанского челобитья.
Возражений новоиспечённого правителя не приняли, воеводы на его протесты лишь отмахнулись:
– Что государю Бог пожаловал, того не отдадим! А ты, Шах-Али, правь тем, что тебе дадено, и смирись, помолясь. Куш-то получил немалый!
В холодное ветреное утро прибывали в Ивангород представители Земли Казанской для подписания договора. Казанцы ступали с шаткого струга на твёрдую сушу, ёжились, кутаясь в роскошные одежды. Неуютным выдался последний летний месяц, впору было рядиться не в парчу и бархат, а в сукно да меха. Впереди шли эмир Бибарс Растов и мулла Касим, за ними ещё десять человек шейхов и мурз, посланных казанцами. Московские воеводы во главе с Шах-Али выступали навстречу. Здесь же, на берегу реки, новый повелитель зачитал грамоту русского государя.
Тяжкое молчание воцарилось вокруг, казалось, казанцы не верили своим ушам, верно ли они расслышали новое условие Москвы. Первым нарушил гнетущую тишину эмир Бибарс. Выступив вперёд, мудрый эмир заговорил:
– Как же так, благородные воеводы, как же так, пресветлый хан? Посылали мы по вашей просьбе к трону царя сына моего мурзу Енбарса послом. И привёз он нам подписанную грамоту о том, что вся Казанская Земля соглашалась исполнить. Отдаём мы вам и хана нашего малолетнего, и ханум, отдаём жён, детей крымских. И как желали вы, выдаём полон русский. Но не можете вы забрать земли, которые всегда нашими были и принадлежали отцам и дедам нашим. Не бывать тому, не можем мы с тем согласиться. Не простит нам того народ казанский!
Вспыхнули при последних словах эмира русские воеводы, шагнули вперёд, сжимая рукояти сабель. Подобрались и казанцы, враждебный огонь загорелся в их глазах. Но раскинул руки вставший между ними Шах-Али, словно сдерживал и одну и другую сторону, и сказал с укором казанцам:
– Не будем затевать свары на берегу. Пойдёмте в боярские хоромы, там и будем решать дело.
Спор продолжился в большом воеводском доме. Казанцы горячились, повышали голос и не соглашались отдать Горную сторону русскому царю. Шах-Али в ответ грозился прекратить переговоры и отправить на столицу войска московитов. К вечеру, когда накал страстей грозил закончиться кровью, встал со своего места мулла Касим. Уважаем был мулла во всей Казани, оттого и умолкли распалившиеся вельможи, уселись обратно по своим местам. А мулла взглянул прямо в глаза русским воеводам и сказал лишь одно:
– То, в чём с государём согласились в Москве, подпишем без промедления! А о Горной стороне не нам решать, пусть на то будет решение всей Земли Казанской. Просим время, почтенные воеводы, чтобы собрать курултай. На большом курултае весь казанский народ и решит, быть ли ханству нашему разделённым.
Как бы ни хотелось воеводам настоять на своём, но нашли они это решение в сложившейся обстановке верным. Дали казанцам на созыв курултая четыре дня, и место назначили в устье Казанки на границе спорной земли. Но ещё до курултая приказали отправить в Ивангород малолетнего хана Утямыша, его мать, двух сыновей оглана Кучука и сына оглана Ак-Мухаммада.
Сююмбика-ханум прощалась с дворцом. Она шествовала по переходам гарема, по Тронному залу, сидела, печальная, в покоях повелителя, где всё ещё так живо напоминало ей о муже. Здесь, в ханских покоях, куда она не пустила за собой никого: ни бесконечно плачущего Джафара, ни верную старую няньку, легла она навзничь, раскинув руки на шёлковом, расшитом золотым шитьём покрывале. Холодный шёлк успокаивал горевшие от слёз щёки, и она лежала так и думала о своём или вспоминала прошлое. В голове беспорядочным хороводом крутились мысли, а самая настойчивая была одна: «Где тумены отца? Почему до сих пор нет никаких известий от бека Тенгри-Кула?» Она понимала, не так уж много времени прошло и, если даже придут на помощь ногайцы, её, Сююмбики, здесь уже не будет. Но теплилась крохотным огоньком в груди надежда, ведь не должны её повезти сразу в Москву. Привезут воеводы своих пленников в крепость на Зэе, а сколько они там пробудут, одному Всевышнему известно. Для неё же сейчас каждый час задержки казался спасением, и не только для неё, для всего Казанского ханства. Слышала она, с чем вернулись послы из Ивангорода, Казань кипела возмущением! Разве можно, вынув сердце из груди, разорвать его пополам и заставить снова биться? Никогда не стать стране прежней, если пала она на колени, так и будет вечно кланяться. О! Тяжкие мысли, каким непосильным грузом ложатся они на сердце, которое и так кровью обливается. «Где же ты, отец?! Где же твои воины?!»
Казанские эмиры явились за ними на следующее утро. Свергнутая повелительница уже ждала их. Снова были на госпоже строгие одежды, скромные украшения, в руках сердоликовые чётки, на невысоком уборе укреплено тёмное покрывало. Пятилетнего сына Утямыша ханум держала за руку. Мальчик, одетый в тёплый казакин, с чёрной такьёй на голове гордо взирал на бывших своих подданных. Тайком дивились мурзы и карачи, как похож на покойного хана: тот же непреклонный серый взгляд, овал лица, губы. О Аллах! Только Ему, Всевышнему, известно, будь этот мальчик лет на пятнадцать старше, может и не пришлось бы вести сейчас унизительные переговоры с Москвой. Сююмбику с сыном повели вниз, а за ними шли Оянэ, Айнур, главный евнух Джафар-ага, прислужницы и гаремные аги. Шли все, чьи сердца закаменели от боли и слёз. Они шли провожать свою госпожу в последний путь по казанской земле.
На Ханском дворе знатных пленников ожидали эмир Костров, хаджи Али-Мерден и русский князь Пётр Серебряный. Князь Пётр провёл бессонную ночь. Сначала переписывали с дьяками всё добро, принадлежавшее ханум и маленькому Утямышу, затем перевозили всё это на струги, ожидавшие на реке. К утру добром доверху наполнили двенадцать струг. Дьяк Ходков мечтательно произнёс, взирая на это великолепие:
– А какова сама ханская казна, ежели только ханум таким огромным богатством владела?
– Молчи, дьяк, – сердито прошипел князь Серебряный. – Придёт время, и до казны доберёмся. Сокровища, слышал я, там несметные! А пока дай срок воеводам, и довершат они своё дело.
Теперь князь с нетерпением ожидал одного – скорей забрать казанскую царицу с сыном, да и отчалить к Ивангороду. Однако, как увидал князь Пётр печальную женщину, спускавшуюся под плач слуг с широких дворцовых ступеней, то ощутил внезапную жалость к царице. Он сошёл с коня и почтительно протянул руку Сююмбике, желая помочь ей взойти в кибитку. Но сверкнула ханум на Серебряного строгим взглядом и оборотилась к толпе эмиров и мурз. Среди вельмож, прячущих глаза и опускавших головы, нашла она Кул-Шарифа и только к нему обратилась, поклонившись:
– Позвольте, светлейший сеид, проститься мне с мужем моим.
Служитель Аллаха не вынес молящего блеска женских глаз, перевёл царскому слуга просьбу госпожи.
– Как же иначе, – отвечал князь. – И у нас, православных, так повелось, если уезжаешь в чужие края, попрощайся с могилами своих близких.
С Ханского двора процессия двинулась к возвышавшейся над крепостью остроконечной башне и белокаменному тюрбе, раскинувшемуся у её подножья.
Глава 25
Перед самым входом в усыпальницу князь Серебряный остановил Сююмбику. Он вынул из рукава помятый свиток со следами запёкшейся крови:
– Вижу, тешишь ты себя, царица, ненужными надеждами, не желаешь смириться с судьбой своей горькой. А она тебя давно настигла! Вот, возьми, это просил передать хан Шах-Али. Споймали, царица, твоих гонцов, не хотели они сдаваться, потому и нашли смертушку там же. А грамотку тебе возвращаем, будешь плакать на могиле мужа и об этом заодно поплачь.
Стиснула ханум крепко зубы, чтобы не забиться, не закричать перед слугой царя на радость и потеху его стрельцам. Отшатнулась она от своего тюремщика, кинула взор на застывшую неподалёку Айнур. По ледяному, неподвижному взгляду молодой женщины поняла Сююмбика, что увидела супруга Данияра окровавленный свиток и догадалась обо всём. Ни слова не говоря, шагнула ханум к Айнур, сжала в своей ладони её похолодевшую руку и повела за собой в усыпальницу. Не посмел вмешаться и отказать в этом князь Серебряный, отошёл в сторону. Он поглаживал стройную шею своего коня и поглядывал тревожно на всё увеличивавшуюся толпу казанских жителей.
Оказавшись в прохладном полумраке усыпальницы, Сююмбика почувствовала, что силы покинули её, и ноги ослабли. Упала она на колени перед беломраморным надгробием, под которым покоился её любимый супруг. Последние надежды, что жили в душе и давали силы, рассыпались в прах от нескольких слов князя-московита. Не придёт к ней на помощь отец, далеки дорогие сердцу ногайские степи, не узнают лихие джигиты Мангытского юрта, как ждала их помощи кыр карысы[150]150
Кыр карысы – (манг.) дочь степей.
[Закрыть]. Забилась Сююмбика в горьком плаче:
– О! Мой господин! Муж мой, Сафа! Почему ты покинул нас так рано? Отчего оставил нас, сирот, на растерзание диким зверям? Отчего терпим мы теперь унижения и бесчестье от врагов наших? Один Всевышний знает, что ждёт твоего сына и вдову в далёкой Москве, может, пытки, смерть, а может и худшее из наказаний, если отберут у нас нашу веру!
Долго кричала и билась о холодные равнодушные камни свергнутая ханум. За её спиною на коленях стояла Айнур, молилась и падала ниц, ведя свой разговор с Аллахом. Она не плакала и не кричала, потухший взгляд не отрывался от измятого окровавленного свитка, упавшего к подножью надгробной плиты. Айнур совсем недавно прятала эту весточку ханум на груди любимого мужа Данияра, и сейчас помнила она прощальный поцелуй его горячих губ, помнила, как крепко сжал мурза свою любимую в последних объятьях. Поняла она лишь сейчас, что за зловещие предчувствия одолевали её – нет больше на свете Данияра! И не найти даже камня, над которым она могла бы поплакать. Пелена непролитых слёз застилала прекрасные глаза Айнур, и казалось ей, что уже никогда не смогут извергнуться эти слёзы, и вечно будет стоять в груди жёсткий холодный ком – не выдохнуть, не произнести ни слова. Но она всё же поднялась вслед за ханум, поклонилась надгробным плитам и отправилась к выходу, где её ожидала госпожа. Айнур поразил вид Сююмбики. Женщина, которая мгновение назад убивалась на могиле своего мужа и исходила слезами горького, безутешного плача, сейчас высоко держала гордую голову, словно непокорным видом своим желала напугать всех врагов и недругов. В полном молчании обе женщины шагнули из тюрбе.
Площадь уже переполнилась народом, стояли они, молчаливые, скорбные, и свергнутая ханум в полной тишине, воцарившейся вокруг, окидывала взглядом колыхавшееся море людских голов. Она шагнула навстречу своему народу, низко склонилась, отдавая своим поклоном дань уважения и любви всем, пришедшим проводить её. Толпа сдвинулась, извергла из груди единый вздох и опустилась на колени перед своей госпожой. А Сююмбика уже склонялась перед сеидом и словно не замечала ни толпившихся вокруг эмиров, ни подбиравшегося к ней князя Серебряного:
– Позвольте, светлейший сеид, подняться в последний раз на башню, проститься с любимым городом.
Кул-Шариф не отводил от спокойного лица госпожи проницательных глаз, что-то в её спокойствии настораживало и пугало его, но не смог он отказать в смиренной просьбе, только кивнул головой.
Крутая винтовая лестница показалась ослабевшей Сююмбике непреодолимой преградой, но она упорно поднималась по ней, опираясь о холодные равнодушные стены. За своей спиной слышала измученное дыхание Айнур. Верхней площадки обе достигли почти одновременно, без сил упали на каменный пол, хватая пересохшим ртом воздух и не отрывая друг от друга глаз. Но вот уже не так сильно стало стучать сердце, и горячая кровь перестала шуметь в ушах.
– Ханум, – прошептала Айнур, – что вы задумали, госпожа?
Одинокая слезинка скатилась по бледной щеке Сююмбики:
– Я хотела взглянуть последний раз на свою Казань… отсюда, с высоты птичьего полёта.
– И я тоже хочу взглянуть на неё в последний раз, – тихо промолвила Айнур.
Ханум поднялась, цепляясь за проём стрельчатого окна:
– Но ты остаёшься здесь, моя девочка, никто не заставляет тебя покидать свой город.
Печально покачала головой Айнур, встала у другого окна. Ветер трепал широкие рукава голубого кулмэка, сверкала под солнечным лучом оторочка из драгоценных камней. В этой безумной погоне за своей госпожой Айнур потеряла калфак, и только шёлковое покрывало каким-то чудом удержалось на плечах. Обернувшись, долго смотрела вдова молодого мурзы на свою ханум:
– Нет мне больше места в этом городе, и не нужна жизнь без моего Данияра, – прошептала она и шагнула вниз из окна…
Дикий, безумный крик вырвался из груди Сююмбики, подхваченный многоголосым воплем на площади. Вцепившись в кирпичный проём похолодевшими руками, склонилась казанская госпожа вниз. Там, у подножья башни, раскинув руки, лежала сломанная женская фигурка, а лёгкий ветерок, играючи, опускал на неё парившее в воздухе тонкое покрывало. Слёзы оставили ханум, хотелось кричать и плакать, но опустошённое сердце молчало, словно вытекла из него вся кровь до последней капли. Только билась в теряющем сознание мозгу одна мысль: «Как просто! Как это просто – надо сделать одно движение, и все страдания останутся позади». Словно со стороны ощущала она, как разжимаются пальцы, до того крепко держащиеся за кирпичи проёма. Ещё мгновение и…
– Мама! – этот плачущий детский голосок вырвал её из оцепенения, в каком она находилась на грани между жизнью и смертью.
Обернувшись, увидела Сююмбика рядом маленького сына.
– Утямыш! – казалось, не она, а само сердце выкрикнуло.
Долгожданные слёзы хлынули из глаз. Рыдая, несчастная мать сжала в объятьях сына. Как он мог оказаться здесь в тот самый момент, когда она прощалась с жизнью? Именно он, единственное существо во всём мире, которое могло вырвать её из рук смерти, заставить жить. А на лестнице уже раздавались торопливые шаги, слышались тревожные голоса. На площадку ворвались князь Серебряный и эмир Костров.
– Слава тебе, Господи! – побледневший русский князь осенил себя крестом. – Я уже боялся, что возьмёшь ты на свою душу, царица, смертный грех самоубийства. Ну, а коли всё обошлось, то и хорошо.
Слабой рукой отёрла госпожа заплаканное лицо, протянула руку своему сыну и ласково произнесла:
– Утямыш, радость моя, вытри слёзы. Помни, сынок, что ты потомок Гиреев и Идегея. Никто, кроме матери, не должен видеть твоей слабости.
Мальчик послушно кивнул, вложил горячую ладошку в руку ханум.
Их дорога до самых ворот, где ждали кибитки, походила на тернистый путь мучеников. Жители Казани с криками и плачем провожали свою любимую госпожу. Прибежавшие из ближайших слобод кузнецы и гончары в спешке даже не сняли своих алъяпкычей[151]151
Алъяпкыч – мужской или женский фартук, обязательный атрибут рабочей одежды.
[Закрыть], застывшие комки глины и чёрная окалина сыпались с них, но они этого не замечали. Здесь оказались не все, кто собрался на площади, многие посчитали, что ханум покончила собой, кинулись на русских стрельцов и эмирских казаков, не пускавших их к башне. Людей оттеснили, в ход пошли нагайки и древки копий, большую часть толпы погнали в предместье, а то и прочь из города. Это в устах бежавших тогда родилась легенда о казанской царице, не пожелавшей сдаться на милость русскому царю и окропившей своей кровью камни у подножья башни, названной позже башней Сююмбики.
А та, кому суждено было стать легендой, поклонилась перед тем, как взойти в кибитку, в последний раз. Кланялась она родной земле и народу, который любила так же горячо, как и он любил её. В толпе плакали, не стесняясь, и мужчины, и женщины. Единый неумолчный плач стоял над городом. Пожилая женщина, прорвавшись сквозь заслон стрельцов, упала в ноги Сююмбике, целовала подол её платья и кричала:
– О ханум! Простите нас, простите!
Прижимая к себе сына, Сююмбика смотрела на едва сдерживаемых воинами казанцев. Всей своей истерзанной душой ощущала она горячие волны любви, которые исходили от этих простых людей, искренне винивших себя в её несчастье. Люди были бесконечно благодарны госпоже за её жертву, которую она приносила ради спасения Казани и всего ханства. Но это не уменьшало горечи невосполнимой потери, и не проходило ощущение, словно все они – маленькие дети, заплутавшие в коварной тьме и потерявшие свою мать…
Уже на струге, когда за излучиной реки скрылась Казань, Сююмбика уронила лицо в стиснутое ладонями покрывало. Перед её взором над свинцово-серыми равнодушными водами Итиля встал образ старика-прорицателя, который печально качал головой: «То, чему суждено быть, близко и неминуемо».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.