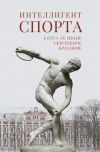Текст книги "И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата"

Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 58 страниц)
1 В комментарии к изданию Вяземского в 3-м издании «Библиотеки поэта» (1986) цитата из этого письма на с. 492 искажена опечаткой. Следует читать: «Эта песня может служить антидотом <а не «антиподом!» для страждущих тоскою по отчизне».
2 В указанном издании К.А. Кумпан дает явно сомнительное чтение: полн он. В качестве источника текста указан автограф; но в предыдущем издании «Библиотеки поэта» (1958) Л.Я. Гинзбург печатала, также по автографу: полон; так и в авторитетном тексте в архиве братьев Тургеневых (см. изд. 1986 года, с. 427).
3 О датировке см. Акад. 21 (2004). С. 504–505-
4 Ср. в «лицейской годовщине», также с коннотатами вакхического веселья, радости и чествования: «Вот вижу вас, вот милых обнимаю» («19 октября 1825»).
Позднее, во вторых (черновых) «Воспоминаниях в Царском Селе», с возвращением к «богам и героям»: «Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев, / Перун кагульских берегов. / Вот, вот могучий вождь полунощного флага <…>. Вот верный брат его <…>. Вот наваринский Ганнибал».
5 Акад. 21. С. 507.
6 Напротив, в воспоминаниях М.П. Погодина, сформировавшегося и как историк, и как писатель в эпоху Жуковского и Пушкина, – в известном описании авторского чтения «Бориса Годунова» естественным образом воспроизведена цитата из «Торжества Вакха» (восходящая к «Вакханке» Батюшкова): «„Эван, эвое, дайте чаши!“ Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь» (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 37).
В «Торжестве Вакха» цитируемая строка и три следующие использованы трижды, т. е. составляют подобие рефрена, хотя эти повторы следуют после отрезков текста неравного объема.
3
Позиция Пушкина по «польскому вопросу» с равной решительностью высказана в стихотворных текстах (начиная с незаконченного стихотворения «Графу Олизару», 1824) и письмах, прежде всего к Е.М. Хитрово, с 9 декабря 1830 года, когда поэт узнал из присланных ею французских газет о восстании (Ноябрьском, как называют его в Польше). Манифест Николая I о «польском возмущении» последовал 12 декабря. «Известие о польском восстании меня совершенно потрясло» («перевернуло», как переводит Б.Л. Модзалевский), – говорится в этом первом письме, и здесь же, не дожидаясь развития событий, Пушкин дает уверенный прогноз, основанный на давно (по меньшей мере с «Заметок по русской истории», 1822) установившихся воззрениях: «Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены, и таким образом ничего из того, что сделал Александр, не останется, так как ничто не основано на действительных интересах России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта и т. д….» Через два месяца (в письме, датируемом: не позднее 9 февраля 1831 года) он выразил суть своих взглядов переиначенным на злобу дня латинским изречением: «delenda est Varsovia».
В.А. Францев полагал, что эта парафраза, как и цитата из Вергилия в предыдущем письме (от 21 января) тому же адресату, – лишь «крылатые слова, подсказанные школьными воспоминаниями» и употребленные так же, как «Vale, sed delenda est censura» в письме Гнедичу от 13 мая 1823 года1. Но если фраза о цензуре – это обычное в дружеском литературном кругу фрондерское бонмо, то мрачная острота о Варшаве в высшей степени концептуальна, а в синхронном политическом контексте воспроизводит и последовательно продолжает карамзинскую трактовку проблемы, заостряя ее сообразно новым обстоятельствам2. «Право меча» (ср., конечно, в «Бородинской годовщине»: «Кому венец – мечу иль крику?»), государственно-историческое «право завоевания», которое Карамзин защищал перед Александром I, выступая против «восстановления Польши», – все это Пушкин выразил афористически.
Интересно, что, конструируя афоризм, он опирался на яростного критика карамзинской «Истории» – М.Ф. Орлова. По сути «польского вопроса» у Орлова не было расхождений с Карамзиным, но его, как известно, разочаровал недостаток «пристрастия к отечеству» («Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином?»), отсутствие в «Истории» гипотезы «древнего нашего величия» и, наоборот, включение в нее сведений, которые могут быть истолкованы в пользу поляков. В письме к П.А. Вяземскому от 4 июля 1818 года Орлов писал, в частности: «Да зачем же он <Карамзин> дает Киеву польское происхождение? Правда: это не простительно в нынешних обстоятельствах, когда каждый россиянин должен с римским мужем заключать всякую речь свою сими словами: Delenda est Carthago»3.
Пушкин, который резко отрицательно отнесся к критике Орловым «Истории», особенно по поводу «гипотезы», через 13 лет, даже и стилистически, последовал его рекомендации. Поскольку «римский муж» (Катон Старший) прославился присоединением любимого лозунга ко «всякой речи своей», Пушкин позаботился о подобном же эффекте: высказавшись о польских делах, он перешел к литературным – подхватил предложенную адресатом тему (реакция на недавно вышедшего отдельным изданием «Бориса Годунова»), а в последней фразе письма опять переключился на поляков. Начало фразы: «Но в этом мире есть только удача и неудача» – несомненно, относится и к частной жизни, включая профессиональный успех или неуспех писателя, и к историческим перипетиям (ср. эпиграф к «Полтаве» из «Мазепы» Байрона: «Мощь и слава войны, / Как и люди, их суетные поклонники, / Перешли на сторону торжествующего царя» [сентенция восходит к «Истории Карла XII» Вольтера]) – об этом же говорится в стихах «Графу Олизару» и «Клеветникам России». Между частным человеком и властителем та разница, что второй не должен руководствоваться чувствами, в том числе и благородными. Поэтому Карамзин в беседе с царем 17 октября 1819 года («с глазу на глаз, пять часов, от осьми до часу за полночь»), когда он зачитал ему свою записку о Польше, убеждал Александра, что альтруистический, с точки зрения имперских интересов России, замысел «восстановления Польши» диктуется «тщеславием, осуждаемым самою человеческою политикою»4. Это же имел в виду Пушкин, говоря о «соображениях личного тщеславия, театрального эффекта». Аналогично, но более мягко по отношению к царю (что понятно в последекабрьском контексте) судил Орлов в 1835 году, т. е. уже имея возможность указать в подтверждение этим взглядам на опыт польского восстания: «Восстановление Польши могло быть прекрасным движением души Александра; но в смысле историческом – это была огромная ошибка <.. > он увлекся ложным великодушием <…>. Он посеял ветры, а преемник его пожинал бурю»5.
В этой точке мнения троих сошлись. Отсюда и разительное совпадение разновременных высказываний Орлова и Пушкина6.
Примечания1 Францев В.А. Пушкин и польское восстание 1830–1831 гг.: Опыт исторического комментария к стихотворениям «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» // Пушкинский сборник. Прага, 1929. Отд. оттиск. С. 31.
2 Сопоставление позиций Пушкина и Карамзина по «польскому вопросу»: Березкина С. В. Суворовская военная кампания 1794 года в творческих откликах Пушкина // Русская литература. 2007. № 2. С. 30–32.
3 Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма / Изд. подгот. С.Я. Боровой и М.И. Гиллельсон. М., 1963. С. бо. Пушкин в автобиографических записках полемически пересказывает (и полемически же упоминает в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях») пассаж о «гипотезе», ссылаясь на письмо Орлова к Вяземскому.
4 Цит. по: Погодин М. Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Ч. II. С. 239, 240.
5 Орлов М.Ф. Указ. соч. С. 33. Об истории «польского вопроса» в Александровскую эпоху см.: Парсамов B.C. Декабристы и французский либерализм. М., 2001. С. 56–87.
6 Более туго поддается объяснению (вернее, упирается в необходимость все новых реконструкций) другой эпизод. Наряду с письмами об «Истории» Карамзина около 1820 года получили известность еще два небольших рукописных сочинения Орлова – письма к Д.П. Бутурлину о книге последнего «Военная история походов россиян в XVIII столетии» (СПб., 1819). В письме от 20 декабря 1820 года говорится: «Россия подобится исполину ужасной силы и величины, изнемогающему от тяжкой внутренней болезни» (Орлов М.Ф. Указ. соч. С. 64). Эта фраза восходит, вероятно, к библеизму колосс на глиняных ногах (Даниил 2, 31–34). Бескомпромиссный антиполонизм Орлова исключал, казалось бы, прямое сближение его в глазах Пушкина с «легкоязычными витиями», которых имела в виду «Бородинская годовщина»: «<…> Еще ли росс / Больной расслабленный колосс?» Авторский курсив указывает на чужую речь, приведенную здесь как некоторое общее место. Оно применялось к России европейской мыслью от Дидро и Сегюра (этот материал зафиксирован в словаре Ашукиных) на протяжении XIX века, включая сюда и французских парламентариев времени польского восстания. Орлов мог воспользоваться каким-либо фрагментом этой западной характеристики России, поместив ее в рамки декабристского дискурса, сосредоточенного в целом на двойном внутреннем недуге своей страны – крепостном праве («рабстве») и самодержавном устройстве власти. Здесь мы сталкиваемся с неразрешимым, по сути дела, вопросом: мог ли Пушкин, хотя бы окказионально, отождествить радикалов начала 20-х годов с внешнеполитическими оппонентами России начала 30-х, какими он их себе представлял (явно преувеличивая и враждебность вообще и особенно готовность к действиям ради Польши)? Помочь пониманию могло бы конкретное (и не психологическое!) истолкование известной фразы Пушкина в письме к жене от 11 мая 1836 года: «Орлов умный человек и очень добрый малый, но до него я как-то не охотник по старым нашим отношениям» – однако мы лучше представляем «старые отношения» (см.: Немиовский И.В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб., 2003. Гл. I–II), чем то, что именно разделяло Пушкина и Орлова к концу жизни поэта.
4
Одна из заметок А.А. Ахматовой о Пушкине посвящена его мысли о «смелых выражениях». Ахматова цитирует «Материалы к „Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям“»: «Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму преисподней». Затем она отсылает к Вольтеру (комментаторам не удалось раскрыть эту отсылку), а далее приводит примеры «истинной смелости самого Пушкина»: «великолепный мрак чужого сада» (у Ахматовой здесь записаны только первые два слова) из «В начале жизни школу помню я…» и «сумрак ваш священный» из «Воспоминаний в Царском Селе», 18291, где читается: «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный / Вхожу с поникшею главой».
В русской поэзии «смелость» Мильтона (или сходные построения; посредствующие звенья – отдельный вопрос) неоднократно воспроизводилась. Например: «И ангел мира освещает / Пред ним густую смерти мглу» (Карамзин. Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости, 1794);
«Надгробный факел мой лишь мраки освещает…» (Батюшков. Из греческой антологии, 1; 1820)2.
У выделенных Ахматовой синтагм мрак сада, сумрак сада обнаруживается прецедент (в этом случае можно достаточно уверенно говорить об авторитетности его для Пушкина) в поэме Баратынского «Пиры»(182о): «В углу безвестном Петрограда, / В тени древес, во мраке сада, / Тот домик помните ль, друзья, / Где наша верная семья, / Оставя скуку за порогом, / Соединялась в шумный круг / И без чинов с румяным богом / <ср. выше: «О бог стола, о добрый Ком»> Делила радостный досуг?»
Сразу далее, по контрасту с тенью и сумраком, нагнетается светлое, яркое, блестящее (в предметных и метафорических значениях), как бы мотивированное «румяным богом»: «<…> вино сверкало,/ Сверкали блестки острых слов, / И веки сердце проживало / В немного пламенных часов3. <.. > Его <Аи> звездящаяся влага / Недаром взоры веселит <.. >. Светлела мрачная мечта». «Певец пиров» (как он назван в «Евгении Онегине», з, XXX) предвосхитил в этой ранней поэме топику и риторику пушкинских «лицейских годовщин»: «Сберемтесь дружеской толпой / Под мирный кров домашней сени: / Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой, / Мой брат по музам и по лени, / Ты, Пушкин наш <…>» (ср. в «19 октября 1825» обращение к Кюхельбекеру: «Мой брат родной по музе, по судьбам») – и, что не менее важно для позднего Пушкина (о котором говорит Ахматова), соединил эпикурейский антураж с темой потомственного дома, дающего человеку живое ощущение прошлого, исторического и родового: «Дубравой темной осененный, / Родной отцам моих отцов, / Мой дом, свидетель двух веков, / Поникнул кровлею смиренной»4.
Таков был более близкий, чем из Мильтона, пример «смелости» – у Баратынского.
Примечания1 Герштейн Э.Г., Вацуро В.Э. Заметки А.А. Ахматовой о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л., 1972. С. 32–33.0 соответствующем фрагменте Мильтона («знаменитый оксюморон „darkness visible"» в «Потерянном рае») см. в статье В.Д. Рака об английском поэте и восприятии его Пушкиным: Пушкин: Исследования и материалы. СПб., 2004. Т. 18–19: Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 204.
2 Ср.: «И пусть случайно оживит / Он <счастья будущего сон> сердце радостью мгновенной – / То в бездне луч уединенной: / Он только бездну озарит» (Жуковский. Эпимесид, пер. из Парни, 1813).
3 Ср. далее стихи, которые Пушкин намечал использовать в качестве эпиграфов в «Евгении Онегине»: «Собранье пламенных замет / Богатой жизни юных лет». Они отразились в концовке посвящения к роману. Из «Пиров» же, как известно, – один из эпиграфов к 7-й главе.
4 Ср. в «Стансах» («Судьбой наложенные цепи…»), близко к мотиву сумрачного сада: «И скромный дом в садовой чаще – / Приют младенческих годов». В «сумраке дубравы» таятся музы, см. «Лиде» («Твой детский вызов мне приятен…») – мотив, по-видимому, соотнесенный с мраком сада, где пируют поэты.
Александр Грибанов
Заметки к статье Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пушкина»
Эту интереснейшую статью я прочел в конце 70-х годов в английском переводе. Когда первое ощущение изумления притупилось, проснулось желание «придираться». С годами изумление не исчезло, а желание «придираться» отложилось в этих заметках.
В статье 1937 года Якобсон выбрал для анализа главным образом сюжеты трех пушкинских произведений: «Медный всадник», «Сказка о золотом петушке» и «Каменный гость»1. Свой анализ он снабдил подробной сводкой всех упоминаний «статуи» (или ее аналогов) в лирических стихотворениях и перечнем пушкинских рисунков с изображением статуй. Естественно, Якобсон не забыл и упоминаний «статуй» в пушкинской переписке.
Вспомним общую схему, извлеченную Якобсоном из трех текстов.
1. Усталый, смирившийся человек мечтает о покое, и этот мотив переплетается со стремлением к женщине…
2. Статуя, вернее, существо, неразрывно связанное с этой статуей, обладает сверхъестественной, непостижимой властью над желанной женщиной…
3. После безуспешного бунта человек гибнет в результате вмешательства статуи, которая чудесным образом приходит в движение; женщина исчезает…
При первом приближении из трех выбранных текстов лишь один («Каменный гость») вроде бы соответствует якобсоновской схеме (потому этот текст и окажется в центре данных заметок). В «Медном всаднике» статуя Петра не обладает властью над желанной женщиной2: связь между Парашей и памятником Фальконета представляется более опосредованной и сложной. В частности, легко заметить, что водная стихия, действительно погубившая невесту Евгения, угрожает и самому Петру, и его творению:
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!
В «Сказке о золотом петушке» не то что петушок, даже звездочет не обладает властью над шемаханской царицей; его право на нее мотивировано «контрактом», обещанием Дадона, а обещание это – в свою очередь – могло быть сформулировано совершенно иначе.
Существенно, что каждый пушкинский герой, оппонирующий статуе, описан у Якобсона как «усталый смирившийся человек». Про Евгения справедливей было бы сказать «смиренный»; усталость как мотив, связанный с образом Евгения, не акцентирована. Назвать Дон Гуана «смирившимся и усталым» можно только при глубоком отвлечении от сцены у Лауры. Да и при «осаде» донны Анны герой маленькой трагедии проявляет незаурядную энергию.
В «Каменном госте» схема Якобсона работает, но работает лишь отчасти, поскольку власть командора над донной Анной несколько раз акцентируется в контексте обычая, а не в контексте чего-то «сверхъестественного». «Сверхъестественное» скорее увязывается с роковым движением статуи в «Медном всаднике» и «Каменном госте», а сказочно-лубочная тональность «Сказки о золотом петушке» вообще снимает вопрос о причинах смерти Дадона3.
Непредвиденным обстоятельством становится и то, что поневоле читателю приходится сопоставлять не только «статуи» в трех пушкинских текстах, но и тех героев, что бросают статуям вызов. И здесь сразу очевидно, что троица Евгений – Дон Гуан – Дадон ни в какую последовательность не укладывается, даже если описывать ее, следуя за Якобсоном, в таких терминах: «усталый смирившийся человек…» (в случае с Дон Гуаном усилие особенно заметно).
И тем не менее схема Якобсона все же «держится», то есть у нее просматриваются основания, не вполне очевидные на уровне поверхностного прочтения.
Донжуановский сюжет привлекал, как известно, многих авторов и до и после Пушкина. Первым из них был испанский драматург Тирсо де Молина: к его пьесе «Севильский озорник, или Каменный гость» (изд. 1630) восходят – так или иначе – почти все разработки сюжета. Вопрос о функции статуи в пьесе Тирсо возникал (и не раз) в контексте широкой темы источников донжуановского сюжета. Уже в начале 1900-х годов Виктор Саид Арместо установил, что художественная инициатива Тирсо де Молина заключалась в том, что он сплавил в одном сюжете, в одном драматическом тексте, мотивы и темы, заимствованные из двух фольклорных массивов4. Один был связан с оскорблением мертвых/предков. Второй – с образом «озорника» или «охальника» (испанское слово burlador гораздо весомее и резче, нежели устоявшийся в русском переводе названия – «озорник»). Совершенно отчетливо такая постановка вопроса прозвучала и в позднейшей работе американской исследовательницы Дороти Э. Маккей5. Если Саид Арместо выявил широкий круг фольклорных текстов, бытовавших на испанском языке, то Маккей, опираясь на его опыт, проделала дополнительную работу и выявила фольклорные источники в средневековых латинских текстах, в славянских памятниках, в германском фольклоре, в скандинавском фольклоре и в фольклоре романских стран.
Комплекс мотивов, сгруппированных вокруг оскорбления мертвых или предков, Маккей назвала «двойным приглашением». Она указывала на то, что неизменным компонентом фольклорных текстов является в обязательной последовательности: сначала вызывающее приглашение персонажа-грешника, обращенное к покойнику / его черепу / его надгробному изображению, а затем – ответное приглашение – герою, которое оказывается приглашением в преисподнюю.
У Пушкина тема «двойного приглашения» разработана не только в «Каменном госте», но и в «Гробовщике». Последний факт отмечен у Якобсона. Он особо останавливается на переходе «от ужаса чудовищ к ужасу статуй» и в этом контексте упоминает, что «в пушкинской гротескной повести „Гробовщик“, законченной в Болдине двумя месяцами раньше „Каменного гостя“, осмеиваются старомодные фантастические картины ужасных трупов и комически предваряется сюжетное ядро столкновения Дон Гуана с каменным гостем (курсив мой. – А.Г.)»6. Другими словами, в плане сюжетного скелета «Гробовщик» вполне вписывается в тот круг текстов, который формируется на базе «двойного приглашения», а в «Каменном госте» Пушкин – следуя примеру Тирсо де Молина – комбинирует сюжет «двойного приглашения» с центральным образом «озорника/охальника». В «Гробовщике» роковой момент связан с оксюморонным предложением Юрко-чухонца: «Пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Фраза эта получает определенное развитие в решении Адриана Прохорова: «А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных». Таким образом имплицитно вводится оппозиция «своих» покойников – чужим (Юрко и остальные гости соседа-немца противопоставлены «православным»).
Пушкин, однако, постарался уйти от непосредственной разработки мотивов «двойного приглашения». В двух текстах, «Медном всаднике» и «Гробовщике», развязки сдвинуты в область патологии (безумие Евгения) или в зону гротескного сна Адриана Прохорова. В «Сказке о золотом петушке» и «Каменном госте» условный характер жанров снимает самую возможность реалистической разработки сюжетных развязок. Отметим также, что невнятная угроза Евгения (знаменитое «ужо тебе!..») никак не может сравняться с приглашением на ужин.
Удивительно, что в поле зрения Якобсона не попали два обстоятельства. Во-первых, что сюжет оживающей статуи был хорошо известен Пушкину по Овидиевым «Метаморфозам». Скульптор Пигмалион создает статую прекрасной девушки, потом страстно влюбляется в нее и молит богов даровать ей жизнь; в финале истории статуя оживает. Пигмалионовский сюжет вошел в «Метаморфозы» (книга X, стихи 243–299). О том, какую важную роль в поэтическом мире Пушкина играл Овидий, написано довольно много7. В заметке «Опровержение на критики» Пушкин вспоминает Овидия и его сюжеты как образец поэтического вдохновения. Едва ли не первым вспомнился Пушкину сюжет Пигмалиона. Заметка написана в Болдине, осенью 1830 года: «.. .Habent sua fata libelli.„Полтава“ не имела успеха. <…> [Л]юбовь есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте. Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филиру, Пазифаю, Пигмалиона – и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии…» Эти слова почти полностью повторены в заметке «Возражение критикам „Полтавы“»8. Как объяснить: почему мифологический комплекс «статуи» – так, как он развит в статье Якобсона, – возникает в полном отвлечении от столь важного для Пушкина образца, как Овидий?
Во-вторых, должно указать на тексты уже не далекого предшественника, но значимого для Пушкина современника. Речь идет о новеллах Проспера Мериме «Души чистилища» (1834) и «Венера Илльская» (1837)9. Обратившись в «Душах чистилища» к сюжету Дон Жуана, Мериме выбрал иной, чем Пушкин, его извод: «.. нетрудно <.. > по крайней мере различать двух: дона Хуана Тенорио, который, как всем известно, был отправлен на тот свет статуей, и дона Хуана де Маранья, кончина которого была совсем иною. Жизнь обоих рассказывается сходным образом; лишь развязка их отличает»10. Действительно, основная часть повести посвящена житию великого грешника, но отличается в нисходящей линии: герой по дороге к очередному бесчестью видит похоронную процессию, спрашивает, кого хоронят, и слышит в ответ собственное имя. Он теряет сознание, а когда приходит в себя, раскаивается в преступлениях и становится монахом, выполняя самые суровые обеты. Тем не менее его ждет еще одно испытание: к нему является один из тех, чью семью он когда-то погубил, и вынуждает героя драться на дуэли. Дон Хуан де Маранья убивает противника, снова кается, снова старается замолить грехи и умирает в полном смирении. Испанская фольклорная традиция хорошо знает этот извод сюжета11.
Если «Души чистилища» перекликаются с «Каменным гостем», то у «Венеры Илльской» нет сюжетного аналога в творчестве Пушкина. В этой повести рассказчик инспектирует древности на юге Франции. Археолог-любитель принимает рассказчика, чтобы показать недавно выкопанную медную статую Венеры. Параллельно в доме идет подготовка к свадьбе сына хозяина и прелестной девушки. Накануне свадьбы жених отличается в игре в мяч, но ему мешает обручальное кольцо, которое приготовлено для невесты. Он надевает кольцо на палец медной Венеры. Когда после игры жених пытается снять кольцо, Венера его не отдает: она согнула палец. В первую брачную ночь статуя богини любви приходит в спальню новобрачных и душит жениха в объятиях.
Есть некоторый соблазн соотнести зловещий образ медной Венеры с пушкинским образом богини любви в стихотворении «В начале жизни школу помню я…» (1830):
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.
Безвестных наслаждений ранний голод
Меня терзал – уныние и лень
Меня сковали – тщетно был я молод.
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.
«Женообразный, сладострастный» кумир – это, конечно, Венера, причем предсказывающая во многом Венеру Илльскую Мериме. В якобсоновском каталоге «статуй» у Пушкина стихотворение «В начале жизни школу помню я…», естественно, отмечено, но оно не вызвало у исследователя никаких ассоциаций с повестью Мериме. Между тем и у Пушкина, и у Мериме исподволь обыгрывается мотив внутренней связи каждой из Венер с миром язычества (бес, волшебный демон, лживый, но прекрасный – у Пушкина, идол – многократно повторенное определение – у Мериме12). Отметим, что в других случаях пушкинские Венеры даются в шутливо беззаботной интонации и без акцентировки губительной связи с грозным миром язычества13.
Есть еще одна тема, которой Якобсон касается лишь бегло: «Три произведения о губительных статуях сходны между собой и в ряде второстепенных деталей; так, например, в каждом из них разными средствами, но с одинаковой настойчивостью подчеркивается тот факт, что действие происходит в столице. В самом начале пьесы Дон Гуан восклицает:
…Ах, наконец
Достигли мы ворот Мадрита!..
…Только б
Не встретился мне сам король.
«„Медный всадник“ начинается с гимна столичному „граду Петрову^ а в „Сказке о золотом петушке“ несколько раз упоминается тот факт, что действие происходит в столице..»14 Если «столица» – рамка «статуй», рассматриваемых Якобсоном, то следовало бы посмотреть, что стало такой рамкой для остальных «статуй» у Пушкина. Чаще всего это «сад» и главным образом – Царскосельский парк («Воспоминания в Царском Селе», 1814; «Воспоминания в Царском Селе», 1828; «Царскосельская статуя»15,1830; «В начале жизни школу помню я…»). Если же это не Царское Село, то контекстом становится обобщенный образ Италии, описанной как наследница Рима («Кто знает край…», 1827; «Везувий зев открыл…», 1834). В других случаях контекстуальными становятся отчетливые указания на культурное пространство рубежа XVIII–XIX веков. Так организовано стихотворение «К вельможе» (1830):
Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне…
Разнообразие контекстов подсказывает, что внутри мифологемы «статуя» (словесные ее выражения – «статуя», «истукан», «кумир», «памятник») у Пушкина есть своя иерархия, своя структура. Якобсон и сам вводит некоторое подразделение, когда говорит: «Ожившая статуя в противоположность призраку является орудием злой магии, она несет разрушение и никогда не является воплощением женщины»16. Так исподволь вводится дифференциация единого мифологического поля на «мужские» и «женские» статуи. Архитектурно-парковая рамка вмещает у Пушкина те и другие. Здесь вполне отчетливо ощутима культурная специфика XVIII столетия. Л.В. Пумпянский по этому поводу писал: «…весь европейский классицизм проархитектурен, так сказать, насквозь»17.
Однако у Пушкина есть стихотворный текст, где вводится еще одно подразделение внутри мифологемы. Это – «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836), где упоминается «александрийский столп». Пумпянский замечал:
«Вознесся выше он главою непокорной» = altius (слово из Горациева «Exegi mon-umentum». – А.Г.), т. е. теме превосходства: итак, и тема долговечности (2) и превосходства (3).
Ст. 4. («Александрийского столпа»). Вместо пирамид (у Горация именно «пирамиды», pyramid altius. – Л.Г.) неожиданно петербургская колонна!.. Пушкин <…> спор делает национальным, оспаривает достоинство своей же Империи, ее столицы и ее главного исторического дела 1812 г. <… > как будто Пушкин хочет отделить свое бессмертие от возможной смертности Российской империи…18
Здесь важно, что внутри ряда «статуй» поздний Пушкин вводит еще одну градацию: рукотворных и нерукотворных памятников. Все «скульптурные» примеры, что упоминались раньше, попадают в разряд «рукотворных». Внутренняя энергия строк «Памятника» указывает, что для позднего Пушкина в оппозиции словесного искусства – искусствам визуального ряда поэзия получает неоспоримые преимущества. Причем ожившие «статуи», равно как и прежде вызывавшие восхищение статуи героев неизбежно – в силу исторических и культурных факторов – приурочены к комплексу «империи», а сквозь мощное целое империи просматриваются ее неизбежно языческие основания. Последнее отчетливо видно в «Медном всаднике», отчасти – в «Каменном госте», но также и в «царскосельских» текстах.
Вернемся к сюжетной схеме, извлеченной Якобсоном из трех пушкинских текстов. В ней мы не находим того узла, который явно доминирует в фольклорных текстах, обнаруженных Саидом Арместо и Дороти Маккей, а именно – «двойного приглашения». Между тем «двойное приглашение» присутствует, без сомнения, в «Каменном госте»; в ослабленной форме – в «Медном всаднике» («„Добро, строитель чудотворный! / Шепнул он, злобно задрожав, – / Ужо тебе!..“ И вдруг стремглав / Бежать пустился»). Почти нет следов этого сюжетного хода в «Сказке о золотом петушке». Различия очевидны: в «Каменном госте» Дон Гуан, в полном согласии с драматической традицией, сознательно бросает вызов статуе командора; приглашение памятнику на ужин – прямой вызов. Поведение героя точно соответствует жанру трагедии. В «Медном всаднике» находим лишь мимолетный, еле слышный намек на вызов (знаменательно, что Евгений, сразу же вслед за «ужо тебе», «стремглав бежать пустился»). Панический страх героя здесь – следствие того, что он понимает: его слова могут быть поняты как вызов. В «Сказке о золотом петушке» если какой-то вызов и есть, то этот вызов дурацкий и дурашливый. Дадон не понимает, что он делает, а потому и конец его дается у Пушкина в обычном для сказок чуть ли не шутливом тоне. Трагической интонации «Каменного гостя» и высокой поэзии «Медного всадника» здесь соответствует лубочно-комический регистр.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.