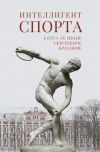Текст книги "И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата"

Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 58 страниц)
Примечания
1 О жизни Дево между 1839 и 1847 годами известно мало: в 1842–1843 годах он жил в Севастополе (где содержал французский пансион) и Одессе, затем пару лет провел в Копенгагене, а в 1846-м, после смерти жены, вернулся в Париж.
2 Слово novateur во французском языке начиная с конца XVIII века обозначало не только человека, обновляющего некую сферу деятельности, но и дерзкого революционера.
3 Возмущение Дево тем более понятно, что ему самому параллель Николай/Наполеон казалась и уместной, и лестной. В поэме «Нева», которую он сочинил летом 1839 года на борту корабля, везшего его в Россию, а опубликовал в 1847-м [Mosaïque: 311–326), он устами Невы излагает трагедию Бонапарта, который с вершины пирамид провозгласил, что весь мир в его руках, но потерпел поражение в России. Драму и душу Наполеона, замечает Дево, способен понять и разгадать только один человек – Николай. Восхваления Наполеона в поэме 1839 года носили вполне конъюнктурный характер: она была написана накануне венчания великой княжны Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским, внуком «соратника корсиканца, соучастника его триумфов» Евгения де Богарне; этот брак в поэме «Нева» радостно предвкушают две колонны: Вандомская (воздвигнутая Наполеоном в Париже) и Александровская (воздвигнутая Николаем в Петербурге).
4 В такой не вполне тривиальной форме Дево в очередной раз вводит многократно повторяемую в поэме и весьма традиционную мысль об огромной протяженности России. Вообще петровские преобразования вдохновляют Дево на самые оригинальные метафоры: рассуждая о том, что Россия еще не созрела для либеральных идей, он напоминает о «сверхчеловеческих усилиях, которые пришлось приложить Петру для того, чтобы окунуть своих подданных в купель цивилизации» [Mosaïque: 130], а госпоже де Сталь приписывает отсутствующую у нее фразу: «Петр Первый поместил свою нацию в теплицу и взрастил ее на пару» [Mosaïque: 146]; у Сталь речь идет о том, что в России в теплицах выращивают фрукты и цветы [Сталь: 206].
5 Дево приводит в пользу императора и аргумент психологического свойства: в бытность свою великим князем Николай был не слишком общителен, особенно с подобострастными вельможами, но держался просто и великодушно, а переход из состояния великого князя в положение императора, как бы стремительно он ни совершился, не может «полностью переменить человека и превратить ягненка в тигра» [Mosaïque: 139].
6 Дево был архаичен не только в понимании словесности как способа снискать благосклонность царя; архаична и сама его манера письма с пространными «научно-популярными» примечаниями, в которых излагается информация, не вместившаяся в стихи (та самая манера, которую пародировал Пушкин в примечаниях к «Евгению Онегину»): если в тексте «Николаиды» упоминаются «дети Тироля», то в подстрочном примечании разъясняется: «12 певцов, явившихся из Инсбрука»; если в тексте назван Фридрих, то в примечании уточняется: «брат короля Вюртембергского»; имя Бабёфа также снабжено пояснением: «Бабёф, который кончил жизнь на эшафоте, проповедовал аграрный закон и эгалитаризм». Сходным образом в поэме «Нева» Дево поясняет не только реалии («И чудом города пред нею вырастали» – «намек на путешествие Екатерины Великой в Тавриду»), но и собственные образы (к строкам: «Вовек Востока сказкам фантастичным / Сокровищ стольких не родить» сделана сноска: «Здесь хотели намекнуть на роскошные празднества, описанные в сказках „Тысячи и одной ночи“»).
7 Намек на описанную Кюстином в его «России в 1839 году» перемену взглядов: уехав из Франции убежденным противником конституционной монархии, он возвратился из России ее сторонником.
8 Из письма Л.В. Дубельта С.С. Уварову от 13 июня 1844 года по поводу опровержения на книгу Кюстина, сочиненного М.А. Волковым; см.: [Мильчина: 269].
9 За год до появления «Николаиды» в Париже вышла французская брошюра П.А. Вяземского «Пожар Зимнего дворца»; Вяземский упоминает в ней мятеж, разразившийся у порога дворца и подавленный императором; хотя рассказ Вяземского более чем лестен для Николая («…даже побежденные бунтовщики
признали его императором – императором не только по праву, ибо право было на его стороне, – но и на деле» [Wiazem-ski: 9-10]), из русского перевода брошюры (Московские ведомости. 1838. 20 апреля) этот фрагмент был исключен. Даже труд благонамеренного Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» предназначался исключительно для членов правящей династии в качестве ее «семейной тайны», напечатан же был в 1857 году в связи с особыми обстоятельствами – возвращением декабристов из ссылки; см.: [Рудницкая, Тартаковский: 15–24].
10 В этом он, впрочем, порой и сам отдавал себе отчет. Изложив один свой утопический проект (создать в Петербурге национальную гвардию из постоянно проживающих здесь иностранцев – чтобы они поддерживали порядок в том случае, если всех военных отправят защищать границу), он тотчас прибавляет: «Конечно, это все пустые мечты, потому что никогда местные жители не поручат чужестранцам охрану своих жизней и своей собственности. Если я высказываю здесь эту мысль, то лишь для того, чтобы доказать, что нет такого вздора, который не может взбрести на ум человеку» [Mosaïque: 302], – редкий, и не только у Дево-Сен-Феликса, пример самокритичности и здравомыслия.
Литература
Ацаркина / Ацаркина Э.Н. Александр Осипович Орловский, 1777–1832. М., 1971.
Дарнтон / Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002.
Мильчина / Мильчина В.А. Россия и Франция: Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб., 2004.
Мильчина, Осповат / Мильчина В.А., Осповат А.Л. Комментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» // Кюстин А. де. Россия в 1839 году: Дополнительный том. СПб., 2008.
Рудницкая, Тартаковский / Рудницкая Е.Л., Тартаковский А.Г. Вольная русская печать и книга барона Корфа //
14 декабря 1825 и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа). М., 1994.
Сталь / Сталь Ж. де. Десять лет в изгнании. М., 2003.
Mazon / MazonA. Deux Russes écrivains français. Paris, 1964.
Mosaïque / Desvaux-Saint-FélixF.-M. Russie et Pologne. Mosaïque historique, politique, littéraire et anecdotique. Paris, 1847.
La Nicolaïde / Desvaux-Saint-Félix F.M. La Nicolaïde, ou Le Tsar et la Russie. Paris, 1839.
Wiazemski / Wiazemski P. Incendie du Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg. Paris, 1838.
Александр Ильин-Томич
Еще раз о доносе 1840 года на М.П. Погодина
Документ, на который нам хотелось бы обратить внимание читателя, нельзя назвать неизвестным: около половины его текста уже побывало в печати1. Тем не менее новое обращение к нему, как кажется, не вовсе лишено смысла. Приведем полный текст заинтересовавшего нас доноса в сопровождении трех служебных писем, составляющих вместе с ним дело III Отделения на восьми листах «По слуху, о назначении будто бы Профессора Московского университета Погодина наставником к Их Императорским Высочествам»2.
<Н.А. Кашинцев – Л.В. Дубельту>
Собственно для сведения Леонтия Васильевича
весьма секретное
Здесь всех благонамеренных людей чрезмерно изумляет слух будто Профессор Московского Университета Михаил Погодин берется в наставники Истории к Его Высочеству Великому Князю Константину Николаевичу. Этот слух делает весьма грустное впечатление, от него плодятся следующие толки: «как мало в С. Петербурге знают людей, к чему же после этого Жандармы, когда не охраняют Дом Царской от входа в него, а еще дают входить в него таким пресмыкающимся безнравственным людям, каков Погодин. Кто его не знает? Спросите об нем встречного и поперечного – это просто каналья без правил без чести». – Тут с омерзением припоминают целой анекдот, рассказ о котором я и не могу себе позволить облечь в форму докладной записки по гадости его содержания: что он в издании Московского Вестника обсчитал покойного Пушкина, участвовавшего в этом журнале, что Пушкин заставил его за то угрозами сделать по крайней мере богатой обед за украденные барыши; приехал на обед с своими приятелями, на котором пропели Погодину ругательные, просто матерные куплеты, повалили Погодина на пол, дергали за руки и за ноги, за лице так, чтоб был открыт рот, и каждой гость садился ему на лице и стрелял из задницы прямо в рот Погодина, который просил пощады от такой дружеской шутки. —
О Погодине должен много знать подробностей Полевой, теперь у Вас живущий. Пригласите его к себе, он верно Вам многое расскажет, и Вы тотчас увидите, что дело и что не дело. Грустно что в слухах о назначении Погодина удивляются Жандармам, будто они или не знают или закрывают таких людей. —
Вот что я наскоро набросал на бумагу для отходящей почты. Вчерась и Генерал Цынский сказал, что у него есть секретные сведения о слухах, удивился и обещал мне сообщить для доставления к Вам.
Здесь приписывают рекомендацию Погодина Жуковскому и крепко бранят последнего, выражаясь: как ему не стыдно для воспитания Царских детей подставлять таких людей, и что он сам обманывается по чистой душе своей делаемыми ему в Москве угощениями. У Погодина же есть хитрая манера даже и тех, кои до смерти своей презирали его, после смерти их показывать себя приверженцем их: так, например, он вмешивался в похороны покойного известного Профессора Мерзлякова. По получении известия о смерти Пушкина подбивал здешних Литераторов служить торжественную Панихиду в Симонове монастыре, но Архимандрит отказался а сказал, что, если угодно, то может отслужить чередной иеромонах, по каком усопшем будет угодно. —
Сделайте милость, я вполне уверен, что Вы извлекши из сей несвязной писульки, что найдете дельным, ее изорвете чтоб этого как нибудь не узнал Жуковский.
Но, например, спросите секретно о Погодине мнения у Ректора здешнего Университета3, у Обер-Полицеймейстера4, кажется можно сделать выправки о имевшихся за ним наблюдениях. Помнится из воспитанников (коих он имел против дозволения иметь оных Профессору в доме своем5) был когда-то брат по какому-то политическому делу при Генерале Лесовском6, некто Топорнин или Топорников7. Одним словом, взятие Погодина в наставники к детям Царским произведет печальное на умы впечатление, о чем и не может остановиться весьма секретно доложить Вам пламенное усердие верноподданного к благодатному Священному Дому Царскому. —
Погодин выехал в С. Петербург 23 февраля8.
Москва
1 марта 1840.
<Граф А.Х. Бенкендорф – Ф.П. Литке9
(отпуск исходящего письма),
Контр Адмиралу Литке.
№ 1181
7 Марта 1840
Секретно.
Получив из Москвы сведения о разнесшемся там слухе что Профессор Московского Университета Погодин выехал 23го минувшего февраля в С. Петербург, с тем чтоб поступить в наставники к их Имп. Высочествам Великим Князьям, я обращаюсь к В. Преву с покорнейшею просьбою почтить меня уведомлением: основательны ли означенные сведения, ибо я имел повод сомневаться в избрании Погодина в столь важное звание, полагаю, что он сам мог распустить о сем слух. В случае же что действительно на него пал выбор в наставники к Его Высочеству то я покорнейше прошу Вас М. Г. приостановиться определением его Погодина до получения от меня подробных о нем сведений.
С соверш. почт, и пред. и. ч. б.
В. Прева,
Подписано Гр. Бенкендорф Верно А. Галлер10
<Приписка сбоку: > Такого же содержания Ген. Майору Философову.
№ 1182. / № 432.
<Ф.П. Литке – графу А.Х. Бенкендорфу>
<Входящий> № 820 / № 2022
<Входящая дата:> 9 Марта 1840
Сиятельнейший Граф
Милостивый Государь!
Милостивый Государь!
На предписание Вашего Сиятельства относительно Профессора Погодина имею честь ответствовать: что слух о назначении его в наставники к их Императорским Высочествам, сколько мне известно, ни малейшего основания не имеет. По крайней мере относительно Его высочества Генерал-Адмирала11, слух сей совершенно ложен.
С глубочайшим почтением и совершенною преданностию имею честь
быть
Милостивый Государь
Вашего Сиятельства
Покорнейший и послушный слуга
Ф. Литке
Марта 8 дня 1840
Его Сиятву Графу
А. X. Бенкендорфу
<А.И. Философов – графу А.Х. Бенкендорфу>
<Входящий> № 821/№ 2023
<Входящая дата:> 9 марта 1840.
Милостивый государь,
Граф Александр Христофорович!
На предписание вашего Сиятельства, вчера мною полученное, относительно определения наставника к Их Императорским Высочествам Государям Великим Князьям Николаю и Михаилу Николаевичам профессора Московского Университета Погодина, имею честь почтительнейше донести, что о таковом определении я никогда не помышлял, и ни от кого не случалось мне слышать, чтобы г. Погодин, был человек способный к занятию какого либо места при Их Высочествах.
С глубочайшим
С глубочайшим высокопочитанием и таковою же преданностию имею честь быть милостивый государь вашего Сиятельства покорнейший слуга Алексей Философов Iй С. Петербург Марта 8го дня 1840го.
Его Сиятельству Графу А. X. Бенкендорфу.
<Граф А.Х. Бенкендорф – Н.А. Кашинцеву
(отпуск исходящего письма),
№ 499.
Камер-Юнкеру
Кашинцову
№ 1339.
14. Марта 1840.
Собрав по сообщенным мне Вами слухам насчет назначения Профессора Погодина наставникам к Их Императорским Высочествам справки, я удостоверился, что о таковом назначении не было и предположения.
Уведомляя о сем Вас, М. Г., покорнейше прошу Вас узнать и сообщить мне, из какого источника разнеслись означенные слухи.
С соверш. почт, и пред. и. ч. б.
Вашим, М. Г.
Подпис. Гр. Бенкендорф
Верно: А. Галлер
Полный текст заведенного в III Отделении дела мы привели, разумеется, не ради малоаппетитного фабулезного эпизода, вызвавшего приступ археографического академизма у первого публикатора12. (Здесь мало нового: семью годами позже доноситель украсил этим же анекдотом – почти в тех же выражениях – другое сочинение, в пушкинской своей части давно напечатанное13.) И не ради некоторых мелких (хотя и небезынтересных) подробностей. Главное не в этом. Чтение доноса в отрывках создавало ощущение необязательного курьезного бреда, порожденного не очень образованным и не очень осведомленным человеком. Полный текст, вполне подкрепляя представление о личности автора, заставляет переменить взгляд на самое произведение, в котором теперь видно достаточно сконцентрированное авторское усилие, заметны цельность и целенаправленность концепции. Сообщены все известные сочинителю слухи (то, что известно ему не слишком много, – это другой вопрос), из многочисленных недоброжелателей Погодина тщательно отобраны те, кто способен вызвать доверие у адресата (Л.М. Цынский, М.Т. Каченовский, Н.А. Полевой), и на них даны ссылки как на потенциальные источники дополнительных сведений. Если начальство последует этим рекомендациям и обратится к указанным источникам, на Погодина гарантированно прольются дополнительные ушаты грязи, подтверждая и расцвечивая данные доноса. Перед нами вовсе не бред, а обстоятельно подготовленная атака. Что же касается некоторой бессвязной мозаичности изложения, то ею отмечены все написанные по служебной надобности тексты Н.А. Кашинцева, и это стилистическое своеобразие нисколько не мешало (если не помогало) их высокой востребованности на протяжении нескольких десятилетий14. Если бы творчество Кашинцева не устраивало начальников III Отделения, вряд ли бы одно только родство с Л.В. Дубельтом позволило ему столько лет занимать пост наблюдателя за периодическими изданиями в Москве15 – при всей стесненности штатов тайной полиции не справившемуся с работой родственнику можно было бы подыскать более спокойные занятия в более спокойном месте.
Через три года после рассматриваемого доноса на Погодина Кашинцеву самому довелось стать фигурантом разоблачительного донесения, излившегося из сердца И.В. Шервуда-Верного: «В Москве в окружном управлении корпуса жандармов всевозможные сделки делаются чрез адъютанта генерала Перфильева отличного афериста Волковского и чиновника Кашинцова, отношения Московского обер-полицмейстера Цынского с этими гг. слишком подозрительны, и действия их слиты, судя по действиям корпуса жандармов в двух столицах <…>». На эти обвинения Дубельт отозвался следующим образом: «На адъютанта Волковского действительно поступали жалобы, как на человека, занимающегося разными оборотами и не всегда честным образом, и за это он еще в декабре 1842 года удален из корпуса жандармов. Что же касается до Кашинцова, то сей чиновник находится в Москве только для надзора за выходящими там периодическими изданиями… и по самому значению своему не может иметь никакого влияния..»16 Заботливый Дубельт здесь явно принижает возможности своего подчиненного. Кашинцеву удавались достаточно сложные интриги. Например, он чрезвычайно ловко доставил деятельное покровительство гр. А.Х. Бенкендорфа своему приятелю Н.А. Полевому, бывшему в это время опальным издателем запрещенного журнала (в нужный момент вынул из портфеля и представил шефу благонамеренную статью гонимого журналиста, блестяще предугадав, что о том пойдет речь)17. В другой раз Кашинцев сумел организовать бумагу за подписью Бенкендорфа, решающую в пользу его очередного протеже одну долгую тяжбу, по которой к тому времени руководство III Отделения уже успело принять противоположное решение18. Да и покинув в 1850 году тайную полицию19, Кашинцев подтвердил, что секретные агенты бывшими не бывают: через него по-прежнему можно было решать вопросы в III Отделении20.
Н.А. Кашинцев называет свой донос «несвязной писулькой». Меж тем странная повествовательная логика нередко являлась лишь внешним проявлением стоящей перед автором необходимости, по собственным своим обстоятельствам, сказать нечто прямо к предмету сообщения не относящееся. В 1847 году, после открытия в Киеве Кирилло-Мефодиевского общества, Кашинцев получил от работодателя «заказ» на славянофилов: «обратить на сих людей особенное внимание и подробно донести для доклада его сиятельству, как о каждом из московских ученых и писателей, преданных славянству, так и о том, не соединяют ли они свои занятия с какими-либо политическими идеями»21. В потоке последовавших из Москвы донесений было и такое: «.. по славянофильству и как любителя древностей, говорят, Погодина посещают раскольники, что и вероятно, ибо есть давно уже слух об здешних славянофилах, что следуют древнему обычаю, сходятся на площади для прения о вере с начетчиками книг – раскольниками и толковали с ними в разных местах Федор Глинка, Хомяков и Аксаков и будто даже в костюме славянском; но как бывший обер-полицмейстер Цынский это только послышал, то толкователи и расточились и более в этих костюмах их не видали, а то бы Цынский их засадил под тем видом, что их будто счел за простолюдинов, ибо и в голову не может прийти, чтоб дворяне так были одеты»22. «Слухи устраивают некий „театр абсурда“», – восклицает современный исследователь В.А. Кошелев, познакомившись с этим сообщением23. Но Кашинцеву нет дела ни до сложных отношений Погодина и Глинки со славянофильством, ни до прочих подробностей. Ему необходимо сделать важный ход в очередной своей многоходовой комбинации – обратить внимание начальства на томящегося в отставке блестящего профессионала, владеющего оригинальными методиками и неустанно пекущегося о благе, и тем подготовить аудиторию к слезной мольбе по обер-полицмейстерскому поводу, долженствующей прозвучать в следующем году: «Батюшка, уладьте, чтобы Лужина хоть егермейстером сделали, но дайте на это место человека достойного: Ведь Лужина просто презирают…»24 То есть весь бессвязный лепет, неприятно поразивший В.А. Кошелева, переводится на русский язык очень просто: это просьба помочь вернуться Л.М. Цынскому, при котором взаимодействие московских силовых структур было исполнено высокой гармонии (не укрывшейся, как мы видели, от бдительного ока Шервуда-Верного).
Творческий метод Н.А. Кашинцева не позволяет искать в его сочинениях точного описания событий, но факт разговора о событии (пусть небывалом), факт слуха (пусть фантастического) передается им с надлежащей тщательностью. И существование слуха об определении Погодина в наставники к царским детям представляется нам вполне достоверным. Более того, было бы странно, если б подобный слух не возник. Еще в 1831 году Погодин сетовал, что его не приглашают в учителя к Наследнику, и обижался на Жуковского: «Не может сказать: вот кто имеет лучшее понятие об Истории, и кто должен учить Великаго Князя. Ну что же это за слабый характер» (III, 346–347). В 1837 году, по случаю прибытия Наследника в Москву, Погодин написал для него записку «О Москве» и напечатал ее в «Московских ведомостях»; Наследник побывал на лекции Погодина в Университете, а Погодин стал писать для него письма по русской истории (V, 1-11)25.
В середине 20-х годов Н.А. Кашинцев успел послужить чиновником особых поручений при А.Д. Балашове26 (некогда министре полиции Александра I). Эту службу мы вполне можем приравнять к окончанию полицейской академии. Мемуарист, находившийся при Балашове примерно в это же время, рассказывает, что последний «бывал весь в тайнах своего правления и предпочтения полицейского, тут у него нередко выходил на сцену даже Фуше с его проказами наполеоновскими; а подле Фуше становился Талейран с его взглядами на дело высокой полиции дипломатической, а еще полицейские выдумки и розыски англичан, или надумчивость немцев, словом то тех, то других народов, всякие полезные заметки во всех их видах бывалых и настоящих. Повторю: Балашев читал лекции ежедневно и сколько было тут любопытного! Не могу сказать, чтобы все наши полицейские служаки его понимали… Для них я нередко должен был действовать как словарь объяснительный!»27. Возможно, Кашинцев и использовал изысканный балашовский арсенал на службе III Отделению, но современники (для которых должность Кашинцева, разумеется, секрета не составляла) замечали лишь самые расхожие приемы. «Недавно провел я любопытных полтора часа в разговоре с Филаретом, – рассказывал в письме А.И. Тургенев, – но подслушивал нас Кашинцов, и я уверен, что перетолкует черт знает как»28. Трудно сказать, что именно означает смежность имен Погодина и Кашинцева, оказавшихся рядом в записной книжке Лермонтова, – бросившуюся в глаза поэту неразлучность московского наблюдателя и объекта наблюдения29 или же утечку из компетентных органов сведений о рассматриваемом нами доносе30. Мы, пожалуй, склоняемся к первому варианту, хотя утечки, безусловно, случались. Например, не исключено, что, несмотря на просьбу автора изорвать изучаемую нами бумагу, «чтоб этого как-нибудь не узнал Жуковский», последний все же получил некоторое представление о ее содержании. Когда через год Погодин поместил в «Москвитянине» описание обеда, данного москвичами Жуковскому, сила гнева поэта была, как нам кажется, не совсем сообразна с тяжестью проступка журналиста: «.. Статья ваша для меня весьма неприятна. Во-первых, в ней нет истины: меня здесь на руках не носят, никто не дает мне ни обедов, ни вечеров; я приехал сюда для своих родных и весьма мало разъезжаю. Зачем же представлен я таким жадным посетителем обедов и балов?» (VI, 21). Создается впечатление, что Жуковскому вспомнилась версия, согласно которой им в древней столице неустанно манипулируют, а он «обманывается по чистой душе своей делаемыми ему в Москве угощениями».
Мы затрудняемся выполнить в полном объеме так, кажется, и оставшуюся без ответа просьбу гр. А.Х. Бенкендорфа – «узнать и сообщить», «из какого источника разнеслись означенные слухи», но назвать ближайшего сотрудника Кашинцева по работе над доносом можем с легкостью. Это Николай Алексеевич Полевой, приехавший ненадолго в Москву в середине февраля 1840 года31. В частности, анекдот о Пушкине времен «Московского вестника» сообщен именно им. Практически дословно повторив свой рассказ спустя семь лет, Кашинцев снабдил его указанием на источник: «Думаю, что это знает Ксенофонт Полевой, живущий у Вас в Петербурге, хотя тут этот скромный человек без сомнения не участвовал»32 (напомним, что к 1847 году Н.А. Полевого уже не было на свете, и его брат превратился в единственного хранителя данной фольклорной традиции). В 1830 году распорядительное участие в похоронах А.Ф. Мерзлякова, кроме Погодина, приняли профессора Л.И. Цветаев и И.М. Снегирев (III, 171–175, 208–209). Последний мог, конечно, рассказать Кашинцеву о том, какое раздражение вызвала у него тогда погодинская активность, но не менее вероятно, что эти сведения шли снова через братьев Полевых, с которыми Снегирев издавна был хорош.
Кстати, вопрос о собственных взаимоотношениях Снегирева и Кашинцева33 также не лишен интереса. Без его более глубокой проработки мы не знаем, как относиться к гипотезе Ю.Г. Оксмана о том, что «Н.А. Кашинцев был, видимо, автором и секретной информации о С.Т. Аксакове и Н.И. Надеждине, писанной (осенью 1836 года?) со слов известного мракобеса профессора и цензора И.М. Снегирева»34. Исследователь имеет в виду весьма любопытный документ, отыскавшийся в бумагах одного чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе князе Д.В. Голицыне и начинающийся так: «Снегирев рассказывал, что в Москве существуют два тайных общества; в одном из них начальником профессор Давыдов, в другом Аксаков». В первое общество, как утверждается в документе, входил и Погодин, «который вывез из Германии множество запрещенных сочинений (в том числе адрес-календари лож). Для провоза их чрез таможню употреблено следующее средство: у запрещенной книги отрывается заглавный листок, а к ней переплетается заглавный листок книги, дозволенной правительством…» В заключение анонимный собеседник
Снегирева сообщает, что «Г.г. Полевой, книгопродавец Ширяев, содержатель Армянской типографии Краузе могут быть употреблены для узнания членов обществ и самой оных цели»35. Эти финальные указания (про Полевого мы уже говорили, а в гостях у Краузе состоялась одна из встреч Снегирева и Кашинцева в 1834 году) вкупе с фантастическим содержанием, казалось бы, поддерживают предположение Ю.Г. Оксмана, но довольно стройная логическая организация «изветов» вместе с их принадлежностью к генерал-губернаторскому (а не жандармскому) делопроизводству порождают определенные сомнения в авторстве Кашинцева36.
Как бы ни разрешили грядущие изыскатели вопрос о личности Эккермана при декламирующем свои изветы Снегиреве, не подлежит сомнению, что и без того имя Погодина под пером Кашинцева в родных преданиях прозвучало не единожды. Однако в разные периоды сила звука существенно различалась. Если в середине 40-х Погодин – едва ли не главный герой депеш, приходящих в III Отделение из Москвы, то десятилетием ранее – скромный участник массовки37. Документ, обсуждаемый в этих заметках, – по-видимому, первый развернутый, продуманный, тщательно подготовленный донос на Погодина за очень долгий период: ничего подобного (сколько об этом можно судить по доступным ныне материалам) не было со времени известных булгаринских нападений на издателя «Московского вестника» во второй половине 1820-х годов38. Отношение Н.А. Кашинцева к М.П. Погодину полностью определялось многолетней ненавистью, питаемой к последнему Н.А. Полевым; поэтические законы творчества Кашинцева позволяли ему прекрасно обходиться без актуальных внешних событий в жизни предоставленных его наблюдению и описанию москвичей. Что же мешало ему до 1 марта 1840 года, в пособие другу, наполнять страницы своих донесений сведениями государственной важности, подобными заструившимся с такой легкостью с его пера в 1847 году: «Помню, что покойный Каченовский, этот истинно во всем благонамеренный и ректор, и профессор, и осмотрительнейший цензор, еще прежде говаривал, что много дали воли таскаться по чужим краям Погодину, которого он называл шарлатаном и холопом по его свойствам и роду..»?39 Логично предположить, что в начале 1840 года произошло нечто, что позволило осведомленному и чутко реагирующему на политические изменения Кашинцеву сделать для себя вывод: «Теперь можно». Нам кажется, что это таинственное событие вполне выявляется при сравнении двух документов, представлявшихся III Отделением императору с разницей в год. В «Обозрении духа народного и разных частей государственного управления в 1838 году» деятельность Министерства народного просвещения описывается панегирически: «Сия отрасль государственного управления при неусыпных трудах нынешнего министра продолжает ознаменовывать себя особенною деятельностью. Каждый год являет новые заведения и новые улучшения»40. Следующий год (отчет о котором составлялся в начале интересующего нас 1840 года) новых улучшений уже не явил: «Нет никакого сомнения, что Уваров человек умный, способный, обладает энциклопедическими сведениями; но по характеру своему он не может никогда принести той пользы, которую можно было бы ожидать от его ума. Ненасытимое честолюбие, фанфаронство французское, отзывающееся XVIII веком, и непомерная гордость, основанная на эгоизме, вредят ему в общем мнении.
Прежние товарищи его Дашков, Блудов и другие никогда не оказывали ему уважения41; а между подчиненными утверждено мнение, что он готов пожертвовать каждым и всем для своего возвышения. Ни высшее общество, ни подчиненные, ни публика не верят ему, и это во многом парализует ход дел. Впрочем, Уваров старается единственно о том, чтобы наделать более шуму и накрыть каждое дело блистательным лаком. Отчеты его превосходно написаны, но не пользуются ни малейшей доверенностью. Это то же, что бюллетени Наполеоновской армии. <… > Ни один министр не действует так самовластно, как Уваров. У него беспрерывно в устах имя Государя, а между тем своими министерскими предписаниями он ослабил силу многих законов, утвержденных Высочайшею властью. Цензурный устав вовсе изменен предписаниями, и теперь ни литераторы, ни цензура не знают, чего держаться и чему следовать <…>»42. Прервем этот длинный список инвектив, чтобы заключить: ведомство Бенкендорфа оставило настороженный нейтралитет, который, перемежаясь с небольшими пограничными столкновениями, доминировал в отношениях с Министерством народного просвещения на протяжении второй половины 1830-х годов, и поднялось в решительную атаку на Уварова. И, соответственно, на уваровских паладинов, между коими Погодин с каждым днем занимал все более заметное место (V, 205–206, 224–225,330,382–388). Поздравляя 4 марта
1840 года Погодина с высочайшей наградой за представленный царю (пусть и в усеченном виде – в канцелярии министра вырезали все места, призывающие Россию изменить свой проавстрийский внешнеполитический курс в угоду идее славянского единства) отчет о заграничном путешествии 1839 года43, Уваров показал, что прекрасно понимает то положение, в котором оказался: «Я не скрывал от вас, как и от всякого Русского (разумеется, мыслящего), затруднения и борьбу, сопряженные с моим призванием; не скрывал и не буду скрывать, что в минуты усталости собственное самоотвержение не всегда является в виде успеха; но, уступая этому чувству, не уступлю никакому внешнему препятствию и буду до конца идти своим путем»44. Это уваровское понимание ситуации полезно и нам, ибо позволяет во многих странностях, сопровождавших ход журнала «Москвитянин» в первые годы издания, увидеть вместо хаотических судорог слабо соображающего государства энергичные столкновения двух центров власти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.