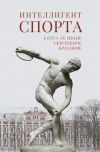Текст книги "И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата"

Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 58 страниц)
Как символист, как поэт, объясняющий человеческую душу образами, взятыми из природы, Тютчев много тоньше и безыскусственнее современных декадентов. Но как и они, он преимущественно индивидуалист, выражающий человеческую душу, и не свою только, а вообще душу, или, вернее, умеющий изображение своих индивидуальных ощущений сделать изображениями вообще человеческой души. В этом отношении Тютчев чрезвычайно близок к состоянию души современного человека, обратившегося от внешнего к внутреннему, следствием чего явился и своеобразный философский символизм, олицетворение качеств и настроений человека. Такого символизма не чужд Тютчев…
Критик признает, что «основные вопросы бытия», к которым обращалась мысль Тютчева, занимают и новейших символистов – Бальмонта и Брюсова, но последние не вызывают у него, как и у большинства представителей традиционных по тем временам литературных воззрений, сочувствия и доверия: современная поэзия утратила «определенную цель стремлений»,
творит не для вечности, как Тютчев, хотя и стремится писать для вечности. Пройдет исключительный момент, исключительное настроение, которым выдвинуты современные поэты символисты, и они сделаются непонятны, тогда как стихотворения Тютчева всё будут говорить человеческому сердцу, как они говорили уже около ста лет33.
Сами же символисты статей, приуроченных к юбилею своего «предтечи», не опубликовали. Объясняется это отчасти тем, что страницы широкой печати оставались тогда для большинства из них еще недоступными, отчасти, вероятно, и тем, что литераторы из модернистского стана не были расположены к «юбилейным» ритуалам как таковым. Приверженцы «нового» искусства предпочли откликнуться на столетие Тютчева не словами, произнесенными от своего имени, а литературным делом. За несколько месяцев до юбилейной даты в альманахе московских символистов «Северные цветы» были напечатаны по автографам стихотворение Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла…» (с прежде неизвестной строфой) и четверостишие «Нам не дано предугадать…», опубликованное тогда впервые; оба текста были, кроме того, воспроизведены факсимиле и сопровождались примечаниями В.Ф. Саводника, включившего в них и другие тютчевские стихотворения, не попавшие в последнее (1900) издание его сочинений или приводимые по не учтенным ранее источникам34. Ноябрьский номер религиозно-философского журнала «Новый путь», издававшегося под эгидой Д.С. Мережковского и его ближайшего литературного окружения, открывался рубрикой «К юбилею Ф.И. Тютчева»: были помещены портрет и факсимиле поэта, 12 стихотворений, не вошедших в его последнее собрание сочинений (в том числе переводы французских стихотворений, выполненные Фетом и Брюсовым), четыре записки Тютчева и статья В.Я. Брюсова «Легенда о Тютчеве»35. Последняя представляла собой опыт критического переосмысления «Биографии Федора Ивановича Тютчева» (1874) И.С. Аксакова – основного к тому времени свода сведений о жизни поэта. Расценивая эту книгу как «в своих биографических частях истинно художественное произведение», Брюсов в то же время заключает, что труд Аксакова – «не более как „легенда о Тютчеве“, красивая, увлекательная, но недостоверная»: «На долю современных биографов Тютчева выпадает неблагодарная задача заменить легенду историей. Им приходится блестящие краски превращать в более тусклые, исключительное сводить к более простому, в чудесном указывать естественное»36. Далее Брюсов, опираясь на факты и прибегая к логическим аргументам, корректирует и дезавуирует некоторые аксаковские «легенды» – о полном отчуждении Тютчева от России во время заграничной службы и о его пренебрежительном отношении к собственным стихам.
Брюсов начал серьезно изучать Тютчева с 1895 года, со времени выпуска первых сборников «Русские символисты», и продолжал эти занятия на протяжении всей последующей жизни37. К столетнему юбилею он опубликовал составленный им биографический очерк первой половины жизни и деятельности поэта – «Ф.И. Тютчев: Летопись его жизни»38. Вплоть до появления «Летописи жизни и творчества Ф.И. Тютчева» (1933), составленной другим представителем символистской школы, Г.И. Чулковым, работа Брюсова ничем более совершенным не была заменена и сохраняла свое значение. Как замечает современный биограф Тютчева, источниковедческая база, на которую мог в свое время опираться Брюсов, была невелика и недостаточно изучена, что «повлекло за собой ряд неточностей и даже прямых ошибок», – и тем не менее «в истории изучения Тютчева этот труд сыграл немаловажную роль»39. Тем самым, в лице Брюсова и Чулкова, символизм внес заметную лепту не только в свободное аналитическое постижение тютчевского художественного мира, но и в строго фактографическое историко-литературное изучение поэта.
Примечания
1 Новое время. 1903.24 ноября. № 9959. С. 4.
2 Орловский вестник. 1903. 25 ноября. № 313. С. 3. Подпись: Неопытный.
3 Русские ведомости. 1903. 24 ноября. № 323. С. 1.
4 Эр. П. <Павчинский Э.И.> Чествование памяти Ф.И. Тютчева. (По случаю столетия со дня его рождения) // Орловский вестник. 1903. 25 ноября. № 313. С. 2–3. См. также: Орловские губ. ведомости. 1903. 26 ноября. № 90/91. С. 2.
5 А. Несколько слов о поэзии Ф.И. Тютчева // Орловский вестник. 1903. 24 ноября. № 312. С. 1.
6 Чинский Пав. Отражения. Ф.И. Тютчев и печать // Там же. С. 2.
7 Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. 235.
8 Осповат А.Л. «Как слово наше отзовется…» О первом сборнике Ф. И. Тютчева. М., 1980. С. 93.
9 Берков П.Н., Лавров В.М. Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем: 1886–1899. М.; Л., 1949. С. 500–576,728-855.
10 См.: Ф.И. Тютчев: Библиографический указатель произведений и литературы о жизни и деятельности: 1818–1973 / Сост. И.А. Королева, А.А. Николаев; под ред. К.В. Пигарева. М., 1978. С. 74–75.
11 По всей вероятности, библиографы ограничились здесь данными картотеки тютчевианы в Мурановском музее и не обращались к просмотру печатных первоисточников: иначе трудно объяснить, например, фиксацию всего одной из трех охарактеризованных выше тютчевских публикаций в «Орловском вестнике» от 24 ноября 1903 года.
12 Так, Общество любителей российской словесности назначило заседание в память Тютчева и А.Н. Плещеева (10 лет со дня кончины) на 30 ноября 1903 года, а 23 ноября, в день столетия Тютчева, устроило чтение новейших произведений Л. Андреева, И. Бунина, В. Гольцева, Н. Тимковского и А. Чехова (1-й акт «Вишневого сада»). Такое решение вызвало критический отклик в анонимном фельетоне «Вскользь»: «Любители российской словесности выступают с Тимковским, Андреевым и Чеховым в тот самый день, когда героем внимания любителей художественного слова должен быть совсем другой писатель. Ф.И. Тютчев. <…> Конечно, Тютчев может и подождать. Он уж так долго ждет достойной оценки и широкого признания, которых давно заслужил своим глубоким и изящным поэтическим дарованием. Что ему стоит! А г. Тимковскому ждать, вероятно, никак невозможно» (Новости дня. 1903. 23 ноября. № 7350. С. 3).
13 Авсеенко В.Г. Поэт-созерцатель // Петербургская газета. 1903. 23 ноября. № 322. С. 2.
14 Осповат А.Л. Указ. соч. С. 93–94.
15 Новости дня. 1903. 23 ноября. № 7350. С. 8–9. Подпись: С. Т-в.
16 Ф.И. Тютчев (Род. 23-го ноября 1803 г.) // Русские ведомости. 1903. 23 ноября. № 322. Без подписи. На то, что интерес к Тютчеву, «одному из родоначальников» философского направления, «значительно возрос» «благодаря новейшим философским течениям в русской поэзии», обращалось внимание и в анонимной юбилейной статье о Тютчеве в «Правительственном вестнике» (1903. 21 ноября. № 258. С.з).
17 Сожин. Культурные отголоски // Курьер. 1903. 24 ноября. № 266. С. 3.
18 Ф.И. Тютчев: pro et contra: Личность
и творчество Тютчева в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2005. С. 230, 238, 241.
19 Там же. С. 243, 244.
20 Триневич П. Ф. Тютчев (1803–1903) // Русское богатство. 1903. № 7. Отд. II. С. 1, 3, il, 24.
21 Ф.И. Тютчев. По случаю 100-летия со дня его рождения // Русский листок. Приложение. 1903. 23 ноября. № 323. С. 738–739. Без подписи; Апушкин Вл. Ф.И. Тютчев. (К 100-летию со дня его рождения) // Русский инвалид. 1903. 25 ноября. № 255. С.3.
22 Высшенский А.П. Ф.И. Тютчев (1803 – 23 ноября – 1903 г.) // С.-Петербургские ведомости. 1903. 23 ноября. № 321. С. 2.
23 Миров «Эрлов К.В.>. Поэт-аристократ // Русское слово. 1903. 23 ноября. № 321. С. 3–4.
24 Ф.И. Тютчев как поэт-гражданин. (К 100-летию со дня его рождения) // Правительственный вестник. 1903. 21 ноября. № 258. С. 3–4. Без подписи. Фрагменты этой статьи перепечатаны в газете «Знамя» (1903. 22 ноября. № 251. С. 2).
25 Высшенский А.П. Тютчев – поэт славянства. К столетию со дня его рождения // Слово. 1903. 23 ноября. № 263. С. 2.
26 А.И.С. Минутная беседа (1803 – 23 ноября – 1903. – Памяти Ф. И. Тютчева) // Свет. 1903. 23 ноября. № 309. С. 2. Публикация интересна тем, что ее автор выступает и как мемуарист: излагает разговор Тютчева с четырехлетним сыном «нашей горничной», свидетельствующий о доброте и отзывчивости поэта («Я <…> говорю о Тютчеве как о знакомом мне человеке, по живым воспоминаниям, глубоко запавшим мне в душу»).
27 См.: Дм. Яз.-III. Федор Иванович Тютчев. (Его жизнь и поэзия). 1803 г. – 23 ноября – 19°3 г– // Московские ведомости. 1903. 23 ноября. № 321. С. 4; 24 ноября. № 322. С. 3; 25 ноября. № 323. С. 3.
28 Поселянин Е. Мысли и впечатления. Тютчев // Московские ведомости. 1903. 24 ноября. № 322. С. 2; 25 ноября. № 323. С. 2.
29 S.S. Ф.И. Тютчев. 23 ноября 1803 г. – 23 ноября 1903 г. К столетию со дня его рождения // Знамя. 1903.23 ноября. № 252. С. 2.
30 Московские Ведомости. 1903. 25 ноября. № 323. С. 2.
31 Столетие со дня рождения Ф.И. Тютчева // Петербургский листок. 1903. 23 ноября. № 322. С. 2.
32 См. о нем статью М.М. Якушкиной и С.В. Махонина: Русские писатели: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 184–185.
33 Нижегородский листок. 1903. 27 декабря. № 354. С. 2–3.
34 См.: Северные цветы: Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903. С. 1, 182–191.
35 Новый путь. 1903. Ноябрь. С. 1–31.
36 Там же. С. 16, 20.
37 См.: Тиханчева Е.П. В.Я. Брюсов о Тютчеве // Брюсовские чтения 1963 года. Ереван, 1964. С. 227–254; Тиханчева Е.П. Брюсов о русских поэтах XIX века. Ереван, 1973-С. 5-45.
38 Русский архив. 1903. Кн. III. № и. С. 481–498; № 12. С. 641–652.
39 Динесман Т.Г. Предисловие // Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. М., 1999. Кн. i: 1803–1844. С. 7.
Геннадий Обатнин
«Вычуры»
История рецепции поэзии В.Г. Бенедиктова, как история любой рецепции, организуется несколькими общими местами. Одно из них – популярность молодого поэта сразу после первого сборника 1835 года на фоне падающей популярности Пушкина и возникшая отсюда вечная парность этих двух имен с затесавшимся между ними Белинским, который восстанавливает истинное положение дел. Другая постоянная тема, появившаяся в XX веке, – Бенедиктов как предшественник поэзии русских символистов – разработана гораздо меньше.
В критике зрелого символизма некоторый интерес к поэзии Бенедиктова находим в статье Федора Сологуба «Демоны поэтов» (1907). К его эстетике, в центре которой намертво помещается идея «дульцинируемого» данного мира или, другими словами, его «лирического забвения», Бенедиктов с его «красивостью» и «звучностью» как будто весьма подходит. Мнения Белинского Сологуб относил к извечно свойственной русской критике задаче «охуления <так!> литературных слав»: «Читаю статью Белинского, искреннейшего из русских критиков, о поэзии гениального Баратынского. Какая тупость! Какое чистосердечное нежелание понять!»1 Имя Бенедиктова появляется далее, во второй части статьи под названием «Старый черт Савельич», и по смежности с Баратынским, снова названным «гениальным», вовлекая тем самым и тень Белинского, который не смог разглядеть достоинств обоих поэтов. Говоря об отношении Пушкина к своим современникам, Сологуб пишет: «Холоден он был только к двум: к гениальному Баратынскому, и к Бенедиктову, литературному предшественнику одного из самых известных современных поэтов»2. После этого интригующего заявления в статье нарастает словоупотребление, характерное для Вячеслава Иванова и появляются его узнаваемые темы. Лирический поэт, по мысли Сологуба, говоря «нет данному миру», потом всегда говорит ему «да»: «Но вот поэт говорит миру да, которое для здешнего мира всегда претворяется в ироническое. И хочет поэт хвалить здешний мир. Не льстит, а слагает правый дифирамб <…>. Но слагает дифирамбы, – изнемогая под бременем невольной иронии, хвалит»3.
Статья Сологуба в обеих своих частях (опубликованных соответственно в седьмом и двенадцатом номерах «Перевала» за 1907 год) погружена в темы, волновавшие модернистов в 1907–1908 годах. Например, сосредоточение на Иронии, появляющейся в конце первой части и открывающей вторую («Великая поэзия неизбежно представляет сочетание лирических и иронических моментов»4), невольно напоминает одноименную статью Блока, которая через год тревожно откликалась на апологию иронии у Сологуба. Поэтому и само соображение Сологуба о Бенедиктове как предшественнике современной поэзии, судя по всему, диагностировало настроение момента. На это отреагировал такой чуткий к конъюнктуре человек, как Ю. Айхенвальд, прямо написавший в очерке о Бенедиктове: «Бенедиктов, вокруг имени которого давно уже образовалась атмосфера насмешки и пренебрежения, как раз в последнее время встретил себе признание и оценку со стороны поэтов новой школы. Так, Федор Сологуб считает его предшественником одного из выдающихся наших модернистов (есть все основания думать, что автор имеет в виду Бальмонта, с которым Бенедиктова роднит необычайная звучность стиха, фонетическая законченность и какой-то малиновый звон искрометной рифмы»)»5. Далее автор нашел две (сомнительные, на наш взгляд) аллюзии на Бенедиктова у самого Сологуба на уровне словоупотребления. Несмотря на сдержанную оценку Бенедиктова («поэт-изобретатель, поэт-механик, выдумщик», «поверхностный, непривередливый, неразборчивый», «Молчалин нашей поэзии»6), Айхенвальд все-таки признал за ним «живое чувство языка» и был готов даже его оправдать. Повторяя словечко Белинского из рецензии на первый сборник поэта7, он заметил, что Бенедиктов «в разных вычурах своих <… > искал убежища от собственной прозаичности»8. Гораздо более беспощадно оценивал поэзию Бенедиктова Б. Садовской. В его статье (1909) были собраны все цитаты из мемуаров и критики, что до сих пор составляют корпус отрицательных отзывов о поэте: и ссылка на мемуары И. Панаева с репликой Пушкина, и фрагмент из воспоминаний Фета с пересказом мнения приказчика книжной лавки, поставившего Бенедиктова выше Пушкина, и, наконец, отклик Белинского9. Приговор Садовского суров: «Вообразим себе Чичикова, пишущего стихи, – и мы будем иметь приблизительное понятие о поэте Бенедиктове <…>. Нынешний беспристрастный исследователь Бенедиктова будет поражен прежде всего беспредметностью и бездушностью его поэзии <…>. Тайнами языка Бенедиктов не владел совершенно ни как поэт, ни как филолог <…>. Бенедиктов как поэт умер навеки <…>. Будущим поколениям Бенедиктов просто не нужен..»10
Такая страстность может быть понята лишь на фоне общей оправдательной тенденции в оценке Бенедиктова, и, действительно, мнения Сологуба разделялись некоторыми писателями. Укажем в этой связи хотя бы на статью Льва Зилова «Бенедиктов и бенедиктовщина», в которой он отдельно останавливался на связи Бенедиктова с поэтами современности: «Словно он их прообраз – Бальмонтовская невоздержанность, убаюканная собственной мелодией, Ивановская тяжеловесность и вычурность (! – Г.О.), Брюсовская жесткость, Брюсовская эротика, Брюсовская космичность…и даже рифмы (идол-придал)». Стихотворения Бенедиктова первого тома из посмертного собрания, по мнению Зилова, поражают новизной и даже «новизной с современным оттенком»; он, как и современные поэты, был «мученик эпитета»; космические мотивы, как и эротические, «смутно предугадывают космическую поэзию современности»; с поэтами из «Весов» у этого «сорока-десятника» есть «родственная связь»11. Нет сомнения, что за этими рассуждениями молодого и непризнанного поэта стояло желание поменять литературный канон, часто прикрывающееся беспристрастной объективностью или историцистским отчуждением канона существующего. Но для наших целей важнее другое: внимание Зилова привлекло стихотворение «Горные вершины», фрагмент из которого он с удовольствием процитировал. На самом деле оно называлось «Горные выси» и входило во второй сборник стихотворений Бенедиктова (1838):
Одеты ризою туманов
И льдом заоблачной зимы,
В рядах, как войско великанов,
Стоят державные холмы.
Привет мой вам, столпы созданья,
Нерукотворная краса,
Земли могучие восстанья,
Побеги праха в небеса!
Здесь – с грустной цепи тяготенья
Земная масса сорвалась,
И, как в порыве вдохновенья,
С кипящей думой отторженья
В отчизну молний унеслась;
Рванулась выше… но открыла
Немую вечность впереди:
Чело от ужаса застыло,
А пламя спряталось в груди:
И вот – на тучах отдыхая,
Висит громада вековая,
Чужая долу и звездам:
Она с яьтсот
Она с высот, где гром рокочет,
В мир дольний ринуться не хочет,
Не может прянуть к небесам.
О горы – первые ступени
К широкой, вольной стороне!
С челом открытым, на колени
Пред вами пасть отрадно мне.
Как праха сын, клонюсь главою
Я к вашим каменным пятам
С какой-то робостью, – а там,
Как сын небес, пройду пятою
По вашим бурным головам!12
Содержательная сторона стихотворения Вяч. Иванова «Разрыв» из его первого поэтического сборника «Кормчие звезды» (1903) оформлена двумя приемами. Один из них – развитие метафоры гор из приведенного стихотворения Бенедиктова как «побега» земли/праха к небесам:
Как в лен жреца, как в биссос белый,
В свой девственный одеян снег,
Незыблем он – окаменелый
Земли от дольнего побег!
Дерзни восстать земли престолом!
Крылатый напряги порыв!
Верь духу – и с зеленым долом
Свой белый торжествуй разрыв!13
При обращении к бенедиктовскому подтексту этого стихотворения становится ясным и ивановский «земли престол», который соотносится со «ступенями» у Бенедиктова, и генеалогия подспудной аллегории «гора – дерзкий, горячий человек». Можно сказать, что Иванов здесь повел себя как Пушкин, который тоже, если верить многократно цитировавшемуся фрагменту из воспоминаний Панаева, отметил у Бенедиктова только одно сравнение неба с опрокинутой чашей. Легко заметить, что Иванов вообще несколько сократил сюжет – его горы, в отличие от бенедиктовских, только бегут от земли, но не застывают в ужасе. Интересно, что и Зилов в упомянутой статье процитировал из «Горных высей» те же строки, что послужили претекстом для Иванова.
Кажется, «Горные выси» вообще были одним из самых известных стихотворений Бенедиктова14. В.Э. Вацуро находил его отклик в раннем стихотворении Некрасова «Горы»15, а образ гор, бегущих от земли, Белинский в рецензии на второй сборник поэта снабдил ироническим замечанием для «проницательного» читателя: «Это значит – горы!»16 Тургенев, который некогда «упивался» стихами из первого сборника (как он позднее поведал в «Воспоминаниях о Белинском»), в рецензии на «Записки ружейного охотника» С.Т. Аксакова (1852) в качестве иллюстрации «красивого» изображения природы несколько раз привлек, не называя, поэзию Бенедиктова, причем не пропустив и занимающего нас образа: «… несравненно легче сказать горам, что они „побеги праха к небесам^ утесу, что он „хохочет“, молнии – что она „фосфорическая змея“, чем поэтически ясно передать нам величавость утеса над морем, спокойную громадность гор или резкую вспышку молнии»17. Досталось бедным горам и от Венгерова: «Кто, кроме Бенедиктова, мог бы ухитриться назвать гору „побегом праха в небеса <…>“», но этого сарказма оказалось не достаточно, и позже критик уделил еще специальное внимание этому тексту, называя его стиль «условными банальностями», само стихотворение «одним из самых типичных для характеристики внутренних качеств „бенедиктовщиныа», «вычурным (! – Г.0.) и напыщенным вздором»18.
Не исключено, что отслеживаемый образ можно найти, например^ Гюго или в иной «неистовой словесности». Однако анализ рукописей Иванова как будто указывает именно на Бенедиктова. Стихотворение «Разрыв» записано в окружении двух текстов, где, возможно, упоминается тот же «зеленый дол», и, кроме того, одним и тем же лиловым карандашом. Здесь начато стихотворение, получившее в сборнике «Кормчие звезды» название «Стремь», всего три или четыре строки («Как очи тусклые озера…»19). Тем же карандашом сделан набросок списка названий стихов, где, среди прочих, названы ранняя поэма «Ars mystica», заглавие которой записано как «Ars mag<ica>», «Стремь», «Разрыв» и еще одно, оставшееся неопубликованным. Его Иванов начал переписывать набело, но потом, как это часто с ним бывало, стал править – и, скорее всего, оставил. Оно посвящено описанию, видимо, все тех же гор, находящихся либо перед мысленным, либо – перед реальным взором поэта. Набросок начат эпическим «народным» четырехстопным хореем, но его основная метафора также заимствована из «Горных высей» Бенедиктова:
За равнин высоким краем,
За долин глубоким раем
Вижу рать великих воев,
Воев рать окаменелых.
Вижу тел напор победный
………………………………
И оружия героев
Лучезарной снежной цепью
За смарагдной дальной степью
Рать стоит недвижной гранью
………………………………..
Что ты видишь там, в конце
Этой сумрачной долины?
На пути нам исполины
Стали в облачном венце20
Все это записано в английском блокноте, купленном, видимо, когда Ивановы проводили зиму 1899/1900 года в Британии, но среди текстов, его заполняющих, один – предисловие к «Кормчим звездам» – в другом автографе датируется весной 1901 года21. Далее в блокноте идет записанное чернилами стихотворение «Два взора», где повторяется уже использованный в стихотворении «Стремь» образ озер-очей, а финал, очевидно, отсылает к Тютчеву:
Ты скажешь: в ясные глядится
С улыбкой дикою Сатир, —
Он, тайну Мойр шепнувший в мир,
Что жребий лучший – не родиться.
(1,603)22
Краткость этого стихотворения, как и «Разрыва», может быть понята как дань тютчевскй лапидарности. Возможно, стихотворение «Духи и души» (I, 604) в окончательном тексте сборника было поставлено Ивановым непосредственно за этим текстом не в последнюю очередь из-за того, что оно описывает радугу, также один из устойчивых тютчевских мотивов. Список этих мотивов можно найти в статье «Две стихии в современном символизме» (1908), в корректуру которой Иванов успел вставить главку, посвященную иллюстрации той мысли, что Тютчев – «реалистический символист»: «Тоска ночного ветра и просонье шевелящегося хаоса, глухонемой язык тусклых зарниц и голоса разыгравшихся при луне валов; таинства дневного сознания и сознания сонного; в ночи бестелесный мир, роящийся слышно, но незримо, и живая колесница мирозданья, открыто катящаяся в святилище небес; в естестве, готовом откликнуться на родственный голос человека, всеприсутствие живой души и живой музыки; на перепутьях родной земли исходивший ее в рабском виде под ношею креста Царь небесный – все это для поэта провозглашения объективных правд, все это уже миф» (II, 557). Нет нужды перечислять всем известные стихотворения Тютчева, которые имеет в виду Иванов, важно лишь отметить, что этот список представляет его личный «тютчевский текст», который сводится в основном к изображению и переживанию «одушевленной» природы23. Позднее, в «Автобиографическом письме», Иванов указал на то, что его гимназический товарищ опознал в нем поэта-символиста именно по описаниям природы (II, 16). Все упомянутые стихотворения – «Разрыв», «Стремь», «Два взора» – в окончательном варианте «Кормчих звезд» входят в раздел «Ореады», т. е. нимфы пещер, лесов и гор («Diese Hohen füllten Oreaden…» – сказал Шиллер в «Богах Греции»). Цикл целиком посвящен горам и заканчивается важным для Иванова декларативным стихотворением «Альпийский рог», посвященным природе поэтического творчества. Подобное «чтение» природных явлений Бенедиктовым, Тютчевым и Ивановым и, смеем добавить, Ницше в «Так говорил Заратустра» было основано на одних и тех же идейных источниках, и Гинзбург точно указывает на «одухотворение» явлений природы в поэзии и натурфилософии (у Шеллинга) немецких романтиков24.
Второй заметный прием стихотворения «Разрыв» – это цветовая символика, которая мотивирована не только тем, что дол зелен, потому что покрыт травой и деревьями, а гора белая из-за снеговых вершин, но и другими причинами. Черновик стихотворения дает иной вариант последних двух строчек: «И духу верь, и с пыльным долом / Высокий торжествуй разрыв»25. Вводя в окончательный текст цветовую символику, Иванов его «модернизирует», превращая в символическое произведение: зеленый и белый цвета несут личные смысловые коннотации, намекая тем самым на что-то, читателю неизвестное, о чем можно только догадываться. Чтобы приблизиться к пониманию, читатель может вспомнить хотя бы строки из того же сборника: «Гений лазурных дум и белых отречений» («Отречение») или «Усталость белая и белая безбрежность» («Тишина»). Так тексты романтические превращаются в символические26 – и все это уже после того, как «оранжевая охота к лиловому сочинению желтых стихов» была высмеяна В. Соловьевым27. Хочется также напомнить занимательные беседы между Ивановым и Бальмонтом, донесенные до нас пристрастной памятью М. Кузмина: «… больше всего у него в характере было общего с Бальмонтом и у Бальмонта с ним. Они могли долго и серьезно обсуждать, кто из них бирюзовый, а кто вечеровый <… >»28. Тонкая грань отделяет этот диалог от пошлого «галантерейного» языка, упомянутого Гинзбург в связи с поэтическим стилем Бенедиктова29.
Позволим себе несерьезный эксперимент: попробуем прочесть стихотворение «Горные выси» по-модернистски, используя мотивный анализ. Бросается в глаза, что метафора, привлекшая внимание Иванова, самому Бенедиктову нравилась и в другом варианте была повторена поэтом в стихотворении «И.А. Гончарову», где горы сравниваются с всплеснувшимися к небу и затем застывшими морскими волнами (Ф. Прийма связал это с аналогичным образом Карпатских гор из «Страшной мести» Гоголя30). Заметим, что горы как волны и постоянно повторяющийся в эротической теме Бенедиктова мотив женских грудей как волн («…у него есть фетишизм женского тела, женской груди» – скромно замечал Айхенвальд31; «павианское сладострастие» – целомудренно гневался Садовской32), возможно, составляют один топос. Все-таки недаром Зилов, цитируя стихотворение Бенедиктова, назвал его «Горные вершины», спутав с Лермонтовым, оставившим нам образ «груди утеса-великана». Впрочем, ту же грудь находим в стихотворении «Утес» самого Бенедиктова, где главный герой повторяет знакомое движение «горе» – он «из сердца земли мощно выдвинут был». Если задержаться на эротике Бенедиктова, то нелишним будет заметить, что один из важных ее мотивов – это попирание красавицей возлюбленного («И в сладострастии немом / Паркет под ножкой изнывает» из стихотворения «Три вида» – берем одну из самых известных цитат) или описание красотки Матильды, которая «действует буйно визгливым хлыстом, гордяся усестом красивым и плотным» и приходит в «сладкое волнение» от скачки. Последнее стихотворение, «Наездница», вызвало нарекание прозаического Белинского, да и всех его упоминавших. Если взглянуть на «Горные выси» с этой точки зрения, то в финальном желании героя, который одновременно и «сын праха» и «сын небес», «пройти пятою» по головам гор можно разглядеть много женского – в то время как Иванов оставил себе только мужской компонент, т. е. порыв ввысь и окаменение33. Интересно, что слово «окаменелый» единственный раз встречается в опубликованном варианте «Кормчих звезд» в стихотворении «Разрыв», а второй раз оно могло бы появиться в приведенном выше архивном тексте, если бы Иванов его закончил и напечатал. «Почему, – возмущался Венгеров последними строками «Горных высей», – для этого надо быть „сыном небес“, когда то же самое проделывает каждый горный козел, будучи всего лишь сыном козы?»34 Кстати, напомним, что у Иванова рядом с «Разрывом» появляется Сатир, глядящийся в горные озера, т. е. горный Сатир, надо полагать…
Так можно далеко зайти, и один из вопросов, встающих в связи со сказанным, – это какие свойства поэтики Бенедиктова, поэта второго ряда, были востребованы культурой модерна? О том, что его поэзия подражательна, писали чуть ли не все, кто о нем вообще писал. Она и вправду все время что-нибудь напоминает: «О, не играй веселых песен мне!..» («N. N-ой»), «Я не люблю тебя. Любить уже не может…»; «Прости! – Как много в этом звуке!» («Прости!»); позднейшее стихотворение «Локомотив» (1865) своим чередованием строф, написанных разными размерами, вызывает в памяти «Последнего поэта» Баратынского и т. п. Уместно напомнить здесь оценку Соловьевым первых образцов русской символической поэзии, «добрая половина» которых, по его мнению, «внушена другими поэтами и притом даже не символистами»35. Звучало это в других откликах на новое искусство, например, у Михайловского.
Один из ответов можно найти у Л.Я. Гинзбург, которая вольно или невольно наметила важное для поэзии модернизма свойство поэтики Бенедиктова: смешение высоких поэтических слов с просторечием36. В качестве приема катахреза станет основой авангардной поэтики – недаром, например, одно из выступлений имажинистов в Берлине было названо по заглавию главы из «Братьев Карамазовых», «Смердяков с гитарой»37. Само изобретение Бенедиктовым неологизмов, список которых был составлен Полонским и прилагался к его статье в первом томе посмертного собрания стихотворений, надо думать, связано с романтической темой невозможности «высказать себя» («невыразимое», собственно, тоже неологизм). Но в перспективе будущего развития языка русской поэзии неологизмы Бенедиктова были востребованы. Льва Зилова прочтение именно этого списка навело на мысль об актуальности поэта: ведь эти слова «многие теперь пестрят у Бальмонта, Иванова, Брюсова и пр.»38. Последнее утверждение не выдерживает серьезной проверки39, но в целом Зилов, как младший современник символистов, выражает «дух времени» – изобретение слов в русском литературном модернизме началось задолго до футуристов. В особенности это касается «поэта мысли», Вячеслава Иванова, о первом сборнике которого И. Ясинский писал: «Блестящий стих. Архаизмы, иногда очень красивые, напоминающие архаизмы Тютчева. Большое знание классической литературы. Книга имела бы успех и поэт попал бы в историю нашей словесности и занял бы в ней не последнее место, если бы „Кормчие звезды“ появились семьдесят лет назад»40. Кстати, сравнение Бенедиктова с Ивановым можно было бы развивать и далее41 – например, оба поэта обнаруживали свое пристрастие к сонетам, характерное, впрочем, для «сонетных эпох» русской поэзии. Если понимать природу этой формы как стиха «заказанного», порой даже придворного, то в глаза бросится явная любовь Бенедиктова к встрече Нового года новым стихотворением, к стихам «на случай»: на юбилей, обед и т. п., столь характерная и для поэтического поведения Иванова. Например, так была написана, если верить О. Дешарт (I, 858), одна из «Парижских эпиграмм», «Скиф пляшет», взамен другой, исключенной цензурой. Ее финальные строки:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.