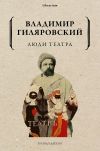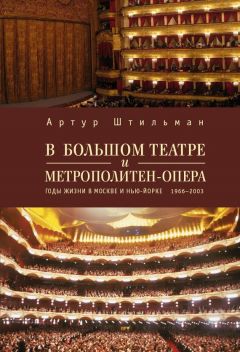
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
3. Вашингтон и Кливленд
Весна 1980 года в Нью-Йорке была исключительно тёплой. В последнюю неделю апреля в Вашингтоне было уже почти что жарко. Мы прилетели туда на самолёте компании «Бранифф», обанкротившейся в следующем году. Оказалось, что такие банкротства в Америке всегда происходят внезапно. Пока же мы получали удовольствие от часового перелёта в Вашингтон с шампанским и лёгким завтраком. В ту пору у «Бранифф» с Метрополитен-опера был постоянный контракт на перевозки труппы во время гастролей по Америке, и компания старалась каждый раз создать максимально комфортные условия для своих клиентов.
Нас поселили в недорогой гостинице примерно в 40 минутах езды от города. В тот же вечер состоялся первый спектакль – «Любовный напиток» Доницетти. В Большом театре в мои годы не шла ни одна опера Доницетти, и теперь всё приходилось схватывать налету – никакого времени для даже краткого ознакомления с репертуаром не было.
В тот вечер пели Лучано Паваротти и Джудит Блейген. Они были прекрасной парой, и их исполнение даже было записано на видеофильм. Джудит Блейген была женой концертмейстера Реймонда Гневека и, как оказалось позднее, была также бывшей скрипачкой!
Голос Паваротти звучал исключительно красиво и мягко, но мне казалось, что ему многого не хватало до исполнения этой оперы Беньямино Джильи, знакомого по записи на пластинки. И не только великого Джильи, но и Карло Бергонци, который хотя и перевалил в это время за свои пятьдесят, но оставался изумительным представителем классического итальянского бельканто.
Опера оказалось довольно трудной – очень часты были внезапные отклонения от темпа из-за «капризности» исполнения тенора, а кроме того партитура была скорее сродни партитурам Моцарта – такой же прозрачной и «открытой», из-за лёгкости инструментовки Доницетти. Словом, этот уже настоящий рабочий дебют оказался делом непростым и нелёгким. Сам ансамбль оркестра звучал исключительно слаженно и гибко реагировал на любые неожиданности со стороны певцов. Дирижировал опытный дирижёр Николя Ришиньо. Он был очень скуп в жестах, но зато совершенно ясен и понятен.
Вторым спектаклем совершенно новым для меня была опера Бенджамена Бриттена «Билли Бадд». Партитуры Бриттена очень сложны и, хотя у меня и было полтора дня на ознакомление с материалом, всё же приходилось напрягать всё внимание, чтобы держаться в ансамбле, так сказать «на плаву». Всё это было больше, чем экзаменом, тем более, что именно в этой поездке решался вопрос о моей дальнейшей работе – во время туров люди всегда раскрываются полностью и по-человечески, и профессионально.
К счастью, третьей оперой была знакомая «Травиата» Верди. Это во многом облегчило мою задачу в этой поездке. Я сразу же встретился с совершенно иной реальностью работы в МЕТ Опере – репертуар здесь был необъятно широк по количеству опер композиторов многих стран и эпох: здесь шли почти все оперы Верди, и это было, быть может, главной ценностью репертуара МЕТ в те годы. Шло много опер Рихарда Штрауса – все они невероятно трудны для оркестра. Шёл почти весь Вагнер. Моцарт всегда был представлен шестью-семью операми. Игрались достаточно часто произведения Генделя. Пуччини был представлен очень широко, равно как и Доницетти. Оперы Беллини соседствовали со ставшими классическими произведениями Бриттена – «Питер Граймс», «Сон в летнюю ночь», «Билли Бад», «Смерть в Венеции». Всегда шла опера Бетховена «Фиделио».
Из русского репертуара часто шли «Борис Годунов» в постановке 1974 года и «Евгений Онегин». «Хованщина» была поставлена при мне заново через несколько лет. На моих глазах осенью 1981-го рождался спектакль «Богема» Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли.
Всё это было гигантским контрастом с работой в Большом театре. Я хотел бы здесь быть правильно понятым: Большой театр – прежде всего национальный театр оперы и балета. Его репертуар составляли главным образом произведения русских композиторов и избранных опер традиционной мировой классики. Метрополитен-опера – только оперный театр и театр этот интернациональный и космополитический — здесь идут оперы, прежде всего, итальянских композиторов, затем немецкой классики – Моцарта и Бетховена, Вагнера и Рихарда Штрауса, композиторов Франции Гуно, Масснэ, Визе, Сен-Санса, Равеля, Дебюсси, Пуленка, композиторов-классиков XX века: Прокофьева, Шостаковича, Альбана Берга, Шёнберга, Стравинского, Бартока, Бриттена, Гершвина, а также современных американских композиторов. К этому нужно добавить и шедевры русской классики – «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского. И, как уже говорилось – почти весь Вагнер!
Одно это перечисление говорит само за себя. Метрополитен-опера – действительно интернациональный театр оперного искусства, представлявший тогда всё самое лучшее, что было в мире музыкального театра. К сожалению, примерно с 1994 года стал наблюдаться некоторый спад по причинам, о которых пойдёт речь позже.
В начале же 80-х годов можно было без преувеличения серьёзно говорить о том, что МЕТ опера буквально в каждом спектакле давала высшие образцы искусства вокала, актёрской игры, работы художников и дирижёров. Так что для тех, кому выпала редчайшая жизненная удача работать в те годы в этом театре так повезло, как может быть только раз в жизни.
* * *
В первые же дни репетиций «Парцифаля» ко мне подошёл молодой человек, показавшийся знакомым. Он заговорил со мной по-русски и оказался бывшим студентом… Цыганова! Это был Володя Баранов, брат которого, также скрипач, был одним из концертмейстеров Оркестра Всесоюзного Радио в Москве (Большой Симфонический Оркестр – Б СО), а теперь занимал такое же положение в оркестре Лос-анджелесской Филармонии.
Володя оказался очень доброжелательным и милым человеком, и мы были действительными друзьями все годы моей работы в МЕТ – 23 года.
Вообще все новые коллеги отнеслись ко мне исключительно дружелюбно. Я познакомился с одним альтистом, работавшим к тому времени в МЕТ около полувека. Звали его Дэвид Учитель. Да, именно Учитель. Естественно, что его имя произносили как «Ю'читэл», но это дело не меняло. Конечно же, его родители приехали на заре века из «Гродно-губернии», как объясняло большинство потомков бывших российских иммигрантов. Дэвид был примечательной личностью и крупным коллекционером звукозаписей. Так у него имелись редчайшие записи 1-й части Концерта Паганини № 1 в исполнении молодых Хейфеца и Ойстраха. Обе записи никогда не были в продаже и даже никогда не демонстрировались по радио.
Осенью 1980-го я решил принести ему для ознакомления с игрой молодых советских скрипачей пластинку с записью одного из моих соучеников по Консерватории. После прослушивания пластинки Дэвид сказал мне: «Артур! Он играет как слепой! Ты когда-нибудь слышал, как играют слепые? Так вот: он идёт в никуда!. Это лишено всякого смысла». Чем руководствовался в своей оценке Дэвид? Он довольно точно ощутил отсутствие высшего замысла в интерпретации и превалирование самолюбования звуком и технической лёгкостью. Мы как-то не замечали этого в Москве, но Дэвид был исключительно эрудированным профессиональным музыкантом и коллекционером. Я же понял, что основное отличие американских музыкантов любого калибра от советских (здесь идёт речь, конечно, не о советских супер-звёздах, а о музыкантах достаточно высокого класса) состоит в том, что советские, конечно, гораздо сильнее в отношении техники игры на скрипке, и значительно слабее своих американских коллег в музыкальности, глубине интерпретации и в воссоздании стилей различных композиторов, но прежде всего в знании камерной музыки и владения ею. Это относилось также к русской и советской камерной музыке – трио, квартетам, квинтетам и другим ансамблям. В этом отношении мне было как-то странно себя чувствовать среди людей, игравших на школьной скамье, к примеру, Трио Арама Хачатуряна для кларнета, скрипки и фортепиано, о котором, я к своему стыду, даже не слышал. Трио же Аренского, Рахманинова, Чайковского, Глинки – были просто популярными пьесами для моих новых коллег, такими же, как для нас были «Вальс-Скерцо» Чайковского, или Полонезы Венявского. Так первое поверхностное знакомство с новыми коллегами и стилем работы театра привело меня в мир иных измерений и оценок, чем тот, в котором я жил в Москве. Всё было совершенно по-другому.
В Метрополитен-опера у нас с Барановым сложился круг людей, с которыми мы наиболее охотно общались, Все они были американцами, но все более не менее были знакомы с русским языком. Мы не говорили с ними по-русски, но иногда они сами спрашивали о тех или иных выражениях, часто, конечно и о популярных ругательствах. На фотографии, сделанной кем-то случайно, мы все ещё сравнительно молодые и радостные. Альтист Майкл Бартон был канадцем. Он отлично говорил по-русски. Говорил, что происходил из казаков, когда-то иммигрировавших в Канаду. Ну, у человека, служившего, по рассказам коллег, во время войны в военной разведке, конечно много вариантов биографии. Майкл быт очень милым, дружелюбным и воспитанным человеком. На мой вопрос, где он так выучил русский, он отвечал, что «слушал окружающих» – кого не уточнял – и вот так и выучил. Это, естественно была его фантазия, и язык он знал, возможно, с детства, но это придавало ему некоторый ореол таинственности, как и впрочем, всем бывшим разведчикам. Фамилия его, скорее всего, была не настоящая. Но всё это было не так важно. Другим моим действительно близким другом на долгие годы стал трубач Гарри Пирс. Его отец тоже приехал из России – из «Гродно-губернии», как рассказывало большинство американцев. Мать его была ирландкой, но он чувствовал себя потомком русских евреев. Он играл какие-то годы в Филадельфийском оркестре со Стоковским и Юджином Орманди, потом был в действующей американской армии во время вторжения в июне 1944 года. Очень был дружески к нам настроен, всегда помогал, когда у нас были какие-то затруднения с решением новых жизненных проблем.
* * *
В чисто туристическом отношении посещение Вашингтона было очень волнующим. Это, быть может, самый «неамериканский» город – всё в нём напоминает Европу. Очень красивые большие авеню, чудесный старый город Джорджтаун, потрясающие музеи, и самое главное, что я хотел увидеть в эту первую поездку в столицу кроме Капитолия – посетить Библиотеку Конгресса, где хранилась скрипка великого скрипача XX века Фрица Крейслера.
Все эти новые впечатления и прежде всего такая простая возможность реализации моих планов, наполняли меня радостным волнением в предвкушении собственного «открытия Америки».
Итак, мы с Володей Барановым решили пойти сначала в Конгресс, а потом зайти и в Библиотеку Конгресса.
К нашему величайшему удивлению мы совершенно беспрепятственно вошли в здание Капитолия и только на пороге входа в зал заседаний Сената были спрошены охранником, что мы собираемся делать в зале Сената? Фотографировать было нельзя, записывать на магнитофоны – тоже. Всё-таки он попросил нас зайти в комнату начальника, где только Володя смог предъявить свой «беженский документ для путешествий». Он с трудом сумел объяснить, что мы здесь с гастролями Метрополитен-опера в Кеннеди Центре, что мы вообще недавние иммигранты из России. Мне также задали вопрос: есть ли у меня какие-нибудь документы при себе? Я сказал, что нет, что я прилетел в Нью-Йорке только 28 января и ещё не успел даже поменять свои европейские водительские права на американские. Всё-таки мы внушили какое-то доверие к себе. Охранник нас проводил в зал и посадил недалеко от дверей. Шло заседание. Мы увидели сенаторов Джавитса, Генри Джексона – многолетнего борца за еврейскую эмиграцию из СССР, и многих других знакомых по фотографиям лиц. Большинство в жизни выглядело и моложе и как-то привлекательнее, чем на известных нам фотографиях.
Мы не слишком задержались в Сенате, и, поблагодарив охранника спустились вниз и пошли в Библиотеку Конгресса, находящуюся совсем близко от Капитолия. Придя туда и быстро поднявшись по лестнице в музыкальный отдел, мы узнали о том, что как раз сейчас идёт концерт Джульярдского квартета и что на скрипке Крейслера играет их первый скрипач Манн. Мы зашли в артистическую комнату в антракте концерта. Манн очень любезно нас встретил, я ему как-то даже сумел сказать, что был на их концерте в Москве, а Большом зале Консерватории лет 16 назад. Он дал нам подержать в руках бесценный крейслеровский «Гварнери дель Джезу», после чего мы, поблагодарив Манна за внимание, откланялись и пошли в Кеннеди Центр.
Перед входом я увидел афишу, извещавшую о том, что в это самое время проходил детский концерт Вашингтонского Национального оркестра с участием одарённых юных музыкантов. Дирижировал концертом Ростропович! Конечно, я не мог упустить такую возможность – повидать Ростроповича. Хотя и со времён его работы в Большом театре прошло уже около десяти лет, но он знал нас всех, особенно учившихся в Центральной музыкальной школе с детства и обладал замечательной памятью.
В зал я вошёл в середине второго отделения концерта, когда какой-то японский мальчик лет 10-и в белом костюме и бабочке играл Концерт для фортепиано с оркестром собственного сочинения! Конечно, его Концерт был написан полностью под влиянием музыки Бетховена, но всё же сочинить Концерт в таком возрасте и столь совершенно его исполнить было большим достижением для столь юного музыканта.
После концерта я зашёл в артистическую Ростроповича. Он был окружён большой толпой детей и их родителей, представителями администрации Кеннеди Центра и, конечно, как и всегда и везде просто публикой, которая пришла поздравить и поблагодарить маэстро за столь необычный и интересный концерт. Наконец Ростропович увидел меня, и я совершенно ясно прочёл в его глазах растерянность… Он, конечно, узнал меня и, как видно, приготовился к «худшему» – просьбам о работе, рекомендациях и т. д. Я же, поздоровавшись с ним и напомнив о нашей совместной работе в Большом театре, рассказал в двух словах, что я здесь на гастролях с МЕТ Оперой, что совсем недавно приехал, и что очень хотел бы послушать его концерт на следующий день, включавший в программу 21-ю Симфонию Мясковского. Он немедленно потребовал, чтобы я к нему обращался только на «ты», и что, конечно же, завтра пришёл бы без четверти восемь прямо за кулисы и он распорядится, чтобы меня посадили в его личную ложу. Всё было очень приятным, только я запротестовал, чтобы обращаться к нему на «ты»: «Я ведь начинал заниматься в ЦМШ в 43-м, когда вы уже там были ассистентом Семёна Матвеевича!» (Козолупова – А.Ш.) Но он настоял на своём – это был его стиль: все знакомые с ним должны были называть его только Слава и только на «ты». Понятно, что пришлось этому подчиниться.
На следующий день я пришёл в Кеннеди Центр, встретил Ростроповича и он попросил свою секретаршу Надю провести меня в его ложу. Там уже находилась его дочь и муж Нади, бывший духовником Ростроповича. Я, понятно, был незнаком с дочерью Ростроповича Ольгой. К этому времени это была молодая красивая женщина, похожая в чём-то на свою мать, в чём-то на отца. Поддержав немного светский разговор о «новостях» в Большом театре мы начали слушать концерт.
Нужно сказать, что как и в Москве, любое выступление Ростроповича было захватывающе интересным. 21-я Симфония Мясковского была исполнена блестяще благодаря превосходным солистам духовикам и прежде всего солисту-кларнетисту, которому отведена большая роль в этой Симфонии.
Как и всегда искренний энтузиазм, и эмоциональный накал, а также тонкость фразировки и стилистика музыки Мясковского были выявлены со всей полнотой, присущей исполнительскому искусству Ростроповича.
Его солистом в тот вечер был французский виолончелист Пьер Фурнье, исполнявший Концерт Шумана для виолончели с оркестром. Выступление его показалось на фоне концерта довольно тусклым: Фурнье страдал одним крупным недостатком – его техника, то есть все виртуозные пассажи, были не слишком хорошо слышны в зале, или можно сказать – недостаточно артикулированы. Казалось, что внешне солист играет очень горячо, только всё это как-то не «долетало» в зал.
Публика вежливо поаплодировала его имени, так как всё же он был европейски известным виолончелистом. Мне показалось, что разница в его выступлении в Москве и в Вашингтоне была ощутимой – с московских времён прошло уже около двадцати лет… Конечно и тогда Фурнье не мог идти в сравнение с Гаспаром Кассадо, также гастролировавшем в Москве в середине 60-х годов.
После концерта я сердечно поблагодарил Ростроповича за его гостеприимство и за исполнение 21-й Симфонии Мясковского. Я с удовольствием отметил, что без его, Ростроповича энтузиазма эта Симфония могла бы не исполняться в Америке ещё неизвестное время, и только благодаря ему это могло состояться теперь, что приветствовалось публикой также очень тепло и заинтересованно. Он, кажется, был тронут моими словами и сказал, что в будущих сезонах собирается широко представлять современных молодых композиторов: Шнитке, Агафонникова, Эдисона Денисова, Гаврилина, Софью Губайдулину. Я распрощался с ним, пожелав ему неиссякаемого энтузиазма в пропагандировании творчества Мясковского, Шостаковича, Прокофьева, заметив, что кроме него едва ли кто-то ещё способен делать это на таком художественном и эмоциональном уровне. Большая очередь американцев терпеливо ждала за моей спиной, пока разговор с Ростроповичем будет окончен.
Один из первых дней в Вашингтоне – и столько ярких и неожиданных впечатлений!
* * *
Публика в Вашингтоне была в основном интернациональной: дипломаты, служащие посольств, чиновники главных правительственных департаментов. В чём-то напоминала нью-йоркскую, но была несколько холодней – всё же столичное положение диктовало какие-то специфические рамки эмоционального восприятия. Это было особенно заметно в сравнении с публикой Кливленда, где она была весьма просвещённой и консервативной. Помню, что во время выступления Паваротти в «Любовном напитке» Доницетти, зрители ясно выражали своё отношение к звезде совсем не горячими аплодисментами: там любили и помнили ещё недавно выступавших Франко Корелли и Джузеппе ди Стефано.
Зал в Кливленде, где мы играли, оказался не театральным залом, а универсальным местом для спектаклей, концертов, выставок – это было огромное помещение и, как ни странно, с натуральной, достаточно хорошей акустикой.
Быстро прошла неделя кливлендских гастролей, и я возвращался в Нью-Йорк, полный впечатлений от увиденного и услышанного, но с каким-то чувством неуверенности в отношении своего будущего – участия в работе Метрополитен-опера, хотя казалось, что я произвёл на коллег и на «офис», то есть руководство оркестра, вполне благоприятное впечатление.
В Кливленде мы провели довольно много времени с Мишей Райциным, так как он должен был быть в случае необходимости дублёром Паваротти. Миша посвящал меня во многие тонкости работы театра, что было особенно полезно узнать во время гастролей. Как и всегда и во всём его видение мира и человеческих взаимоотношений внутри такого громадного театра было для меня определяющим. Наши оценки как уровня музыкально-исполнительского мастерства, так и вкусы были, как и в Москве, исключительно близки друг к другу, если не сказать идентичными. Я покинул Мишу в Кливленде, а он должен был лететь в два последних города тура МЕТ – в Даллас и Атланту.
4. Первое американское лето
Тем временем я начал свой летний сезон – целых пять недель – с оркестром Нью-Джерси Симфони. Как уже говорилось, этот симфонический оркестр базировался в близлежащем городе Ньюарке, на противоположном берегу реки. Репетировали мы в старом Симфони Холл на главной улице города. Вид города нисколько не изменился со времени моего первого приезда туда – те же небоскрёбы с выбитыми и выжженными окнами, те же брошенные кварталы. Безлюдье – даже днём. Это было первым и довольно убедительным несоответствием наших представлений об Америке с реальностью её существования. Наше представление о стране очень напоминало рекламные ролики на телевидении, или куски их голливудских фильмов. На самом деле Америка оказалась и не такой богатой, и не такой процветающей, с большим количеством бездомных, психических больных, а также частично брошенных и безлюдных районов даже больших городов. Да, от голода умирать никому не давали: бесплатные обеды при церквах, синагогах и общинных центрах различных конфессий не решали всех этих проблем. Жизнь была суровой. А получив работу – величайшее благо после здоровья – люди работали очень и очень тяжело.
Эти впечатления накапливались и аккумулировались с течением времени, но пока что в первое лето я смотрел на мир без скептицизма и широко раскрытыми глазами.
Летний сезон в оркестре NJSO – Нью-Джерси Симфони – проходил, как и все летние сезоны американских симфонических оркестров на открытых площадках, а в случаях плохой погоды – в закрытых местных концертных залах.
Первое, что бросалось в глаза – необыкновенно широкий спектр вовлечённости всех слоев населения в эти летние концерты. Люди располагались на траве, устраивали пикники и одновременно получали удовольствие от музыки. В некоторых местах взималась плата только за места под тентом, а для зрителей вокруг тента всё было бесплатным. Так как тенты были далеко не везде, то и публика была самая что ни на есть демократическая. Это, естественно, поражало после Москвы, где всё же симфоническая музыка в концертных залах собирала в основном просвещённую публику – студентов, интеллигенцию, служащих, но к «рабочему классу» оркестры сами приезжали на заводы и фабрики, где играли в перерывах между работой, или иногда в клубах и домах культуры.
Здесь люди сами приходили на такие пикники-концерты, собиравших и школьников, и родителей с грудными детьми, и рабочих, и вообще всех, кому хотелось посидеть на воздухе и посмотреть на работу большого оркестра, исполнявшего популярную музыку. Надвигался национальный праздник 4 июля – День Независимости США. По традиции в этот день все концерты на открытых и закрытых площадках обязательно заканчиваются исполнением «Увертюры-фантазии 1812 год» Чайковского, с салютом в конце сочинения и с исполнением в оригинале партитуры гимна «Боже, царя храни». Вот тогда, в июне 1980-го года я впервые услышал это сочинение в оригинале.
Вспомнился рассказ Михаила Никитича Тэриана, многолетнего руководителя оркестрового класса в Центральной музыкальной школе и Московской Консерватории. В 30-е годы он служил альтистом в оркестре Большого театра. А дальше его короткий рассказ: «Как-то мы репетировали с Головановым для концерта «Увертюру 1812 год». В это время решили вместо царского гимна вставить подходящее количество тактов из глинкинского хора «Славься!». Николай Семёнович крикнул нашему альтисту, по совместительству библиотекарю Абраменкову: «Федот! Ты там приклей эту вставку, но совсем не заклеивай!» То есть Николай Семёнович Голованов ещё надеялся, что Увертюра когда-нибудь будет исполнена в оригинале. «Когда-нибудь» произошло только после 1991 года, то есть через 38 лет после его смерти. Но всё же произошло! Так что в целом он оказался прав, что «насовсем» заклеивать это место не стоило.
Одни воспоминания тянули за собой другие. Сын Федота Абраменкова, мой соученик по школе и Консерватории Андрей Абраменков, был впоследствии многолетним скрипачом-солистом оркестра Баршая, а позднее и скрипачом всемирно известного Квартета им. Бородина. «Где-то он сейчас», – думал я сидя на открытой эстраде за 7 тысяч километров от Москвы. А Андрей прекрасно работал в квартете Бородина и даже частенько приезжал с ним в Америку, но я был так занят все первые годы – точнее восемь лет, работая полное время в МЕТ Опере и Нью-Джерсийском оркестре, что просто физически не мог ходить на концерты. Когда говорят о ностальгии, то мне кажется, что имеют в виду людей неработающих. Работающим тогда было не до ностальгии, на неё просто не было времени.
* * *
Мы начали свои репетиции концертов летнего сезона с главным дирижёром оркестра Томасом Михалаком. На первой репетиции исполнялась 3-я «Органная» Симфония Сен-Санса. Как и Левайн в МЕТ Опере, так и Михалак поглядывал на меня время от времени. Но и тут я был также полностью в курсе дел: было немного времени для ознакомления с материалом, впрочем, совсем несложным.
В эту программу входили Вариации для симфонического оркестра Айвза на тему американского гимна. Играл одну из вариаций совершенно фантастический трубач. Честно говоря, я таких трубачей после визита в Москву Бостонского оркестра и их солиста Роже Вуазена, не слышал. Солистка-валторнистка также обладала таким мастерством, что в Москве или Ленинграде за неё бы буквально дрались лучшие симфонические оркестры. Вообще группа духовых – медных и деревянных – впечатляла своим необычайно высоким уровнем: потрясающий строй, то есть идеально чистая интонация, совершенное виртуозное владение инструментами, абсолютно отличный от европейского звук – особенно у кларнетов и гобоев. Одним словом – каждая репетиция – праздник!
На второй репетиции я не увидел того трубача и поинтересовался, где он? Мне сказали, что он решил бросить играть в оркестре, так как это даёт очень мало денег на жизнь, и он ушёл в страховую компанию, где уже работала его жена. Это меня поразило не меньше, чем его игра.
Однако, пришедший ему на смену трубач играл весь готовящийся к концерту репертуар с таким же мастерством и лёгкостью, как и его предшественник. Я понял, что американская школа игры на духовых инструментах намного превосходит европейскую. О советской нечего было даже вспоминать – один Докшицер, два гобоиста – Эльстон и Амедян, один кларнетист Рафаэль Багдасарян… Ещё – Лев Михайлов. Это на всю Москву! Правда было в Москве три выдающихся флейтиста – Наум Зайдель и Александр Корнеев в БСО Всесоюзного Радио и Альберт Гофман в оркестре Московской Филармонии. Но в начале 70-х Наум Зайдель репатриировался в Израиль, где стал солистом Иерусалимского симфонического оркестра. И ни одного валторниста, достойного международного уровня! Солист Большого театра Рябинин был отличным исполнителем на валторне, но всё же для Москвы.
Нельзя также не напомнить, что оркестр Нью-Джерси Симфони не входил ни в «Большую десятку», ни тем более в «Большую пятёрку» лучших оркестров Америки. То есть он не имел достаточно денег, чтобы приглашать лучших дирижёров и лучших музыкантов со всего мира.
В следующем 1981-м году на конкурс в МЕТ Оперу на замещение одного вакантного места солиста-кларнетиста было подано 500 заявлений со всего мира! Решили прослушать только отобранные 120. А место одно! В итоге победил американец, работавший в оркестре Израильской Филармонии Джо Раббай. Вот такая конкуренция для поступления в лучшие американские оркестры.
Позднее, когда закончился летний сезон в Нью-Джерси я уже смог в августе подать заявление на пособие по безработице в штате Нью-Джерси. Они приплюсовали мой заработок в МЕТ Опере и я должен был получать тогда еженедельный чек в течение всего времени до возвращения на работу в оркестр МЕТ или в Нью-Джерси. Оказалось, что даже контрактные исполнители в оркестре МЕТ Оперы летом также получали пособие по безработице! Весьма либеральные законы в Америке были в ту пору.
Придя в конце августа в один из офисов, где оформлялись документы, я попал в девушке примерно 18–20 лет, очень симпатичной негритянке (или, возможно латиноамериканке). Прочитав мои документы, она сказала: «Какой вы счастливый! Вы скрипач такого уровня, что начали работать в МЕТ! Знаете, я тоже училась музыке много лет, играла на кларнете. У нас в школах почти везде школьные духовые, а иногда и симфонические оркестры. Но я поняла, что прожить этим не смогу. Вот и работаю пока здесь. А музыку очень люблю. Очень за вас рада и честно – завидую!»
* * *
С Михалаком мы сыграли в то лето огромный репертуар: несколько Симфоний Бетховена, пьесы современных американских композиторов, Симфонии Брамса, оперу Карла Орффа «Кармина Бурана», «Шехерезаду» Римского-Корсакова, «Вступление и вальс» – Сюиту из оперы «Кавалер розы» Рихарда Штрауса, 4-ю Симфонию Чайковского, «Музыку на воде» Генделя, и многое другое. И на каждом концерте – обязательно «Увертюру-фантазию 1812 год»! Оркестр участвовал в Международном летнем музыкальном фестивале в Ватерлоо – тут же в Нью-Джерси, конечно.
Томас Михалак был незаурядным скрипачом – в 16 лет он уже выступал как солист с оркестром Варшавской филармонии. Получил позднее премию на Конкурсе им. Венявского. А потом стал дирижёром. И очень талантливым дирижёром! Он никогда не бывал на эстраде неинтересным – всегда увлекал естественностью интерпретации, как бы вслушиваясь в своё представление идеального образа музыки. Его исполнение Симфоний Бетховена нужно признать превосходным. А Бетховен – истинное мерило уровня творчества дирижёра или пианиста. Михалак был замечательным стилистом – Моцарт, Брамс, Сибелиус, Чайковский, Барток или Римский-Корсаков – всё в его исполнении имело свой стиль, полностью соответствовавший духу музыки композитора.
Михалак очень хорошо относился к скрипачам и вообще исполнителям на струнных инструментах из России. Это, кстати, не придавало ему популярности среди некоторых членов оркестра. Они вполне естественно, как это им казалось, рассматривали наше появление как конкурентов и «отнимателей работы у коренных американцев». Иногда в артистических комнатах оркестра разражались довольно горячие споры. Некоторые члены оркестра, не стесняясь, говорили в нашем присутствии о «нашествии русских». На это мы возражали, что поскольку правительство США нас впускает в страну на законном основании с правом на работу, то и мы имеем право конкурировать за эту работу наравне с ними. Тут самые горячие из американцев сразу осекались – конкуренция есть конкуренция – основа прогресса этой страны со дня её основания. Кроме того – мы были, как и они, исправными плательщиками налогов. И когда иногда снова заходили те же разговоры, то мы им сразу указывали, что платим налоги не меньшие, чем они, так что никаких претензий к нам быть не может. Но неприязнь к Михалаку среди небольшой группы оркестрантов росла и в конце концов через четыре года он вынужден был уйти. А в возрасте 45-ти лет его не стало. Он умер в 1986 году. Но всё это было не скоро. Пока же я получал удовольствие от каждого концерта с Михалаком, от каждой поездки по городам штата Нью-Джерси, довольно большого и с красивейшей природой. Такие легендарные города, как Принстон, где жил и работал Альберт Эйнштейн, были очень живописными, чистыми, сохранявшими аромат прошлых эпох.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.