Текст книги "Отпуск"
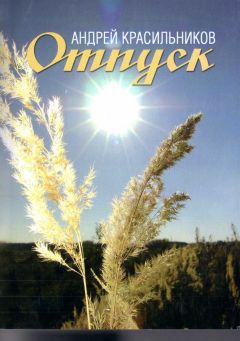
Автор книги: Андрей Красильников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Очередная пленарка в среду. Накануне седовласый заручается поддержкой потенциальных парламентариев ex-officio. Им-то поди плохо! В середине дня на секционных заседаниях раздают проект заявления. Мало того, что добавлен одиозный пункт, он ещё в более худшем виде, без слов «на переходный период». Но и это не всё. Появился новый абзац, не менее нелепый. По нему республика – суверенное государство в составе Российской Федерации, а все остальные субъекты – государственно-территориальные образования.
Народ бурлит. В куриях готовятся пламенные речи протеста: они таких дополнений не вносили.
При входе в Мраморный зал всем раздают свежеподписанный указ: работа Совещания продлевается как минимум на десять дней. Двадцать шестого – новое пленарное заседание «по итогам работы над проектом».
Речь седовласого, как всегда, из лоскутов. Одни поцветистей («становится реальным возрождение в России старинной традиции земства, а следовательно, и реальное участие граждан в решении общественных дел. Это корни народного представительства. Если они позволят вырастить крону сильного российского парламентаризма, наше Совещание, уверен, не раз ещё вспомнят добрыми словами»), другие совсем блёклые («на конституционный уровень выведены все основные права и свободы»).
– Назову по крайней мере две проблемы из всех, которые придётся решать. Интересно, какие же он выделит?
– Первое, идея самоопределения. Некоторые участники Совещания высказывают опасения, что она, особенно в сочетании с идеей суверенитета, способна привести в действие механизм самоопределения по принципу матрёшки. То есть дать толчок к самоопределению внутри самоопределившихся общностей.
Что за галиматья! Пугает дагестанцев, что у них какие-нибудь лезгины самоопределяться, что ли?
– Второе, у нас в проекте говорилось о том, что местное самоуправление отделено от государства. Но давайте подумаем, можно ли граждан государства, которые собрались сами решать насущные проблемы своей жизни, отделить от государства? Не правильнее ли будет говорить о разделении государственных органов и органов самоуправления на местах в том смысле, что каждый из них занят своим делом?
А где же «старинные традиции земства»? Или этот кусок писал другой обормот? Или спичрайтеры историю в школе не изучали?
Зал не реагирует. Ждёт прений. Тут уж они начнут рубить правду-матку!
– …поскольку уже вскоре мы приобретём новую конституцию, сейчас надо подумать и о новых парламентских выборах. Следовало бы особенно посоветоваться об их сроках.
«Особенно посоветоваться!» Ну и грамотеи! Значит, об октябре речь уже не идёт. И здесь его сломали, «дантоны» проклятые!
– …сегодня нам надо определиться с основополагающими принципами, которые лежат в основе проекта. Наиболее приемлемой для этого формой могло бы стать Заявление сегодняшнего нашего Конституционного совещания, пленарного заседания. Некоторые предлагали Декларацию, но, наверное, это слишком возвышенно; рабочее, промежуточное название – Заявление, наверное, более подходит. Я хотел бы зачитать Заявление.
Так, где старый текст? Сейчас сличим.
Поначалу редакционная правка вполне допустимая. Человеческое достоинство из «абсолютного и нерушимого» превращено в «неприкосновенное», а права и свободы человека стали ещё и «неотчуждаемыми». Всё слова, слова, слова…
Кое-что добавлено: защита конкуренции, свобода договора, поощрение деятельности, способствующей экологическому благополучию, укреплению здоровья граждан, гарантия местного самоуправления. Но и выброшено немало: указания, что любой государственный акт оспорим в судебном порядке, что законы принимает только парламент, а президент подконтролен народу, закону и суду. Видно, добавляли «дантоны», а вычёркивал он сам.
А где же «яблоко раздора»? Точнее, два яблока?
– Как вы заметили, я не зачитал два абзаца в том розданном вам документе, который имеется. Сегодня при консультациях в группах и при обсуждении проекта Заявления большинство групп посчитало, что эти два абзаца пока включать в промежуточное Заявление преждевременно, надо ещё очень и очень тщательно поработать над их формулировками.
Я думаю, что снял напряжение у многих.
Учитывая, что это обсуждалось с руководителями областей, краёв, руководителями республик, учитывая, что это обсуждалось в группах, есть предложение не обсуждать и не открывать дискуссию по этому документу, а проголосовать.
Вот такой пируэт! Никаких прений. Скольких же он надул?
– Итак, число зарегистрированных участников – 594. Проголосовало «за» – 467, или 82 процента.
Аплодисменты.
– Заявление о проекте новой конституции Российской Федерации принимается. Спасибо вам за дружную, активную и быструю работу.
А вам – за очередную трусость! Иногда и она бывает полезна.
Глава двадцать вторая
1
Оптимистический прогноз синоптиков, обещавших ясный день, не оправдался: сочинение пришлось писать в дождливую погоду.
Оно и к лучшему: не так обидно просиживать несколько часов в душном помещении. Осадки осадками, а жара уходить не собирается, видно, притаилась над тучами и ждёт своего часа.
Свободную тему Толя брать не решился. Не знаешь теперь, на какого экзаменатора напорешься. То, что тебе кажется белым, ему может видеться чёрным, и наоборот. Мама тоже советовала откровенных рассуждений по актуальным вопросам избегать. В них, кстати, и синтаксис всегда сложнее, значит – больше вероятности наделать пунктуационных ошибок.
Он писал по Лермонтову. Об особенностях его патриотизма на примере лирических произведений.
«Люблю отчизну я, но странною любовью!» А чего ж тут странного? Поэт сразу признаётся, что любит сердцем: «не победит её (то есть любовь) рассудок мой». Рассудку противопоставляется глубокое внутреннее чувство, порождённое холодным молчанием степей, колыханием безбрежных лесов, разливами широких рек. Любит он не историю, не славу, купленную кровью, а простых людей, пляшущих с топотом и свистом, живущих в бедных избах с соломенной крышей. Своими стихами автор бросает упрёк пафосному патриотизму романтиков, тому же Хомякову с его слащавой славянофильской «Отчизной». Он – продолжатель новой школы, основанной Пушкиным, школы реалистического отображения действительности.
Некоторые склонны видеть противоречие между этим стихотворением и созданным в том же году произведением «Прощай, немытая Россия…». Но последнее нужно рассматривать в свете раздумий другого лирического героя, схожего с главным персонажем романа «Герой нашего времени» Григорием Александровичем Печориным. «Быть может, за стеной Кавказа / Сокроюсь от твоих пашей», – это слова не Лермонтова, а Печорина, уезжающего в Персию. Сам поэт никогда не был «за стеной Кавказа» и не стремился туда. Поэтому никакого противоречия между патриотизмом автора и нелицеприятными высказываниями его лирического героя, осуждающего рабскую покорность народа и тоталитарный контроль над умами, нет.
Кстати, парадоксальность любви Печорина сродни чувству поэта к отчизне. Княжну Мери, юную красавицу, стремящуюся к нему так, что только руку протяни, он не любит. Зато сохраняет страстное чувство к замужней чахоточной Вере с родинкой на щеке. В этом – ключ к пониманию стихотворения «Родина». Только поверхностная любовь нацелена на очевидное. Глубокое чувство порождается обычно чем-то невидимым глазу. Мери – это аналог славы и преданий тёмной старины. Она «не шевелит отрадного мечтанья». Вера же – подобна белеющей берёзе среди жёлтой нивы, резным ставням, полному гумну, огню печальных деревень. Нормальный человек любит именно так: и родину, и женщину. Этим открытием поэт дорог нам и сегодня. Продолжатель и поклонник Пушкина, он никогда не смог бы написать:
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует…
Лермонтов видел этого врага на расстоянии штыка. Он сам участвовал в кавказской кампании. Но смысла её не понимал:
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места хватит всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
На мой взгляд, любовь лермонтовского лирического героя сильнее и искреннее, чем пушкинского. В простоте человеческого чувства патриотизма может быть не меньше, чем в величавой одической помпезности. Автор «Полтавы» и «Медного всадника», безусловно, любит Россию, но и автор «Валерика» тоже, возможно, странною для того времени любовью. Сейчас, когда мы научились ценить человеческую жизнь, окружающую среду, культурное достояние выше геополитических интересов, она уже не кажется необычной, и мы благодарны тому, кто первым раздвинул горизонты патриотизма.
По соседству пыхтел, испытывая муки слова, Василий. Он не мудрствуя лукаво шпарил о героизме советских солдат в Великую Отечественную войну на примере своего тёзки Тёркина. Не будучи уверенным в правильном написании того или иного слова, поминутно дёргал Анатолия:
– Перипетии через е пишутся или через и?
– После какой буквы?
– После р.
– Через и.
Вскоре новый вопрос:
– Пребывать через е или через и?
– Смотря в каком контексте.
– Пребывать в чувстве гордости.
– Через е.
Крутилину такие обращения соседа мешали сосредоточиться, пуще того он боялся санкций со стороны грозных надзирателей, запрещавших подсказки под страхом удаления с экзамена. Он бы мог сдать работу раньше срока (на всё про всё, включая переписывание набело, ушло чуть больше полутора часов), но новый друг заранее попросил посвятить остаток времени проверке его черновика.
Да, в литературе молодёжный вожак явно не горазд! И язык какой-то кондовый. Идеологически правильный, но стилистически бедный. Таким массы на подвиги не вдохновишь. А уж грамматика – хоть плачь. Каждая вторая запятая пропущена. Не окажись на его пути столь верный товарищ – не видать бы ему и тройки. В какой-то момент Толика охватило даже чувство гордости: он тоже может быть полезен ближнему, тоже может выручить в трудную минуту. В сознании всплыл образ бойца, вытаскивающего раненого командира из-под вражеских пуль. Да, старших по званию надо спасать. А в той незримой борьбе, в которую они вступили, что ни говори, лидер пока Вася.
Когда друзья оказались наконец на улице, вдохнули влажный воздух и зашлёпали по лужам под надёжное укрытие столичной подземки, борец с всевластием буржуазии признался:
– Если б не ты – мне хана. Спасибо тебе огромное. Ввек не забуду. Отныне я твой должник.
Согласитесь, слышать такие слова всегда приятно, а в восемнадцать лет вдвойне. К тому же от своего идейного поводыря. Крутилин мигом забыл неприязнь, охватившую его на мгновенье, когда он почувствовал, как беспардонно ему садятся на шею. Вспомнился случай из давнего детства. Забрались они с соседским мальчишкой в какую-то глубокую траншею, а выкарабкаться назад не могут. Края осыпаются, ноги проскальзывают, коленки уже все в крови, и никакой надежды на спасение. Насилу Толику удалось, продолбив в земляной стенке ямки, выпростать руки на поверхность. Оставалось лишь подтянуться и перевалиться через край. И в этот момент испугавшийся остаться в одиночестве приятель вцепился ему в опорную ногу. Оба полетели назад, вниз и сильно ушиблись. Долго потом пришлось выбираться заново. И всё же первым опять это сделал он. Ну а остальное – дело техники. Опустил длинную палку, и трусишка-напарник тут же по ней и вылез.
Дай Бог и сейчас выйти из этой переделки обоим!
Дома он подробно изложил матери содержание своей работы. Евгения похвалила за оригинальность, но удивилась, почему он не стал писать о Тёркине:
– Там же всё гораздо проще. Литература социалистического реализма идейно и эстетически прямолинейна. Смысловые акценты однозначные. Не рискуешь нарваться на непонимание проверяющего.
– Я не люблю исхоженные тропы, – ответил сын. – Даже в минуты опасности они не всегда выручают. На них, утратив бдительность, скорее споткнёшься. Напряжение мобилизует лучше.
Спорить с ним она не стала. А он, конечно же, не рассказал её, что более простую тему сразу выбрал Вася, и тем самым закрыл её для него наглухо: угрозы списывания, чреватой самыми непредсказуемыми последствиями, ему бы избежать не удалось.
О помощи Василию Толя вообще не проронил ни слова.
2
Сначала был один съезд. Седовласый со своим сволочным характером отметился и там. Ему бы пересидеть тихо, а он влетел на трибуну, как петух на насест, и начал обличать жирондистов, словно они его курочки. Разве не видно, что тех большинство, что настроены против него, что голосов в запасе – кот наплакал. На своих даже кидаться стали. «Бриссо» и то пришлось каяться перед ними. Отшутился: бес, мол, в декабре попутал. Правда, имя беса не назвал.
Содержательная часть речи седовласого сводилась к такой мысли: вас развелось слишком много, но из чувства гуманизма мы решили не убивать, а кастрировать. Лучше, если вы оскопите себя сами.
Такие предложения депутаты дружно забаллотировали. Тут бы и веснушчатый не помог, но он, похоже, пока в драчку не встревал.
Старик с «Бриссо» и главным сенатором заперлись в Зелёной гостиной, но так ничего и не решили. Слабак он вести переговоры с этой парочкой!
Наутро Съезд поставил крест на столь желанном для седовласого референдуме и мирно разъехался. На прощание хитрые жирондисты решили бросить кость изголодавшемуся народу: заложенные в бюджет на организацию всеобщего опроса двадцать миллиардов частично направили на социальную защиту гражданских, частично – на обустройство военных. Всем сестрам по серьгам досталось.
– Вадим Сергеевич, что будем дальше делать? Без вашей фантазии сейчас не обойтись.
Разговор состоялся в воскресенье. Ехать на работу не хотелось. Эта ползучая война начинала осточертевать.
– Вряд ли могу чем-нибудь быть полезен. Основы у нас, увы, не те. Их надо менять.
– Вы имеете в виду конституцию?
– Конечно. Ею заняться согласен. А референдум – не моя стихия. Возня вокруг него даже для моего масштаба мелковата. А уж вам он зачем – совсем в толк не возьму.
– Странно, если вы не понимаете таких простых вещей. Меня избрал народ. Они грозятся отрешить. К кому мне апеллировать?
У старика с коммунистических времён оставалась привычка говорить с трибунным пафосом даже за чашкой чая.
– А я как раз народа и боюсь. Он сильно изменился за два года. Может проголосовать не в нашу пользу. Во всяком случае, такого процента, как в девяносто первом, нам не видать. Оппозиция поспешит истолковать разницу в свою пользу.
– Значит, не хотите поработать на восстановление референдума? – решил подвести черту под темой седовласый.
Чего таиться: дело по любому счёту гиблое. Никак тут не выиграешь.
– Не хочу.
Не захотели и другие. Нашлось лишь пять чудаков, написавших невнятный указ об особом порядке управления страной. Получился ОПУС, и по аббревиатуре, и по возникшим последствиям.
Когда седовласый в субботний полдень записал телеобращение к нации, выяснилось, что визы под указом тех, кому надлежит их ставить, отсутствуют. Срочно посланные к высшим сановникам эмиссары вернулись ни с чем. Плёнку уже доставили в аппаратную. Пускать в эфир или нет? Решили идти до конца.
Из лиц, облечённых властью, против этой авантюры восстали решительно все. Сетка вещания на основных каналах полетела ко всем чертям. Один за другим ведущие политики возмущались вопиющей попыткой узурпации, прикрытой ради пущего популизма обещаниями в двухдневных срок наделить всех граждан землёй, выделить кредиты среднему и малому бизнесу, снизить налоги и компенсировать потери по дореформенным вкладам в сбербанк. Даже номер два, спешно вызванный в парламент, уклончиво заявил: «Всенародно избранный президент имеет право выступать и обращаться к народу. Другое дело, конституционно или неконституционно его обращение. В этом пусть специалисты разбираются».
Те разобрались очень быстро. Прививка сталинского ОСО на разветвлённое древо российской демократии не удалась. Позже выяснилось: указа такого вроде бы и не было. Вышел он потом, через четыре дня, в сильно усечённом виде. Получается, что седовласый народу попросту соврал. А депутатов попугать решил. Давно в такую лужу никто из правителей не садился!
Тут же собрался новый съезд. Сгоряча парламентарии решили начать с импичмента, благо сенат на то добро им дал. Знали бы наивные люди, какой «подарок» готовят им на случай успеха этой процедуры! На балконы Большого Кремлёвского дворца уже завозились ёмкости с хлорпикрином. Раздражающий газ, не переносимый человеческим организмом, не задумываясь, пустили бы в переполненный зал при первом же сигнале о положительном итоге голосования. Сражённые сильным химическим оружием, депутаты уже не смогли бы принять итоговое постановление, утверждающее протокол счётной комиссии. Для сохранения власти седовласый был готов на всё.
Правда, накануне блеснул маленький лучик надежды. Удалось уговорить его на замену референдума досрочными одновременными перевыборами обеих противоборствующих сторон через восемь месяцев.
Но наутро законодатели этот вариант не поддержали. «Сговор номенклатур!» – орали они. Ну и зря не пошли на мировую! Потом, небось, локти кусали.
Начали опускать в урну бюллетени. Когда подсчитали, выяснилось: веснушчатый постарался на славу. Нейтрализовал больше четырёхсот человек. Импичмент не прошёл.
Седовласый сразу рванул к Василию Блаженному, где уже собрались тысячи людей. Толпа вторила его радостному крику: «По-бе-да!»
Конечно, победа. Она была уже утром, когда удалось спровоцировать безудержную агрессивность депутатов. «Даже рассматривать такой документ постыдно!» – разорялся предводитель левых. В слепом угаре и на «Бриссо» набросились, обвиняя в предательстве и соглашательстве. Чуть было его за компанию не отправили в отставку. Голосовали даже по этому поводу, но в последний момент спохватились. Какие же всё-таки идиоты! Будь постановление о синхронных перевыборах принято, скандировать слово «победа» могли бы сейчас они. Чем не повод: сократили вдвое срок пребывания седовласого у власти и показали всему миру его несостоятельность. Да все инструменты исправления старой и принятия новой конституции оставались бы в их руках. Даже закон о новых выборах могли бы под себя сделать. Теперь они – сторона проигравшая.
Не пройдёт и года, место «Бриссо» в новом, урезанном во всех отношениях парламенте займёт тот самый предводитель левых и окажется ещё большим соглашателем. Но это случится уже в принципиально другом государстве.
Пришлось прямо на митинге заново налаживать с седовласым отношения: подойти, поздравить, выразить восхищение выдержкой (он к тому же ещё и мать за неделю до этого потерял).
Старик пребывал в благодушном отношении и дал понять, что старые обиды, если они и были, забыты:
– Знаю: референдум для вас мелковат. Беритесь за конституцию. Может скоро пригодиться.
Этого указания он ждал ровно три года, со дня их знакомства.
Конституция всегда была его заветной мечтой, главным маяком всех грёз. Иные мечтают отличиться на поле сражения, в науке или на сцене, стать знаменитыми писателями или народными трибунами. Он с детства желал для себя лишь одной славы: творца первой российской конституции. Именно российской, поскольку в распаде советской империи никогда не сомневался. И кто же даст ему составлять основной закон тоталитарного государства! После семьдесят седьмого стало ясно: с этим безграмотным «паспортом» систему разлучит только смерть.
Он искренне желал, чтобы его детище пережило впоследствии создателя, не стало однодневкой, как у французов, а обрело бы американскую монументальность. Пусть со временем принимают поправки, нумеруют их, но сам изначальный свод должен оставаться незыблемым.
Появление во главе оппозиции человека, далёкого от правоведения, его вдохновило. Было ясно, что этот человек вскоре возглавит Федерацию, а затем захочет и сумеет превратить её в самостоятельное государство. Но грамотно оформить документы сам не сможет. Через общих знакомых он стал искать возможность встречи, задушевного разговора.
Произошла она, когда оба уже имели в кармане депутатский мандат. Седовласому, вербовавшему команду, его представили как неординарно мыслящего юриста. Тому такая рекомендация запала в память.
С тех пор на всех крутых виражах этой гонки на выживание Никольскому неизменно выпадала роль лоцмана. Остальные менялись довольно часто, оставались на местах только капитан и лоцман.
3
Поговорить втроём в четверг не удалось. Днём Ланскому позвонил Леонид и предупредил, что приехать на дачу сегодня не сможет. Попросил перенести встречу на завтра.
– А чего ты сам Вадику не скажешь? – удивился Александр. – Набрал бы его номер, и делу конец.
– Да мне как-то неловко, – ответил Крутилин.
Эх, «Портос» есть «Портос»! И всегда им останется. Наверное, поэтому и жизнь у него сложилась не лучшим образом.
Пришлось идти в гости одному. Дождь опять лишил возможности начать общение на корте, зато удлинил вечерние посиделки.
Вадим уже давно был дома. Их свидание с Миррой ограничилось катанием на автомобиле. Съездили в соседнее село полюбоваться на отреставрированный храм, который Никольский помнил с раннего детства. Ох, и боялся он, в отличие от Лёни и Алика, лазить на колокольню по истёршимся от времени ступенькам! Наверх взбираться ещё куда ни шло, а вот назад – хоть садись на попу и съезжай, как с ледяной горки. Но страх свой обнаруживать перед друзьями стыдно. Поэтому он добровольно вызывался стоять на стрёме: хоть церковь и не действующая, внутри вся разграблена и загажена, но местные по головке не погладят, если заметят восхождение чужаков к её сводам.
Теперь не развалины, а игрушечка! И службы по воскресеньям и двунадесятым праздникам идут. Кстати, помогла статья Ланского в центральной печати. Он и сам хотел подбросить деньжат на ремонт, но закрутился и забыл. Ладно, авось Господь простит.
Всё бы хорошо, вот только ландшафт сильно изменился. Обступили старушку (почти три века стоит, с петровских времён) со всех сторон аляповатые коттеджи. Иные даже повыше купола будут. Теряется она от такого соседства. Красота ведь не только в изяществе самого сооружения, но и в слиянии с сотворённым Богом миром. В прежний пейзаж вписывалась она идеально: между лесом и косогором, позади лугов с высокими стогами. По своей гармонии с природой чем-то напоминала знаменитый храм Покрова на Нерли. Сейчас же возрождённое совершенство архитектурной пластики лишалось первоначального ансамбля. И вся прелесть блёкла.
Мирра его досады не разделяла. Она старого села не знала да и под Владимиром не бывала, как и в самом древнем городе на Клязьме. Ей лишь бы дома побогаче стояли.
Впрочем, простой девчушке, никогда не видевшей достатка, это простительно. Он вспомнил своих одноклассников из вполне интеллигентных семей, радовавшихся разорению собственных гнёзд в арбатских переулках при прокладке широкого проспекта со стеклянными башнями. Вырасти среди разнообразия зодческой индивидуальности, пиршества творческой фантазии известных мастеров и приветствовать безликое серийное уродство! Объяснялось всё просто: при переселении их ждали простор и удобства, избавление от соседей и надоевших родственников, пляжи и лесопарки напротив подъезда вместо тесных двориков, иными словами, роскошь новой эпохи. Ценить совершенство вневременного значения можно лишь с высоты собственного благополучия.
Вернулись домой к обеду. От поцелуев в машине «папочка» уклонился: не любил распалять себя понапрасну. После трапезы прилёг почитать. А тут уже и Алекс.
Отсутствие Крутилина не слишком расстроило Вадима:
– А мы и завтра можем здесь собраться. Я пока уезжать не собираюсь.
Ланской понимал, что главный разговор нужно отложить до полного сбора друзей. Поэтому тему поднял хотя и близкую, но достаточно личную, исповедальную, чтобы обсуждать её втроём. Впрочем, Леониду он уже подобные мысли излагал.
– Несовершенство мира меня угнетает не меньше твоего. Но я привык бороться с ним в одиночку и ничуть не расстраиваюсь от отсутствия компаньонов. Это великое преимущество писателя над политиком. Можешь запереться в башне из слоновой кости и вести прицельный огонь по всем порокам сразу. Даже, если не сразишь их при жизни, имеешь шанс сделать это после смерти. И там, в лучшем из миров, продолжаешь следить за ходом начатой тобой кампании, тогда как остальные вокруг уже бессильны на что-то влиять и наблюдают за происходящим как зрители, как Пьер Безухов Бородинское сражение.
– Неужели в сорок пять лет можно утешать себя такими иллюзиями? Совершенно отказываюсь тебя понимать, – вполне искренне удивился Вадим.
– Мы с тобой видим мир с разных точек. Ты, подобно полководцу, – со своего командного пункта. Я же – sub specie aetermitatis.
– Извини, старик, за невежество, но я уже напрочь забыл латынь, – с ухмылкой матёрого волка перебил его Никольский.
– В переводе на русский – с позиции вечности.
– По-моему, любезный «Атос», вам следует смирить гордыню.
– Какая же гордыня? Это основной творческий принцип настоящей литературы, – с подчёркнутым хладнокровием ответил на выпад Александр.
– А что, бывает ещё и ненастоящая?
– Конечно. В великом изобилии.
– И как она называется?
– По-разному. Всё зависит от методики подхода. Если с позиции вечности – значит, настоящая. Если с позиции сегодняшнего дня – значит, конъюнктурная. Если исходя из сиюминутного интереса толпы – массовая, развлекательная. Если по заказу издателя, нацелившегося на барыш, – коммерческая. В хороших магазинах так и ставят на полки: детективы, женские романы, фантастика… И отдельно – художественная литература.
– Говоришь: настоящая и конъюнктурная. А как их различать?
– Иногда это может только время. Грань подчас едва заметна. «Борис Годунов» – по одну сторону, «Рука Всевышнего отечество спасла» – по другую.
– По-твоему получается: все политики – конъюнктурщики.
– А как же! По-другому и быть не может. Вы же в реальном мире действуете и своими земными годами ограничены. Поэтому вам приходится свои оценки людей, событий, явлений хоть каждый день менять. Вы даже должны это делать. Мы же поглядываем на всё как бы сверху, откуда каждый человечек кажется маленьким. Выделяется лишь осиянное благодатью свыше. Конечно, нужно суметь найти такой безошибочный ракурс. Для этого иногда приходится занимать не слишком удобное положение. Вспомни Княжнина, Достоевского, Заболоцкого. Но из царских палат уж точно ничего не разглядишь. Неспроста женатый Пушкин бежал из Петербурга как чёрт от ладана. Обрати внимание: всё лучшее в эти годы написано им в Болдине, Михайловском, Москве, где угодно, только не в столице. Жуковский, поселившись на чердаке Зимнего, вообще умер как поэт и отчасти возродился лишь в Германии. А во что превратился талантливый Фадеев, осев на Поварской? Шолохов же устоял от соблазна, остался дома, на Дону, и превзошёл его по всем статьям. Ты недавно бросил мне скрытый упрёк в политической пассивности. Это и так и не так. В пучину придворных склок я никогда не погружался и погружаться не намерен. Есть, знаешь, чемпионы по классическому плаванию, а есть – по заплывам в грязной воде. Вторые никогда не обгонят первых в бассейне, но и не уступят им в своей излюбленной среде. Я, между прочим, всегда политикой занимался. Но политикой другого рода. Внимательно слежу за всем, даю оценки и советы. Не в лоб, не открытым текстом, как журналисты, но умный да услышит, а дурака никакая подсказка не спасёт.
– И как же ты оцениваешь наших самых известных фигурантов?
– Во-первых, как ты, наверное, убедился, я никогда не называю имён. Во-вторых, все они – мелкие людишки. Это заметил даже один отставной царедворец, весьма к месту процитировавший на сей счёт Талейрана. А другой неудачник подковёрных баталий в своей непосредственной солдатской откровенности признался, что желание влезть в политику возникло у него, провинциала, после первого живого общения с героями телехроник в кулуарах одного из съездов. Небожители при ближайшем рассмотрении показались ему жалкими пигмеями. Блестящий и очень образный пример! И всё же был среди этих лилипутов свой Гулливер. Ничего не могли они с ним поделать. Пришлось связать, пока тот спал. Гулливер жив и поныне, пишет умные книги, и чертовски жаль, что он не у дел. Не его жаль – страну. Вот это имя сохранится в истории, а всяких лилипутиных быстро забудут.
– Ты не преувеличиваешь?
– Я говорю sub specie aetermitatis. Бескровно демонтировать прежнюю систему в считанные годы мог только истинный титан. И сделал он всё очень красиво и совершенно бескорыстно. Если б не его самоотверженность – нынешней весной с неизменным успехом прошёл бы всё тот же спектакль под названием Тридцатый съезд, его бы опять выбрали генсеком, вручив в связи с семидесятилетием очередную звезду Героя. Я бы по-прежнему измерял глубины Земли, ты – преподавал в МГУ историю права, две трети бюджета страны шли бы на гонку вооружений, а две трети бюджета семьи – на добывание пищи из-под прилавка. Этот человек велик, как бы ни издевалась над ним наша пресса – самое глупейшее и бездарнейшее порождение нынешней серой эпохи.
– Журналисты, значит, с вечностью не в ладах?
– Не они с ней, а она с ними. Не принимает суетливого угодничества.
– Но есть же и независимые.
– Все они, в сущности, однотипны. Все подвержены воздействию закона земного притяжения. Литература же парит над грешной твердью. Каждый, в силу таланта, поднимается на разную высоту, но без ощущения свободного полёта бессмысленно браться за перо. Репортёру, каким бы отчаянным он ни был, важно, что скажут о его статье сегодня. Он не может уповать на внимание потомков, поскольку через десять лет газета пожелтеет, а через сто – истлеет. Строки писателя – нетленны, рукописи его не горят. И творит он не только для современников. Какая ж радость, если тебя будут носить на руках, как Кукольника, Коцебу или Потапенко, а потом, в лучшем случае, включат одну страничку в антологию – общую братскую могилу для рядовых и генералов? Писатель должен всегда задумываться о тех временах, когда постоять за себя не сможет. И детей со знакомыми уже не останется. Кто его тогда защитит от забвения и злословья? Только правда. Вот это я и называю писать sub specie aetermitatis: правду не только дня сегодняшнего, но и дня завтрашнего, правду отныне и во веки веков. Поэтому не суди меня строго за критический тон. Я зарёкся называть одно и то же двояко: для узкого круга и для широкого читателя. Прости, но говорю даже друзьям наедине точно так, как пишу. Тебе же это может только помочь: от других ты подобного не услышишь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































