Текст книги "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам"
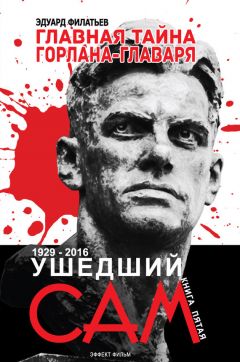
Автор книги: Эдуард Филатьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 64 страниц)
В конце зимы (или в самом начале весны) 1930 года ФОСП (Федерация объединений советских писателей) затеяла строительство кооперативного дома – как раз напротив Художественного театра (в Старопесковском переулке).
И Маяковский, решив, что хватит «думать», надо «делать», отправился к Владимиру Сутырину, секретарю Федерации. Сутырин потом написал, что эта встреча произошла:
«…где-то в начале 30-х годов (может быть, это было в марте или феврале), – Маяковский попросил меня встретиться с ним, сказав, что у него ко мне есть просьба. И мы назначили эту встречу в Доме Герцена, в комнате журнала „На литературном посту“.
Как мне удалось установить, это был воскресный день…
Я пришёл, нашёл ключ, открыл комнату, нашёл Маяковского. Он сидел на столе, и мы заговорили.
Так как Федерация получила несколько миллионов рублей на жилищное строительство, то мы начали строить писательский дом, и он сказал, что ему очень нужна квартира.
– Вот строится дом и к осени будет готов, и я бы просил, чтобы мне дали квартиру, так как я больше на Гендриковом жить не могу.
Это был момент, когда Брики были за границей. Он сказал только одну фразу, что я бы хотел, если бы это было можно, уехать оттуда раньше, чем они возвратятся из-за границы.
Я сказал, что это вряд ли возможно, потому что раньше осени ты квартиру не получишь.
– Ну, что же, я сделаю иначе. Я что-нибудь найму, а осенью условимся, что ты мне дашь поселиться в отдельной квартире».
Если верить Сутырину, что его встреча с Маяковским состоялась в воскресенье, то это, скорее всего, произошло в марте. Ведь практически весь февраль поэт был в Ленинграде, в пятницу 7 марта вернулся в Москву, а 9-го было воскресенье.
Маяковский подал заявление о вступлении в жилищный кооператив ФОСПа. И тотчас сообщил Веронике Витольдовне…
«…что он записался на квартиру в писательском доме против Художественного театра.
Было решено, что мы туда переедем.
Конечно, это было нелепо – ждать какой-то квартиры, чтобы решать в зависимости от этого, быть или не быть нам вместе, но мне это было нужно, так как я боялась и отодвигала решительный разговор с Яншиным, а Владимира Владимировича это всё же успокаивало».
15 марта Маяковский отправил в Берлин коротенькую телеграмму (от себя и от собаки Бульки):
«Целуем любим пишем очень скучаем Счен Буль».
Если судить по отправленным Брикам телеграммам, то может сложиться впечатление, что Маяковский во время их отсутствия страдал от одиночества и коротал время в обществе маленькой собачки. Однако Лили Юрьевна и Осип Максимович прекрасно знали, что это не так – ведь сразу же после их отъезда в Берлин в опустевшую квартиру в Гендриковом переулке въехал Лев Гилярович Эльберт.
Зачем?
Ответ на этот вопрос пытались найти ещё в советские времена. Журналист Валентин Скорятин в одной из своих публикаций написал:
«Рискну предположить, что пребывание Льва Гиляровича на Гендриковом не было случайным. К тому времени, полагаю, в ОГПУ знали о метаниях Маяковского, и Эльберт мог не только „опекать“ становившегося опасно неуправляемым поэта, но и по поручению „органов“ вести с ним какие-то переговоры».
Отдавая должное прозорливости и проницательности Скорятина, заметим всё-таки, что никаких особых «метаний» у Маяковского тогда не было. Да, на предновогоднем вечере он был замкнутым и хмурым, но что в этом такого? Да, на юбилейной выставке он выглядел чересчур усталым и одиноким, но с кем подобного не бывает? Ведь уже на конференции МАППа Владимир Владимирович был как всегда подтянутым и энергичным! К тому же ОГПУ никогда и никого не «опекало» – ей подобное занятие было просто не свойственно. Что же касается «переговоров», которые якобы вёл с поэтом Лев Эльберт, то и про них тоже можно сказать, что со своими сотрудниками никаких переговоров Лубянка никогда не вела, а просто отдавала приказы, которые следовало неукоснительно выполнять.
А в отношении того, что Маяковский якобы становился «опасно неуправляемым», сразу возникает вопрос: «опасным» для кого?
Для страны?
Для партии?
Просто для окружающих?
Практически все дошедшие до наших дней документальные свидетельства говорят о том, что никакой опасности ни для кого Маяковский не представлял. Кроме, разумеется, Бриков и Агранова, которых он так безжалостно высмеял в «Бане», а премьера спектакля по этой пьесе стремительно приближалась.
Валентин Скорятин обратил внимание и на такой удивительный факт:
«…ни Лавут, ни Гринкруг в своих воспоминаниях не называют Эльберта. То ли ни разу в Гендриковом его не заставали, то ли заставали, но умолчали о встречах с ним по той же причине, по которой многие мемуаристы долгие годы не называли имя другого персонажа из окружения поэта – ЯАгранова».
Как бы там ни было, но вопрос остаётся: чем же всё-таки занимался в Гендриковом переулке Лев Гилярович?
На этот вопрос так и тянет ответить вопросом: а чем же ещё может заниматься террорист-гепеушник, как не подготовкой к очередной операции?
Эльберт этим и занимался. Готовил к новой поездке за рубеж агента ОГПУ Владимира Маяковского.
30 апреля 1930 года в двенадцатом номере журнала «Огонёк» появилась статья Эльберта «Краткие данные». В ней рассказывалось о некоторых событиях из жизни Маяковского, свидетелем которых оказался Лев Гилярович. Он привёл некоторые высказывания поэта, в том числе и откровенно «ревнивые», в которых Владимир Владимирович завидовал более удачливым коллегам-гепеушникам:
«Ужасно мне жалко, что не мы украли Кутепова, – чистое предприятие! Люблю славу – пусть она боится нас. Вдруг сопрём Кияппа. Как полагаете, нужен нам Кияпп, при деньгах, конечно?»
Кто такой Кияпп, и зачем надо было его «красть», станет ясно, если полистать газеты той поры. 30 марта «Комсомольская правда» поместила карикатуру на лысоватого мужчину с крючковатым носом, а рядом – заметку-пояснение:
«Кияпп, начальник парижской полиции, выступил на днях с вызывающим антисоветским заявлением, в котором указывал, что „Россия издевается над нами“. Кияпп – злейший враг революционного движения и один из авторов пресловутого „плана Зет“ (план "защиты "Парижа от революции)».
В том же марте и журнал «Огонёк» поместил статью о Кияппе:
«Кияпп, префект парижской полиции – корсиканец по родителям и по профессии. Он маленького роста, подвижен, он – скептик, циник, он любезен той особой полицейской любезностью, которая внезапно и коварно взрывается мордобитием, тщится быть остроумным, католик и антибольшевик…
После дела Кутепова вас прогонят из полиции, господин Кияпп».
Приведя в своей книге эти две фразы, Валентин Скорятин добавил:
«И после этих строк, из которых так и рвётся торжество победителя в январской схватке с префектом, следует подпись: „Л.Э.“ Он же, как легко догадаться, Лев Эльберт».
Вот, стало быть, какого Кияппа собирался «спереть» Владимир Маяковский. Говоря при этом Эльберту:
«Ужасно не хочу войны! Если случится – приду с чекой в Париж, знаю состав этого города. Буду полезен».
Иными словами, поэт во время своих продолжительных «сидений» в столице Франции изучал «состав этого города»? На случай грядущей революции. Готовясь вслед за красноармейцами войти «с чекой» в Париж и заняться чисткой его «состава».
В свете этих высказываний Маяковского совсем иначе воспринимается уже цитировавшийся нами его ответ на вопрос о целях приезда в Варшаву в 1927 году:
«Познакомиться с людьми, посмотреть город…»
Так и тянет добавить: «и как можно лучше узнать его "состав "».
Сразу вспоминается другой поэт, который незадолго до смерти написал:
«И долго буду тем любезен я народу,
что чувства добрые я лирой пробуждал».
А наш герой в аналогичной ситуации заявил:
«Буду полезен чеке, так как знаю "состав "этого города».
Что тут можно сказать? Только повторить мудрое изречение древних латинян: cuique suum (каждому – своё)!
Продолжая расследовать версию о мести, которую намеревался совершить Агранов, логично предположить, что «одинокого» Маяковского должны были окружать соглядатаи, расставленные Яковом Сауловичем. И каждый из них должен был выполнять свою задачу.
Кто же мог сообщать в ОГПУ о каждом шаге «одинокого» поэта? Этими соглядатаями вполне могли быть и Павел Лавут, и домработница, которая вела хозяйство в квартире в Гендриковом переулке, и шофёр, возивший поэта по Москве, и кто-то из соседей Маяковского в доме по Лубянскому проезду, и Евгения Соколова (гражданская жена Осипа Брика), и неожиданно появившийся в Москве Лев Гринкруг, и Владимир Сутырин и даже Верника Полонская. Каждого из них Яков Агранов мог очень по-дружески попросить сообщать ему о Владимире Владимировиче, чтобы тем самым помочь ему, если вдруг возникнут какие-то проблемы. В этой «заботе» трудно найти что-то из ряда вон выходящее.
У Льва Эльберта роль, видимо, была намного серьёзнее.
Тем временем репетиции «Бани» в ГосТИМе стремительно приближались к завершению.
Накануне премьерыАктриса Мария Суханова, участвовавшая в «Бане», вспоминала:
«Маяковского не всегда удовлетворяло актёрское исполнение – так он был недоволен актёром в роли Бельведонского и часто влезал на сцену, читал и показывал. И даже сам хотел играть эту роль.
Но кого он играл великолепно – это мистера Понт Кича! В тексте этой роли – набор русских слов: «Ай, Иван в дверь ревел, а звери обедали» – и т. д., но в читке Маяковского это был вылитый англичанин и по манере держаться и по выговору».
3 марта 1930 года «Литературная газета» опубликовала беседу своего сотрудника с Маяковским, который сказал, что премьера спектакля состоится на следующей неделе, и что во всех шести его действиях будет происходить борьба:
«…борьба между изобретателем Чудаковым и главначпупсом…
… борьба за театральную агитацию, за театральную пропаганду, за театральные массы…
… борьба с узостью, с делячеством, с бюрократизмом – за героизм, за темп, за социалистические перспективы».
Однако провал ленинградского спектакля, видимо, сыграл негативную роль, и 9 марта «Правда» перепечатала статью критика-рапповца Владимира Ермилова, опубликованную ранее в журнале «На литературном посту». Мы уже говорили о ней – статья называлась «О настроениях мелкобуржуазной "левизны" в художественной литературе». Перепечатка вряд ли была случайной, и произвели её явно по чьей-то указке. Павел Лавут:
«В статье освещались общие проблемы драматургии – речь шла главным образом о пьесах Безыменского и Сельвинского, поставленных Мейерхольдом. Вскользь там критиковалась „Баня“, которую Ермилов полностью не читал (к этому времени была опубликована лишь часть пьесы), что он предусмотрительно оговорил. Маяковскому было отведено в обзоре скромное место».
Но, несмотря на «скромность» уделённого Маяковскому места, приговор его пьесе выносился довольно суровый:
«…вся фигура Победоносикова вообще является нестерпимо фальшивой. Такой чистый, гладкий, совершенно „безукоризненный“ бюрократ… вообще невероятно схематичен и неправдоподобен, а тем более в навязанном ему Маяковским обличии перерожденца с боевым большевистским прошлым, – а ведь пьеса Маяковского претендует к тому же и на зарисовку типичных общих явлений».
Саму «победоносиковщину» (как явление) Ермилов объявлял чересчур преувеличенной автором. Мало этого, в статье говорилось, что в творчестве Маяковского зазвучала…
«…очень фальшивая „левая“ нота, уже знакомая нам не по художественной литературе».
А это было уже прямое обвинение в троцкизме. И бросались эти обвинения поэту, надо полагать, со стороны всё того же Якова Агранова.
В своей статье Ермилов бил не только по Маяковскому, но и по его сопернику:
«Тов. Сельвинский проявляет просто мелкобуржуазную “левизну”, опошляющую прекрасный революционный лозунг…
Тов. Сельвинскому необходимо понять, что “сработаться” с пролетариатом и слиться с ним можно только при условии активного стремления УНИЧТОЖИТЬ противоположность между ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ и пролетариатом…
Сельвинский поднимает знамя интеллигентского анархичного скептицизма, политического нигилизма».
В чём именно обвинялся Сельвинский тогдашнему читателю понять было трудно, но слова о том, что поэт что-то «опошляет» и «поднимает знамя» какого-то нехорошего «изма», в памяти оставались.
Откликаясь на ермиловскую статью, Маяковский тут же написал лозунг, который повесили в зрительном зале ГосТИМа:
«Сразу / не выпарить / бюрократов рой.
Не хватит / нам бань / и не мыла вам.
А ещё / бюрократам / помогает перо
критиков – / вроде Ермилова».
Всеволод Мейерхольд, посчитав, что подобного ответа на критику ещё не поставленного спектакля явно недостаточно, написал статью, защищавшую поэта. 13 марта её опубликовала газета «Вечерняя Москва». Но Маяковский всё равно очень переживал из-за критических наскоков.
Вероника Полонская:
«Перед премьерой „Бани“ он совсем извёлся. Всё время проводил в театре. Писал стихи, надписи для зрительного зала к постановке „Бани“. Сам следил за их развешиванием. Потом острил, что нанялся в театр Мейерхольда не только автором и режиссёром (он много работал с актёрами над текстом), а и маляром и плотником, так как он сам что-то подрисовывал и приколачивал. Как очень редкий автор, он так горел и болел спектаклем, что участвовал в малейших деталях постановки, что совсем, конечно, не входило в его авторские функции».
А Брики в это время ждали в Берлине английскую визу.
Аркадий Ваксберг:
«Почему английскую визу надо получать в Берлине, а не в Москве, – это тоже из области загадок…с 1925-го в Москве работало английское посольство, в составе которого был консульский отдел. Что же заставило Бриков, вознамерившихся ехать именно в Лондон, не заручиться британской визой в Москве, а отправиться почти на полтора месяца в Берлин и там ждать английскую визу? Никто этим вопросом не занимался, словно в столь очевидной нелепице нет никакого вопроса…»
Аркадий Ваксберг вновь почти вплотную приблизился к главной тайне «горлана-главаря»: многочисленные косвенные свидетельства говорят о том, Брики спешили покинуть Москву специально для того, чтобы очередной (самый болезненный) «укол» Маяковский получил в их отсутствие.
Первый спектакльАгранов и Брики, надо полагать, сделали всё, что могли, чтобы спектакль по пьесе Маяковского не вышел в свет. Но в воскресенье 16 марта 1930 года первое представление «Бани» в ГосТИМе всё-таки состоялось.
О том, как отреагировал на премьеру «Бани» Яков Агранов, никаких документальных свидетельств нет (да и вряд ли они вообще существуют). Но есть косвенные свидетельства. И самое главное из них – исчезновение Льва Эльберта. Жил он, поживал в опустевшей квартире в Гендриковом переулке, скрашивал, как мог, одиночество оставленного поэта и вдруг исчез. На вопрос: почему «Сноб» покинул Маяковского, ответ тоже отсутствует. Единственное объяснение, которое приходит в голову: вероятней всего, Эльберта отозвал Агранов. И то, как разворачивались дальнейшие события, подтверждает это предположение.
Поэтому вернёмся в ГосТИМ, где 16 марта «Баню» предъявили зрителям.
Мейерхольд превзошёл самого себя, переводя на язык сцены пьесу, жанр которой Маяковский определил как «Драму в шести действиях с цирком и фейерверком». В спектакле была и эксцентрика с цирковыми трюками (резко шаржированные отрицательные персонажи), и строгая патетика (положительные герои) и необыкновенная лиричность (образ человека будущего – Фосфорической женщины). По ходу представления грохотали взрывы, щедро сыпались бенгальские огни, мощно ревели двигатели машины времени. Вдобавок довольно громко играл оркестр, исполнявший музыку композитора Виссариона Шебалина.
Всё это (по замыслу постановщика) должно было окончательно и бесповоротно развенчать бюрократизм Победоносиковых, Мезальянсовых и Иванов Ивановичей, которые (по замыслу драматурга) призваны были высмеять Агранова, Бриков и им подобных.
Артемий Бромберг:
«На общественном просмотре публика толпами демонстративно покидала партер. Маяковский всё подбегал к бригаде, которая в полном составе сидела на балконе, и спрашивал:
– Ну, как? Вам-то нравится?»
Странно, что биографы Маяковского ничего не говорят о сдаче спектакля Художественно-политическому совету театра, членом которого являлся и Агранов. Участвовал ли Яков Саулович в обсуждении или просто молчаливо голосовал («за» или «против»?), об этом никаких сведений разыскать не удалось. Но, судя по тому, что премьера состоялась, Худполитсовет ГосТИМа постановку принял.
В марте 1930 года «Литературная газета» опубликовала статью, в которой говорилось:
«Почему новых поэтов трудно понимать, а Евгения Онегина легко? Нельзя ли писать проще, вложив новое революционное содержание в понятный пушкинский стих, создав всем понятную поэзию?
Одни не понимают Сельвинского из-за обилия “мудрёных и шершавых” слов. Другим непонятен Маяковский. Третьим – Светлов и даже Жаров».
В.В.Катанян приводит в своей книге письмо Зинаиды Райх, написанное 21 августа 1930 года и адресованное Лили Брик. В нём рассказывается о том, в каком состоянии был Маяковский в день премьеры:
«…он всё звонил, волновался так безумно, что во время премьеры мне Штраух перед выходом сказал: “Не знаю, как буду играть, Маяковский так волнуется, что у меня сейчас всё во мне дрожит… Я боюсь за всё”».
Вероника Полонская:
«На премьере „Бани“ Владимир Владимирович держал себя крайне вызывающе. В антрактах очень резко отвечал на критические замечания по поводу „Бани“. Похвалы выслушивал рассеяно и небрежно. Впрочем, к нему подходило мало народу, многие как бы сторонились его, и он больше проводил время за кулисами или со мной. Был молчалив, задумчив. Очень вызывающе кланялся…
В антракте перед последним актом Владимир Владимирович сказал мне:
– Норка, а ведь пьеса-то не та. Ну, ничего, следующая будет настоящая. А ведь я давно понял, что «Баня» – это не то».
Актёр Игорь Ильинский:
«После спектакля, который был не очень тепло принят публикой (и этот приём, во всяком случае, болезненно почувствовал Маяковский), он стоял в тамбуре вестибюля один и пропускал мимо себя всю публику, прямо смотря в глаза каждому, выходящему из театра».
После премьерыАктёр Михаил Яншин через месяц написал (орфография Яншина):
«Постановка п'есы „Баня“. Все знают, как это было принято. Все, кто мог лягал копытом. Единственная статья в "Правде "и то я был свидетелем сколько разговоров это стоило, сколько телефонных звонков.
Все лягали и друзья, все кто мог. А могут в наше время, любой. Каждому дозволено плевть, даже часто неумеющие плевать – их обучают.
Достаточно сказать, что после прем'еры у Маяковского у Маяковского повторяю, потому что ни с кем этого не бывает, так вот у него не было ни одного человека рядом…
Для человека знающего театр, авторов, писателей, драматургов этот факт достаточно яркий, как показатель. Один Маяковский. Один совершенно!»
Вероника Полонская:
«Премьера „Бани“ прошла с явным неуспехом. Владимир Владимирович был этим очень удручён, чувствовал себя очень одиноко и всё не хотел идти домой один.
Ведь после премьеры – плохо, хорошо ли она прошла – он вынужден был идти домой в пустую квартиру, где его ждала только бульдожка Булька.
Он пригласил к себе несколько человек из МХАТа, в сущности, случайных для него людей: Маркова, Степанову, Яншина. Была и я. А из его друзей никто не пришёл, и он от этого, по-моему, очень страдал».
Заведующий литературным отделом Художественного театра Павел Марков:
«Я никогда не предполагал, что неуспех спектакля мог так отразиться на нём, никогда прежде я не видел его в таком состоянии. Здесь было и стремление развеять тяжкое настроение, царившее в столовой, и даже попытка ухаживать за Степановой, и какой-то гнев, переходящий в злобу на себя и окружающих, и вдруг прорывающееся желание поделиться своими муками и переживаниями. Но ни о спектакле, ни о пьесе Маяковский не проронил ни слова. Он вновь и вновь возвращался к теме одиночества, сквозившей уже в разговоре на выставке».
И Павел Марков попытался привести разговор, завязавшийся у него с Маяковским, на другую тему:
«Он начал мне говорить самые невероятные вещи. Я ему сказал: „У вас очень много друзей“.
– Кто?
– Брики.
– А вы думаете, они вернутся? Ведь ничего не известно – вернутся или нет.
Почему он так об этом говорил, не знаю, но это было сказано довольно мрачновато».
Впрочем, Веронике Полонской запомнились и весёлые подробности того вечера:
«Говорили о пьесе, о спектакле. Хотя судили очень строго и много находили недостатков, но Владимир Владимирович уже не чувствовал себя одиноким, никому не нужным. Он был весёлый, искрящийся, пел, шумел, пошёл провожать нас и Маркова, потом Степанову. И по дороге хохотали, играли в снежки».
Обратим внимание, что опять никто из актёров, посетивших в тот вечер квартиру Маяковского, не говорит о том, был ли там Лев Эльберт. Так что выходит, что после премьеры «Бани» Льва Гиляровича в Гендриковом не было.
И возникает вопрос: кто из гостей поэта проинформировал Агранова о том, что происходило в Гендриковом, и как вёл себя там Маяковский? Марков? Степанова? Яншин? Полонская?
Зато примерно в это же самое время квартиру Маяковского стал чуть ли не ежедневно навещать Лев Александрович Гринкруг, уже освоившийся в Москве после многолетнего пребывания в Париже.
17 марта в Большой аудитории Политехнического музея проходил вечер «Писатели – комсомолу». Вот что запомнилось Василию Каменскому:
«Появившись на эстраде под гром аплодисментов переполненного комсомольцами зала, Маяковский заявил:
– Товарищи, про меня ходят слухи, будто я стал газетным поэтом и мало пишу монументальных вещей высокого значения. Сейчас докажу обратное. Я прочту вам мою последнюю поэму «Во весь голос», которую считаю лучшей из всего мною сделанного.
Нервный, серьёзный, изработавшийся Маяковский как-то странно, рассеянно блуждал утомлёнными глазами по аудитории и с каждой новой строкой читал слабее и слабее. И вот внезапно остановился, окинул зал жутким, потухшим взором и заявил:
– Нет, товарищи, читать стихов я больше не буду. Не могу.
И, резко повернувшись, ушёл за кулисы».
В тот же день (17 марта) состоялась ещё одна премьера «Бани» (уже третья по счёту) – в филиале ленинградского Большого драматического театра.
18 марта выставка «20 лет работы» открылась в Доме комсомола Красной Пресни. Маяковский там присутствовал и выступал, но это выступление, к сожалению, застенографировано не было.
19 марта газета «Правда», которую Маяковский просматривал с утра, в статье, посвящённой театральным делам, вновь вспомнила спектакль «Командарм 2», написав:
«Как художественное произведение пьеса является полновесным образцом высокого искусства…
Этот своеобразный, не похожий на другие спектакль создан большими талантами и автора и постановщика».
Прочитав эти строки, Маяковский принялся писать письмо Лили Юрьевне. Оно начиналось так, словно ничего особенного между ними не произошло. Это до сих пор смущает и сбивает с толку биографов поэта. Первые фразы письма написаны в том же стиле, что и прежние письма:
«Дорогой, родной, милый и любимый Кис».
Далее следует целый абзац шутливого описания того, как собака Булька ревниво отреагировала на присланные Лили Юрьевной фотографии берлинских собаки и львёнка. Затем идут пять абзацев на не очень важные темы. И, наконец, как тоже нечто третьестепенное, возникает главная новость:
«Третьего дня была премьера „Бани“. Мне, за исключением деталей, понравилась, по-моему, первая поставленная моя вещь. Прекрасен Штраух. Зрители до смешного поделились – одни говорят: никогда так не скучали, другие: никогда так не веселились. Что будут говорить и писать дальше – неведомо».
И всё.
Больше – ни слова! И это о пьесе, призванной «мыть» и «стирать» бюрократов, тех самых, которых Маяковский назвал «сволочами».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































