Текст книги "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам"
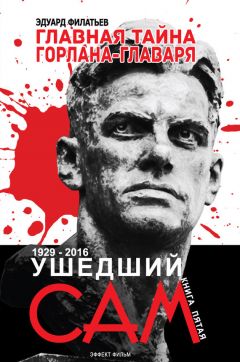
Автор книги: Эдуард Филатьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 64 страниц)
Самое время вспомнить о стихотворце, к которому Маяковский относился со снисходительной усмешкой – об Александре Безыменском, написавшем пьесу в стихах «Выстрел». В конце 1929-го её поставили в ленинградском ТРАМе (Театре рабочей молодёжи), в московском театре имени Мейерхольда и в театре Иваново-Вознесенского пролеткульта. Спектакль в ГосТИМе вызвал бурные дискуссии. «Комсомольская правда», в частности, написала:
«На фоне репертуара текущего года пьеса „Выстрел“ А.Безыменского привлекает внимание общественности и вызывает горячие споры».
«Рабочая газета», сравнивая пьесу Безыменского с «Баней», добавляла:
«То, что у Безыменского в „Выстреле“ является подлинной советской сатирой, здесь превращено в голодный и грубый гротеск, цинично искажающий действительность».
19 марта 1930 года в Политехническом музее состоялся диспут о пьесе «Выстрел», организованный Московским комитетом ВЛКСМ и редакцией газеты «Комсомольская правда». В этом мероприятии принял участие и Маяковский. Отчёт о диспуте, озаглавленный «В спорах о творческом методе пролетарской литературы», 24 марта опубликовала «Литературная газета». Излагая содержание выступлений, автор статьи сообщал, что, по мнению Маяковского, Безыменский продолжает путь лефовца Сергея Третьякова, написавшего пьесу «Рычи, Китай», драматурга Владимира Киршона, автора пьесы «Рельсы гудят», и его, Маяковского:
«Это – путь использования театра в целях классовой борьбы – за темпы, за ударность, за социалистическое строительство, за показ сегодняшнего дня. „Выстрел“ отвечает целевой установке литературы пролетариата как класса».
25 марта «Комсомольская правда» в статье «В цель или мимо? Куда бьёт "Выстрел"?» привела слова Маяковского о том, что те, кто выступал против «Выстрела»…
«…ведут наступление не против Безыменского как драматурга, а против тех, кто хочет сделать театр политически злободневным, активным участником классовой борьбы. Мы, – говорит он, – располагаем очень небольшим фондом пьес, подобных „Выстрелу“, фондом, противопоставленным морю пошлости на театре».
Между тем сам Маяковский, как мы помним, однажды сказал, что не пишет свои пьесы в стихах, потому что лучше Грибоедова у него не получится, а писать хуже он не желает. Но на то, что некоторые критики принялись сравнивать «Выстрел» именно с грибоедовским «Горем от ума», Владимир Владимирович откликнулся едкой эпиграммой:
«Томов гробо́вых / камень веский,
на камне надпись – / «Безыменский».
Он усвоял / наследство дедов,
столь сильно / въевшись / в это едово,
что слёг / сей вридзам Грибоедов
от несваренья грибоедова.
Трёхчасовбй / унылый «Выстрел»
конец несчастного убыстрил».
В записной книжке Владимира Владимировича была и вторая эпиграмма на Безыменского, не менее насмешливая, чем первая:
«Уберите от меня / этого / бородатого комсомольца!
Десять лет / в хвосте семеня,
он / на меня / или неистово молится,
или / неистово / плюёт на меня».
Где Маяковский был более искренним, выступая на диспуте или сочиняя эпиграммы, сказать трудно. Илья Сельвинский об обоих поэтах высказался так:
«Для того, чтобы стать Безыменским, нужно быть верным революции. Но для того, чтобы стать Маяковским, надо быть Маяковским».
Критики о «Бане»А до Москвы начали долетать отклики на премьеру «Бани» в филиале ленинградского Большого драматического театра. «Рабочая газета» (в номере от 21 марта):
«В мечту Маяковского поверить трудно, потому что он сам не верит в неё. Его „машина времени“ и „фосфорическая женщина“ – трескучая и холодная болтовня. А его издевательское отношение к нашей действительности, в которой он не видит никого, кроме безграмотных болтунов, самовлюблённых бюрократов и примазавшихся, весьма показательно. В его пьесе нет ни одного человека, на котором мог бы отдохнуть глаз. Выведенные им рабочие совершенно нежизненные фигуры и говорят на тяжёлом замысловатом языке самого Маяковского…
Фигуры сделаны в плане грубого шаржа и напоминают не живых людей, а размалёванных кукол…
В общем – утомительный, запутанный спектакль, который может быть интересным только для небольшой группы литературных лакомок. Рабочему зрителю такая баня вряд ли придётся по вкусу».
22 марта своё мнение (опять по поводу пьесы, а не спектакля) опубликовала «Комсомольская правда». Автором статьи был Ан. Чаров. О нём – в воспоминаниях Михаила Розенфельда:
«У нас в редакции были люди, перед которыми все трепетали. Был такой административный трепет, хотя редакция была комсомольская. Во главе сидел Чаров Михаил Иванович…
Чаров был ответственным секретарём в редакции и умел так себя поставить, что абсолютно всё было в его руках. Вся организационная часть, практическая часть, хозяйственная часть, типография – всё было в руках Чарова.
Этого человека все в редакции боялись. Боялись или не решались вступать с ним в какие-нибудь пререкания, потому что это грозило всегда административными последствиями. Но Маяковский обращался с ним смело и решительно. Например, бывали в редакции заминки с гонораром, скащивали этот гонорар. Это устраивал Чаров…
И тогда Владимир Владимирович направлялся к Чарову в кабинет с огромной своей палкой, стучал этой палкой о стол:
– Даёшь, Чаров, деньги!
И Чаров побаивался, косился на эту палку и моментально выписывал деньги».
Премьера «Бани» дала Чарову шанс нанести Маяковскому ответный «удар». И Михаил Чаров под псевдонимом Ан. Чаров опубликовал в «Комсомолке» разгромную статью:
«Продукция у Маяковского на этот раз вышла действительно плохая, и удивительно, как это случилось, что театр им. Мейерхольда польстился на эту продукцию…
Простую тему В.Маяковский запутал до чрезвычайности, и нам кажется, что эта путаница у него получилась потому, что он припустил в пьесу чересчур много туману…
Маяковский показывает чудовищных бюрократов и в то же время не указывает, как с ними бороться…
Надо прямо сказать, что пьеса вышла плохая, и поставлена она у Мейерхольда напрасно».
25 марта выставка «20 лет работы» в Доме комсомола Красной Пресни закрылась.
Артемий Бромберг:
«Двадцать пятого марта на выставке состоялся большой вечер, посвящённый Маяковскому. Его организовала “Комсомольская правда” и Бригада Маяковского».
Выступая на этом вечере, Маяковский сказал:
«Сегодня вы меня своим назвали поэтом, а девять лет назад издательства отказывались печатать “Мистерию-буфф”, и заведующий Госиздатом сказал: “Я горжусь, что такую дрянь не напечатают. Железной метлой нужно такую дрянь выметать из издательства”».
Но и через девять лет мнение главы Госиздата разделяли многие литературные критики, которых явно настраивали против Маяковского. 26 марта в утреннем выпуске ленинградской «Красной газеты» речь вновь пошла о «Бане» (и опять о пьесе, а не о спектакле):
«Ещё раз внимательно проанализировав пьесу по постановке её в филиале БДТ, можно смело подтвердить, что злободневная и актуальная тема борьбы с бюрократизмом разработана крайне поверхностно и слабо, что действующие лица пьесы чрезвычайно ходульны (за исключением комсомольца Велосипедкина) и производят впечатление не живых людей, а ходячих схем, что вся пьеса крайне растянута, никак не звучит, а местами просто непонятна».
28 марта московская «Наша газета» тоже включилась в разговор о «Бане»:
«Пьеса для наших дней звучит несерьёзно. Спектакль не может в силу своей запутанности и примитивности, прикрывающихся маской „значительности“, дать правильную зарядку зрителю. Мейерхольд спасал чисто фельетонный текст Маяковского, неинтересный в чтении и бесцветный на сцене, особенно в исполнении мейерхольдовских актёров (исполнение – Штраух – Победоносиков).
Холодно и вымученно всё в спектакле… Спектакль – провал».
Вновь обратим внимание на то, что практически все газетные рецензии, в которых речь шла о «Бане», говорили не о спектакле, а о пьесе. В статьях сразу же отмечалось, что той «борьбы с бюрократизмом», которую драматург обещал в своём интервью «Литературной газете», обнаружить не удалось, поскольку в пьесе…
«…как бюрократизм, так и борьба против него лишены конкретного классового содержания».
Из-за этого, дружно писали критики, и спектакль получился «поверхностным», его персонажи – «нежизненными», во всех шести действиях – сплошная «трескучая и холодная болтовня», всюду проступает «издевательское отношение к нашей действительности», направленное на «отвлечение от реальной борьбы сегодняшнего дня».
1 апреля журнал «Рабочий и театр» тоже высказался о спектакле в ГосТИМе:
«"Баня” требует чтеца, а не театра. Сама же “драма” не идёт дальше однодневного фельетона».
Эпиграмму на критика Ермилова, вывешенную в зрительном зале ГосТИ Ма, рапповское руководство потребовало убрать. И плакат сняли.
В письме Зинаиды Райх Лили Брик (от 21 августа 1930 года) сказано и об этом инциденте:
«Потом история с Ермиловым и как-то исторически страшно-странно, что в защиту выступил только Лс<еволод>. Эж<ильевич>, и всё. Рефовцы и всяческие друзья молчали. Это мне казалось издёвкой».
А Маяковский все эти дни мучительно размышлял над тем, почему у режиссёра, у которого практически любая пьеса была обречена на оглушительный успех, случился вдруг такой неожиданный сбой. Актриса Мария Суханова, исполнявшая роль Поли, жены Победоносикова, вспоминала:
«Как-то в антракте спектакля, З.Н.Райх, игравшая Фосфорическую женщину, сказала Владимиру Владимировичу:
– Как наша сцена с Сухановой хорошо принимается!
Сцена была построена так: Фосфорическая женщина и Поля шли по движущемуся кругу. Получался ход на месте. Поля шла с распущенным светлым зонтом, вся в голубом, Фосфорическая женщина – в светло-сером, с красной шапочкой на голове. Освещённые снопом света от прожекторов, две женские фигуры, движущиеся по кругу, были очень эффектны, и публика всегда аплодировала в этом месте.
На слова Райх Маяковский зло сказал:
– Топают две тёти и текст затопали, ни одного слова не разберёшь!
Да, текст тут был для Поли очень важный, и сцена эта должна была быть очень трогательной, а хлопали режиссёру и художнику, но не артистам».
Сама Зинаида Райх в том же письме Лили Брик высказалась так:
«Я не любила “Бани” – концовка – последний акт и когда обозначилось “замалчивание” премьеры, шушукание на счёт “провала” – я как дурной женский педагог радовалась, думала: это ему на пользу – Маяковскому. Станет серьёзнее относиться к театру, не халтурить».
Актёр ГосТИМа Николай Константинович Мологин привёл в воспоминаниях такие слова Маяковского:
«И считаю, что меня не поняли. Не поняли, откровенно говоря, не по моей только вине, а и по вине театров, которые не донесли всего, что я заложил в пьесу. И по вашей вине, товарищи артисты!»
Обратим внимание, что Маяковского опять «не поняли». Сначала не поняли его первой пьесы («Владимир Маяковский»), затем в течение многих лет не понимали его стихов, а теперь вновь не поняли его «Бани».
Мария Суханова:
«В это время театр собирался в гастрольную поездку за границу. Пьес Маяковского в гастроли не включил. Маяковскому это было неприятно».
Зинаида Райх всё в том же письме, адресованном Лили Брик:
«Я ещё в прошлом году говорила Осипу М. Брику о том, что не чувствую разницы в состояниях В.В. и Серг. Ал. <Есенина> – внутренне бешенное беспокойство, неудовлетворённость и страх перед уходящей молодой славой.
Когда мы уезжали в Берлин, в период репетиций “Бани”, я наблюдала Вл. Вл. И ужасно волновалась. Он метался. Когда был вопрос о поездке “Клопа” в Берлин – я советовала написать Вс-ду Эм-чу (Вс. Эм. был болен), а он мне на это: “Я Лиле не пишу, а только телеграфирую, я сейчас в таком состоянии – ни за что воевать и бороться не могу”».
Казалось бы, всё складывалось как нельзя хуже, и были все основания для того, чтобы повесить нос, уйти в себя, погрузившись в угрюмое молчание. Но вот что написал поэт Николай Тихонов, который в самом начале третьей декады марта сидел в ресторане Дома Герцена за одним столиком с Владимиром Луговским и Павлом Павленко. Их только что включили в состав бригады, направлявшейся в творческую командировку в Среднюю Азию:
«К нам неожиданно подошёл Маяковский, придвинул стул, сел и стал спрашивать, что у нас за заговор. Мы сказали про бригаду и про то, что шесть писателей едут в Туркмению. Он стал смеяться, шутить, сказал, что теперь под пальмами (ему казалось, что в Туркмении есть пальмы, как в тропиках), будут находить много смятых бумаг (наших черновиков и заготовок). Он был, как всегда, собран, серьёзно заинтересован нашей поездкой, сказал, что сам бы поехал, но много дел в Москве, нельзя сейчас ему уезжать».
Как видим, Маяковский не пал духом, а был «как всегда, собран». А ведь встреча с писателями, направлявшимися в Туркмению, происходила в тот самый момент, когда газетные рецензии на «Баню» были «убийственными» (так их называют практически все биографы Маяковского).
Складывается впечатление, что эти статьи были написаны загодя, за много дней до премьеры в ГосТИМе и в ленинградских театрах. Было ли это результатом всё того же мщения со стороны Агранова и Бриков, которые (пока пьесу ещё только ставили в театрах) не сидели сложа руки, а готовили ответные «уколы»? Ведь «уколы» эти были особенные (сделанные очень и очень «равнодушно») – на это обратила внимание Вероника Полонская:
«И критика, и литературная среда к провалу пьесы отнеслись равнодушно. Маяковский знал, как отвечать на ругань, на злую критику, на скандальный провал. Всё это только придало бы ему бодрости и азарта в борьбе. Но молчание и равнодушие к его творчеству выбило из колеи».
Писатель Юрий Либединский написал в воспоминаниях, что Маяковского «прорабатывали» на секретариате РАПП в связи с постановкой его пьес и делали это «мелочно и назидательно – драматургия Маяковского явно не втискивалась в рамки рапповских догм».
После «уколов»Но Маяковский не сдавался. Он продолжал работать в цирке над постановкой меломимы «Москва горит» и выступал на всевозможных заседаниях чуть ли не каждодневно, а то и по нескольку раз в день.
Утром 27 марта в кабинете главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Владимир Владимирович принял участие в обсуждении «Бани», на которое были приглашены рабочие фабрики «Буревестник».
Вечером того же дня поэт выступил в Доме печати на диспуте о мейерхольдовском спектакле, начав свою речь так:
«Товарищи, я существую 35 лет физическим своим существованием и 20 лет – так называемым творческим, и всё время своего существования я утверждаю свои взгляды силами собственных лёгких, мощностью, бодростью голоса. И не беспокоюсь, что моя вещь будет аннулирована. В последнее время стало складываться мнение, что я общепризнанный талант, и я рад, что «Баня» это мнение разбивает. Выходя из театра, я вытираю, говоря, конечно, в переносном смысле, плевки со своего могучего чела».
Напомним, что эти слова произносил человек, у которого болело горло, на которого надвигался грипп. Но разве можно сказать, что он страдал от «одиночества» и «изолированности», как утверждают многие его биографы? Нет! Маяковский вновь, выражаясь его же словами, готов был, «засучиврукава», начать «драться, определив своё право на существование как писателя революции, для революции…». И он заявил:
«Кто-то сказал: „Провал „Бани“, неудача „Бани““. В чём неудача, в чём провал? В том, что какой-то человечишко из „Комсомольской правды“ случайно пискнул фразочку о том, что ему не смешно, или в том, что кому-то не понравилось, что плакат не так нарисован?..
Меня сегодня в «Вечерней Москве» критиковали рабочие. Один говорит: «Балаган», другой говорит: «Петрушка». Как раз я и хотел и балаган и петрушку. Третий говорит: «Нехудожественно». Я радуюсь: я и не хотел художественно, я старался сделать нехудожественно».
А вот что (какое-то время спустя) написала о «Бане» в ГосТИМе Лили Брик:
«Я видела этот спектакль уже после смерти Маяковского. Постановка мне не понравилась. Текст не доходил. Хороши были, скорее, именно детали. „Баня“, мне кажется, была поставлена хуже „Мистерии“ и „Клопа“. Но гений Мейерхольда ослеплял Маяковского. А гений Маяковского мешал Мейерхольду проявить себя. Они слепо верили друг в друга. У них было общее дело – искусство. Мейерхольд делал новый театр, Маяковский – новую поэзию».
Неуспех «Бани», конечно же, расстроил Маяковского. Но по его письму Лили Юрьевне от 19 марта это совершенно не чувствуется. Там сказано:
«Все тебе и вам пишут и любят вас по-прежнему, а некоторые (мы) и больше, потому что очень соскучились. В начале апреля, очевидно, будут в Берлине Мейерхольды. „Клопа“ с собой не берут, но я и не очень протестую, т. к. моя установка – пусть лучше он нравится в Саратове».
Появление Мейерхольдов (Всеволода Эмильевича и Зинаиды Николаевны Райх) в Берлине было связано с гастролями ГосТИМа, которые должны были начаться 1 апреля. А город Саратов упомянут в связи с тем, что часть театральной труппы, оставшаяся в СССР, отправлялась выступать в Поволжье, в том числе и в Саратов.
Обращает на себя внимание и то, с каким добродушием Маяковский сообщал в этом письме о людях, с которыми находился в размолвке:
«Из новых людей (чуть не забыл) были у меня раза два Сёмка и Клавка, хотели (Лёва) познакомить с Асеевым – я не отбрыкивался, но и не рвался».
А ведь речь шла о рефовцах, которые, назвав Маяковского «предателем», на всю страну объявили о том, что руки ему не подадут. И вдруг: «были у меня раза два». И кто? Семён Кирсанов и его жена Клавдия. Почему они после такого громогласного разрыва (отказа подавать руку Маяковскому) вдруг пришли к «предателю» в гости?
Концовку письма и вовсе иначе как оптимистичной не назовёшь:
«Молодые рефовцы же тоскуют по Осе.
Пишите, родные, и приезжайте скорее. Целуем вас ваши всегда…»
Далее следовали две забавные нарисованные фигурки: двух щенков (или двух Сченов), то есть Маяковского и собаки Бульки.
Что ещё можно сказать об этом письме? Оно бодрое, юморное. Если ещё добавить, что Владимир Владимирович просит в нём привезти ему «серые фланелевые штаны», то ни за что не скажешь, что написано оно человеком, о котором Александр Михайлов высказался так:
«…раздавленный сомнениями, издёрганный критикой, на которую стал нервно реагировать, неустроенный и больной».
А вот каким запомнился Маяковский Софье Шамардиной, которая, впрочем, не запомнила точной даты той встречи (но, скорее всего, всё происходило в конце марта 1930 года):
«Помню, как болел долго (в 1929-м или уж в начале 1930-го?). Лежал в Гендриковом. Лили не было в Москве. Иногда звонил мне – приходила. Бывал раздражителен. Подолгу тяжело молчал. Как-то застала Людмилу Владимировну. Позвал меня к себе в комнату: „Не разговаривай с ней. Не задерживай, пусть уходит, а ты останешься“. В этот вечер оживился, только когда пришёл Василий Каменский».
Да, в конце марта у Маяковского болело горло, и врачи советовали ему поберечь себя, отказавшись от запланированных выступлений. Что-то пришлось отменить, что-то перенести на потом. Но только не вечер, посвящённый 20-летию творческой деятельности.
Вспоминая именно этот момент, Лев Гилярович Эльберт (тогда ещё живший в квартире Маяковского) никакого пессимизма в настроении поэта тоже не заметил, приведя (в той же статье, напечатанной 30 апреля в журнале «Огонёк») такой его призыв:
«– Едем вечером в Краснопресненский клуб – там комсомольцы меня огреют. Очень уважаю эту публику! Жизнь замечательна. Жизнь очень хороша. Правда, хороша?»
Встреча с молодёжью в Доме комсомола Красной Пресни, на которую Маяковский звал Эльберта, состоялась 25 марта 1930 года. Присутствовал ли там Эльберт, к сожалению, неизвестно. Но, надо полагать, был наверняка.
Вечер с комсомольцамиЭкспонаты выставки «20 лет работы» были перенесены в Центральный дом комсомола Красной Пресни. Для расширения и для обслуживания выставки требовались средства, и их решено было собрать, организовывая выступления Маяковского. Первым из них стал вечер, проходивший на Красной Пресне.
В зале собрались молодые рабочие, комсомольцы и, конечно же, члены созданной в феврале литературной бригады Маяковского. Своих представителей прислали «Комсомольская правда» (во главе с ответственным редактором газеты Александром Николаевичем Троицким) и Краснопресненский райком комсомола. Вечер вела Мария Кольцова, работница одной из московских фабрик и председатель бюро «Ударной бригады Маяковского».
То, как Кольцова представила Владимира Владимировича, очень его развеселило, и он начал свою речь словами:
«Товарищ председатель очень пышно охарактеризовал, что я буду делать доклад, да ещё о своём творчестве. Я и доклада делать не буду и не знаю, можно ли назвать так высокопарно творчеством то, что я сделал. Не в этом совершенно дело, товарищи».
Столь задорно начатое выступление очень скоро перешло в свойственное Маяковскому агитационно-пропагандистскую речь, в которой было сказано, что быть поэтом рабочего класса – тяжелейший труд:
«Основная работа – это ругня, издевательство над тем, что мне кажется неправильным, с чем надо бороться. И двадцать лет моей литературной работы – это, главным образом, выражаясь просто, такой литературный мордобой, не в буквальном смысле, а в самом хорошем! – то есть буквально каждую минуту приходилось отстаивать те или иные революционные литературные позиции, бороться за них и бороться с той косностью, которая встречается в нашей тринадцатилетней республике».
Та литературная деятельность, которой занимался Маяковский, по его же собственным словам, всегда приводила к негативным последствиям. Почему?
«…потому, что ввиду моего драчливого характера на меня столько собак вешали и в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтобы только ругани не слышать.
Но, конечно, я на второй день после этого пессимизма опять приободряюсь и, засучив рукава, начинаю драться, определив своё право на существование как писателя революции, не как отщепенца».
Однако, продолжал Маяковский, бывают моменты, когда вести эту тяжелейшую работу становится очень и очень трудно. И поэт привёл пример:
«Я сегодня пришёл к вам совершенно больной, я не знаю, что делается с моим горлом. Может быть, мне придётся надолго перестать читать. Может быть, сегодня один из последних вечеров».
Что имел в виду Маяковский, заявляя, что это для него, возможно, «один из последних вечеров»? Неужели он предчувствовал, что на него неумолимо надвигается расставание с жизнью?
Нет, напротив, он несколько раз повторил, что планы у него долгосрочные:
«То, что я вошёл в РАПП, в организацию пролетарских писателей, показывает серьёзное и настойчивое моё желание перейти во многом на массовые работы».
А пролетарскому писателю надо жить и работать так, как живут и работают пролетарии, то есть соблюдая правила техники безопасности:
«Я понимаю эту работу так, чтобы выполнялся лозунг: не совать руки в машину, чтобы выполнялись мероприятия, направленные к тому, чтобы электроток не разбил рабочего, чтобы не было на лестнице гвоздей, чтобы не шевелили стремянку, чтобы не получить удара молотком».
Что же касается отдыха, то это занятие, по словам поэта, не для него:
«…нам отдыхать некогда, но нужно изо дня в день не покладая рук работать пером».
В том, что направление этой работы ему задаёт партия, веля делать всё, что считает необходимым, Маяковский не видел ничего зазорного. Более того:
«…то, что мне велят, это правильно! Но я хочу так, чтобы мне велели!..
Если на сегодняшний день я не связан с партийными рядами, то не теряю надежду, что сольюсь с этими рядами. Хотя не совсем разговором, что мне этого хочется, а когда пролетарская масса меня двигает, чтобы я на это шёл – «иди» – то я и иду».
Закончив свой прозаический «недоклад», Маяковский начал читать стихотворения. Прочёл 16-ю главу поэмы «Хорошо!», в которой рассказывается о том, как на «дымящих пароходах» покидали Крым (Россию, родину) бойцы Белой Добровольческой армии, покидали навсегда. И как в Севастополь входили красные, победившие в гражданской войне. Они…
«Вспоминали – / недопахано, / недожато у него,
у кого / доменные / топки до зори,
и пошли, / отирая пот рукавом,
расставив / на вышках / дозоры».
Закончив читать и, дождавшись, когда смолкнут аплодисменты, Маяковский негромко произнёс:
«Товарищи! Может быть, на этом кончим? У меня глотка сдала!»
Зал ответил дружными рукоплесканиями.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































