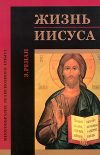Текст книги "Постник Евстратий: Мозаика святости"
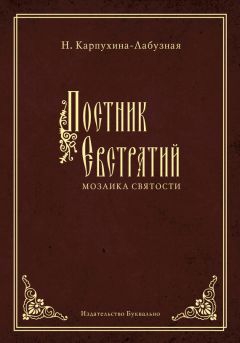
Автор книги: Нелли Карпухина-Лабузная
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Агора
Колыхалась толпа, обсуждала свалившиеся на бедные головы горожан события и напасти.
Недавно редкие видели чудо: над западной стороной к вечеру, после пяти пополудни, по небу неслась огненная колесница, и гром громыхал над людскими страстями. Грозы так и не было, воздух был чист, тучки иль облачка на худой-то конец не случилось, как вдруг от земли поднялась к небесам колесница в полнеба, в огне, и оттуда гром громыхал, на людской голос похожий.
Кто-то даже и клялся, что слышал, как голос с небес возвещал: «вот истинный гражданин града небесного!»
Толпа говорившим верила и не верила.
Ходили по храмам, вопрошали епископов, те отмолчались. Город стал волноваться, а тут на тебе, новое чудо – дромоны. Да ладно водой запастись иль провиантом: город богат, дань воинам жалко не жалко, отдай. Но дромоны воду не брали, с рассвета качались в порту Карантинной (бухты, одной из тридцати трёх бухт Херсонеса), а к вечеру залпами гаркнули-харкнули по кварталу евреев.
Будет тут от чего голове свихнуться!
Например, колесница: её видели многие, про голос с небес говорившие, может, соврали, но гром то слышал весь город.
А инкерманская монастырская братия закрылась в пещерах, молилась всечасно, сутками не прибегая ни к пище, ни даже к воде – почему?
Стояли на коленях в пещерах у алтарей и Богу молились, просили прощения за глупый народ, за собственное небрежение – почему?
Город мучился в судорогах сплетен, мрачных догадок: зачем дождались визита дромонов? Что задумали власти имущие, затеяли – что? От незнания, от недомолвок горожане рожали самые странные, самые страшные предположения: от грома с небес до войны с Дикой Степью.
Говоривших про голос с небес и про войну с Дикой степью высмеивали. Про голос просто не верили, а про военные действия с дикарём-степняком со сраженьем на море, так то просто нелепица. Степняки морем воевать не умели, дромоны со степью войну бестолковую не начинали бы.
Но самые из дальновидных не зря говорили, что неспроста на кораблях приплыли монахи, ой, не спроста, ведь не каждый же день с небес колесница.
И всё это на еврейские пасхальные дни. Есть от чего христианский город мутить-каламутить.
На агору собрался народ, практически весь народ Херсонеса скопился на центральной площади с вечными храмами и буйством торжища.
Захария руку поднял. Толпа замолчала. Кто-то вздохнул, собираясь прикашлять, толпа чуть не сдавила в смертельных объятиях неудачника.
Захария треснувшим от волнения голосом стал говорить на чистейшем на греческом. Толпа понимала, пусть в ней и мешались ромеи, аланы, армяне, русины, словяне и кто там еще.
«Помолимся, братия, за раба Божьего, свободного человека!», и упал на колени Толпа тоже рухнула, как один, на колени на плиты агоры.
«Помолимся», и била ударили во всех храмах. Церкви, соборы, церквушки квартальные, все от собора Влахернской Богоматери до дальних храмов у Западных ворот, все била гудели, звонили, к небесам возопили.
Как стихли звоны церковные, Захария вновь продолжал:
«Помолимся, братие, Богу Единому, за душу раба, за Евстратия!»
Толпа было вздохнула: а кто же таков? Мало ли в городе церков и монастырей, да странноприимных домов, всех иноков и не упомнишь.
Но промолчала. Захария от постов и горя говорил слабенько-тихо, но почему его надтреснутый тенорок проникал до самой глубины христианской общины.
Скоро толпа заливалась слезами. Слез не стеснялись и отцы благородных семейств, и юные отроки, что больше всего боялись, что их обвинят в умении плакать. Женщины, не стесняясь, концами платков утирали себе и детишкам потоки из глаз. Общий экстаз человеческой массы задел и аланов, да и армяне на слезу не скупились, не говоря про ромейское большинство. Настроение народа менялось, как ветер у моря: только что плакали, но тут забурлили, гневом покрылись глаза. От самосуда толпы над евреями спасал лишь Захария. Его голос твердел, хрипел от натруги, но все боле крепчал, и толпа слушалась пастыря, властно-привычно привыкшего повелевать людской массою, теперь уже не толпой, а христианской общиной древнего города.
Охрану из стратиотов и корабельных матросов толпа могла снять в едином порыве, затоптала б, бурля, но пастыря голос вливался в мозги струей правды и мощи, не давая собравшимся оставаться толпой.
Привыкшие к многодневным постам, воздержанию и стоянию в храмах, христиане и тут подчинились, взнузданные речью митрополита.
Захария продолжал:
«Убить их не трудно, но не все виноваты. Мы заединщиков (зачинщиков) уже знаем, они в казармах стратига под надежною стражей. Остальные, вы видели сами, как воины исполняли приказ.
«Император, да, сам император!», – тут толпа задержала дыхание, а священник продолжил: – «сам император дромоны прислал!».
Толпа была уж готова и на колени припасть, подчиняясь императорской воле, но так кучно стояла толпа, что повалиться на камни не вмочь никому, и продолжали стоять, замершими во внимании.
Захария продолжал:
«Виновные в казармах стратига под надёжной охраной, арестован эпарх».
Толпа разом охнула: «арестовали эпарха?»
Захария уточнил: «Да, эпарха! Командовать городом будет пока катепан…», – и немного замялся, вспоминая имя второго человека в Херсонесе.
Из-за спины кашлянул, изогнувшись в поклоне, полноватый мужчина: «Никанор, отче, меня зовут Никанор из фамилии Каматир».
Захария, оглянувшись, продолжил: «да, Никанор. Стратиг ваш в отъезде, император сам решит его участь. Нам будет надобно суд порешать по указу господина нашего, базилевса. Сейчас вам зачитают указ», и подвинулся, дав кому-то отмашку рукою.
На камень вскочил бравый посланник.
Константин недовольно посмотрел на Захарию: как это тот даже не представил его этой толпе, окружившей камень агоры?
Посланник представился сам, терпя такое уничижение. Для вящей убедительности, и еще более желая успокоить себя, он погладил красиво подстриженную курчавую, «по-ассирийски», бородку, и начал:
«Я – севаст Константин из рода Дука, это – по-нынешнему, а по-старому, я – протоспафарий». Толпе объяснять долго не надо: не простой то посланник, пусть даже просто протоспафарий (нововведение «севаст» пока не приживалось в народе, хотя сам Комнин не так уж давно был севастом), раз приехал из стольного города. Но более всего поразила фамилия: Дука! Явно родичем императрицы Ирины Дукини красавчик-посланник являлся.
Народ Византии за пятнадцать лет правления Алексея попривык, что император понасаждал, во все щели запхал-позатыкивал родственников, как своих, так и жены. А уж родственников своей матери, властной Анны Далассины, где только в империи не найдешь. Провинции, ближние и далёкие, сама столица кишмя кишели свояками, шуринами, братьями вплоть до седьмого родства. Родственнички обдирали империю, а император препятствий им почти не чинил.
Зато император в любой момент мог забрать у родственничка, дальнего или ближнего, его состояние, дабы пополнить казну, чаще всего на войну. А война была постоянна, и империя привычно жила в состоянии войн со своими, чужими, своими-чужими, чужими-чужими, и «ет-сетера».
Пурпур сандалии базилевса давил не только чужих, но более всего он давил да придавливал по крови своих.
Толпа испугалась: обдерет базилевса посланник, протоспафарий, скорее всего, из этих, из новомодных, из архонтопулов («дети вождей» – греч.) под шумок Херсонес, такой далекий от столицы, но такой богатый провинциальный. Толпа вновь всколыхнулась, ожидая сама от себя: бунтом пойти на посланника рать или всё-таки испугаться?
Константин продолжал, не заметив волнения массы:
«Я зачитаю указ базилевса!» А толпа волновалась: брожение масс, начинаясь от центра, кругами шла к окончанию, и там переживание о возможных репрессиях кошелька каждой семьи начиналося сызнова, давая опять оборот волнения масс теперь уже к центру.
Тут Захария поднял белую руку, толпа засмирела.
Указ слушали в полном безмолвии!
Лязганье металла оружия, полукруг императорской гвардии – морских пехотинцев, суровые лица солдат, властный голос Захария и кресты на грудях всех священнослужителей остановили толпу.
Захария почти грубо оттолкнул родственника императрицы.
О, как потом дорого обошелся ему этот жест, когда в уши царицы вливали рассказ о происшедшем в Херсоне. И так император пытался задвинуть патриарха и клир на задворки своей власти безмежной, и клокотала повсюду ропотом церковная власть, вместо того, чтобы поддерживать базилевса в его трудной работе. Мало того, так церковники решаются на публичные жесты, и императрица приняла свои меры.
В итоге Захария был сослан в Киев. Что, кстати, для Киевской Руси обошлось только добром дальнейшего усиления, распространения христианства.
Итак, Захария оттолкнул севаста-протоспафария, и привстал на цыпочки, почти что взлетая. Ветер надувал парусом рясу монаха, крылья рукавов взлетали, как птицы. Ощущение полета вилось над толпой, та окрылялась вместе с духовным своим поводырем. Захария продолжал:
«Казнь над предавшими веру Христову состоится назавтра, откладывать смысла не видим. Иудеям приказано прибыть на Западный холм не позже обеда, и ждать исполнения указа базилевса империи. Ослушание пресекать на корню! Списки виновных готовы, местное управление постаралось на славу»… и посмотрел в сторону катепана.
А тому хоть сквозь землю от такого внимания. Думал чиновник, что в хитросплетениях интриг он алгебру начал осваивать, а вот нет, оказалось, половину азбуки только освоил.
Выдал его Захария с дальним прицелом: теперь катепан, пережив унижение, будет верен ему, а кому же иначе? Не этому же сосунку из челяди императора, научившемуся стройно стоять, выпучив грудь, на смотрах да в карауле почетной императорской стражи при торжественных выходах базилевса в народ, да тешить услугами раздобревших на казённых откупах престарелых матрон. Да льстить безумерно своей патронессе – императрице, пристроившей очередного благородного отпрыска своего знатнейшего рода служить императору в почетной страже.
И этой толпе, думал Захария, катепан верным не будет: надолго запомнит народ того, кто может предать сегодня евреев, а завтра кто знает? Кто знает кого?
«Вам, православные, завтра всем на молебен! Водосвятный молебен проведу я у моря, близ ворот, что называются западными, проведу на рассвете. Придете?»
Общий вздох громадной толпы выдохнул: «Веди, отче, веди!»
«Символ веры» (православная молитва, квинтэссенция православной религии) закончил вече народа.
Лютка
Тёрк-шорк! Тёрк-шорк! Противный монотонный звук разбудил сладко дремавшую Лютку. Теплое солнце полудня жёлтенькими квадратиками да полосками мягко теплило дерево пола. Пахло чисто отмытой доской. Мать, что ль, старается? Поворочалась-поворочалась на длинных полатях, да ногами-то бух! И прямо в лохань. Брызги по полу, мать в стоны да «ох». И тихий смешок незнакомый… Тут Лютка совсем уж раскрыла заспанные глаза: кто в хате их?
Две незнаёмые бабуси, только что тёршие пол, легонько смеялись, смеялись так, необидно.
Мать, тон виноватый да тихий, начала с оправданий:
«Ой, утром иду по базару, там шуму то шуму!». Говорила скорее не дочке, а мужу. Шульга сидел молча, молча хлебал нехитрое варево, молча да искоса глянул на дочь, а жёнушка, радуясь такому молчанию мужа, говорила быстрее (вдруг остановит, да рявкнет на дочь):
«Иду по базару, а сего дня рыбы-то, рыбы! Не утерпела я, как барабульки не взять? Хамсы тоже вдосталь, а уж пеленгаса то пеленгаса набрала две корзины, а как мне нести? Хорошо вот, бабулечки помогли, донесли тяжесть такую».
От жеста хозяйки бабульки поднялись, покланялись низко хозяину дома, в полупоклон женке хозяина да дочке хозяина, что спит за полудень.
Хозяйка всё говорила да говорила, скорая речь выдавала полянку, «Так вот, народу сегодня, что снега на поле. Гостей много, богатых, из греков, наверное. И русичи есть, сама трех из стражи видала: по базару-то ходят, всё больше к мехам да рухляди лезут».
Хозяин, наевшись, махнул ей рукой. Жена замолчала.
Жёлтая муха летала по хате, теплые половицы богатого дома пахли домом, где дерева много, варево приживалось в утробе, и хозяин добрел.
Хозяин добрел… Повернулся к старушкам:
«Откуда вы, бабы?»
Первой откликнулась та, что одёжей похуже:
«Из-под Киева буду, хозяин! Как в лето пригнал нас поганец, так здесь и осталась. Хозяйка моя, Елена, потерялась ещё по дороге. Отбили её печенеги, на конь да и гикнули в поле. Меня никто не купил, кому я нужна, стара да тоща? Назад побрести, на то силушки нету. Так вот и перебиваюсь…»
«Зовут тебя как?»
«Боярыня звала мамкой, нянюшей, а матушка в детстве кликала Людмилой».
Хозяин присвистнул:
«Ты, глядь, тёзка дочурке! А делать что можешь?»
«Так все по хозяйству, хозяин! По бабской по части. Могу травушкой люд пользовать и лечить, что мятой, что чистотелом, за детками, вот, ухаживать со младенчества, да мало ли што? Что баба в дому делать могёт, то и могу, даром, что старая та тощая очень. Я шустрая баба!»
Хозяйка вступилась: «И впрямь, корзину самую большую несла. Не я накладала, сама захотела».
Хозяин кивнул: «Лады, оставайся! Много наешь, отработаешь. Я нахлебников не терплю».
И уже подобрее спросил у другой: «Как кличут тебя?
Та тихо, спокойно, немногоголосно: «Зовут Параскевой. Отец – Еремей».
Хозяин привстал: «Ты что ли крещёна?» В ответ только кивок.
И уже вовсе по-доброму Шульга уточнил: «Крещена давно, Еремевна? А можешь ты что?»
«Давно. Я – стряпуха».
Шульга встал, хлопнул по столу: «Ну, ладно. Живите. За Люткой втроём смотреть да глядеть, что с неё, дуры ленивой возьмешь?», – и ушел, хлопнув дверями.
Хозяйка, только моргнув на мужнину «ласку», захлопотала: «Дочка, вставай! Трошки поешь, посиди с нами, бабами».
Пока ели-жевали, новые приживалки оглядали хозяйку, но всё больше дочурку: толста была девка. Толста! В свои четырнадцать Лютка только что не катилась горошком по полу, так была пышна. А уж ленива была, на весь русский квартал ленью прослыла. И то!
«Ровесницы ей кто уже замужем, кто на сносях, про игрища уже и забыть позабыли, с колыскою (колыбелью, от старорусского колыхать=колебать) возясь-вошкаясь, а Лютка сидит себе да сидит. На гульбища ни ногой, не хочу идти, и весь сказ. Ведь насильно не поведешь, толстуху ленивую. На базар не идёт, а куда ей прикуп нести, она к вечеру только домой добредёт, спотыкаясь», – хозяйка, донельзя обрадовавшись новым ушам, все причитала да пела про дочку.
Лютка молчала. Мамина песня её не задела, мать не со зла, а с беспокойства страдала: «Вдруг дочка в девках останется, одна-одинешенька. В старости что будет с ней? Край-то чужой! Не милый же дом, хоть красивый тот край, а всё же чужой. Да, русичей много и словянов хватает, вон, целая слобода из нас прижилась в Корсуне-граде. А времена? Опасно за огорожу-то выйти, так половец лют! Что тебе печенег, что эти новые, половцы, всё в неволе не сладко, поди?»
Приживалки вдвоем, как по команде, закивали, заохали…
Так за разговорами про милую Русь перепевами провели дня остаток.
Еремеевна к печке пристала, и к вечеру ароматный дух свежих пирогов смешался с не менее свежим духом чистейших полов, желтые доски его источали то ли здешней хвои запах, то ли дух милой далекой берёзы.
Ввечеру, когда от работы ноги дрожали, на завалинку сели. Так, безо всякого уговора, называли все трое крылечко, От милого слова «завалинка» сердце теплело. Тихое солнце садилось за горы, морской аромат нес запахи йода, куры квохтали про близкий ночлег, даже Кулька и Пустобрёх, две дворские собаки, и те приутихли, наевшись.
Лютка, только что рот не открыв, слушала новые песни да сказы старух. И как то сразу стряпуху иначе как Еремевна и звать не звала, а тёзку Людмилу нянею называла.
Обе старухи мгновенно влюбились в Людмилку, по-домашнему, Лютку. Милая доброта необъятной толстушки как теплой подушкой согрела старые кости, и те сначала, слегка оробев, называть стали дочкой, потом осмелели и не иначе, как милою дочкой, и звать то не звали.
Да и то, где их детки теперь? Где их онуки? А милая Лютка, вот она, рядом, и внучка и дочка, одна на троих. Хозяйка перечить не стала – зачем? Люди с добром в дом к ней зашли, так зачем же перечить? Дочка так дочка, и быть посему.
На зоречке ранней Шульга с Еремевной подались до церкви; хозяин никак не мог склонить жену к христианству, и дочка туда же вслед за мамашей. Батюшка в храме советовал: времени, прийдет время, Бог их допустит до чаши Христовой, окунет в купель крещения чаши. Вот и терпел, а куда ж не терпеть?
Жену, а особенно, дочку любил до беспамяти: одна родилась. Бог сына не дал, дочерей других тоже. Лютка, что в тереме свет. Толста, да, не в меру, зато и добра, и певуча, птаху малую не обидит, кошку не пнёт, да псу кость всегда кинет. Да и его не иначе как тятенькой любым, не кличет, грубо не обзовёт никогда.
Встреча негаданная. Гость
К храму дорога не близка, да и не далека будет. Шли, по дороге здороваясь да толкуя с другими братьями да сестрами во Христе, что к храму в воскресный день торопились. С греками приветствовались по-византийски, по-гречески, со своими словянами в пояс поклонами, выкрестам Шульга руку протягивал для пожатия. Народу шло много, приход был большой, а по случаю праздника, воскресного дня народ валом валил в храмы родного Херсона.
После службы толпились у храма, никому уходить не хотелось. Родство душ христиан ещё долго не отпускало от паперти храма. Стояние долгое не утомляло, пусть даже и в пост, христианин учился терпеть, учился любить. Без пышности фраз, без пафоса речи в храме и ещё долго у храма всеобщая ласка любви держала людей, вот вроде как мать любит дитя. Может молчать, может ругать, может просто рядышком сесть, а маленький знает, что маменька здесь, что маменька – рядом, что маменькин свет материнской любви и в нем, и возле него ореолом. Так и у храма, как возле наседки толпятся цыплята, толпился народ.
Пора бы уходить, да люди искали поводов для разговора, все б не уйти от храма родного. В храме не поговоришь, в храме службу всю отстоишь, ногой не переминаясь. Так все же до вечера не простоишь, и народ стал разбредаться: дела да желудки пустые звали домой.
По дороге Еремеевна поздоровалась с каким-то мужчиной. Тот тоже приостановился, тепло привечая старушку, здравия пожелал и Шульге. Еремеевна, низко кланяясь в пояс, благодарила встречного за хлеб да соль, да пристанище. Мужик скромно отнекивался: «что я, зверь что ли или поганец, что не пущу двух старух к себе в хату?
Еремеевна указала рукой на Шульгу: – «вот наш новый хозяин, пустил за хлеб-соль»…
Слово за слово, мужики разговорились.
Оба роста одного, оба похожего возраста, к сорока пяти лето жизни катилось, даже бороды были похожими. Нет, на братов похожи не были, русый Шульга и новый знайомец Волк не были схожи. Волк прозвище не оправдывал. Был он не серым, а черным, только борода пегим волосом отдавала. Но крепкий мужик был видно, действительно крепкий.
Волк был ходоком за солью. Её добывали в ближних озерах да отвозили на Русь. Там торговали задорого, оттуда везли, что торговый народ на поклажу даёт. Волк да ватага торговыми гостями не слывали, соболей да куниц не возили, червленым серебром не интересовались, а вот соль, это дело другое. Получали за соль свои куны, да и домой, в тёплую Корсунь, что греками звался Херсоном.
Вот и недавно прибыли в Херсонес с дальней дороги.
Шульга не удержался, пригласил гостя в дом, уж больно новостей с Киева-града узнать захотелось. Хоть и за тысячу верст Корсунь от Киева, а всё родиной пахнет от Руськой земли.
Волк не ломался:
«К вечеру загляну. Соли гостинцем уважу». Расспросил про дорогу и пошел к людям торговым дела толковать.
По дороге назад усталая Еремеевна рассказала про знайомца:
«Как мы попали в Корсунь, так лучше не помнить, на три года слёз не хватит. А тут встретился на дороге, подобрал, что дворняг, привёл в дом. Отогрелись, отъелись, помогли по хозяйству. Работы там много, хозяйки-то нету. Один ведь живет, бобылем. Да и не бобыль вроде он. Была жёнка, были и детки. Куда делись, не знаю, но вроде как взял он их с собой как то на Русь, да попались на дороге то ли торки, то ли печенеги, нехристи, одним словом. Да при нем детей да жену зарубили. Он их в плен отдать не давал, а силушки не хватило. Вот эти каины детушек не пожалели, мать их миловать не помиловали. С тех пор и живет, как перст, один. Тяжело, а добрым не перестал быть, как видишь.
Сказал нам: «Как надоест у меня, уходите, дверь только палкой переметните, чтобы бродячие псы в дом не зашли».
Так мы и жили у нехристя доброго, Волка по прозвищу. Дома бывает он редко, видится мне, что не дела он ищет, да от себя убежать кому же позволено?. Ан, он то бежит. Вроде суров, нелюдим, а как добр. Если был бы крещёным, назвала бы его братом во Боге, а так, просто жалею его».
День был воскресным, потому на вечерню стоять нужды не было, можно было и домашним покоем дышать, наслаждаться, можно и гостя приветить ласковым словом.
Гость прибыл к вечеру.
Собаки было рванулись охаять-облаять чужого: уж больно соскучились по хорошей работе, да хозяин не дал насладиться собакам, цыкнул, и псы разбежались. Гость по обычаю низко кланялся дому, хозяину да хозяйке, чадам и домочадцам. Не краснобайствовал, а от души привечал хозяйку, отдавая гостинчик, солюшку каменную. Хозяйка обрадовалась соли, как дорогому подарку, хозяин – рассказам про Киев.
Пока суть там да дело, Еремеевна с нянькою суетились по горнице, накрывали на стол, передавая хозяйке яства нехитрые: пост он и гостя не жалует пищей скоромной, но редкостные в корсуньской-то земле губы (грибы) соленые да в маринаде, груздочки, лисички, вешенки да опята сдобрили конопляным маслицем: ешь, гость дорогой! Да по случаю воскресного дня хозяйка на блюде поставила рыбу на стол. Маленькая барабулька-султанка желтыми брюшками золотилась ошметками солнышка на столе, вареный бок пеленгаса белел посредине.
Хозяйка раз пять извинилась, что свежих хлебов нет на столе: не ждали гостей, а хлеба творят спозаранку.
Гость привстал, с легким полупоклоном хозяйке ответствовал:
«Радушие Ваше, господиня дому, слаще хлеба и меда насытит».
Хозяйка, слегка покраснев от нечаянной похвалы, отправилась на женскую половину, где Лютка да нянька сидели рядком, боясь хоть словечечко пропустить из рассказов о Киеве.
Гость насыщался недолго. Домашняя трапеза насыщала быстрее, чем приоскомившийся вкус варёной конины да вечный кулеш с дымком от костра.
Волк в краснобайстве не был силен. Так, пару фразу мог за день пробурчать. Но тут или домашние яства были виной, или радушие миловидной хозяйки да крепкого мужика, но Волк мало-помалу стал разговорчивей:
«Повстречал на пути старика, из-под Киева был или в Киеве жил, то не всё ли равно, а вот истину мне рассказал, и вам я поведаю нашу беседу. Что в Киеве видел, что старик рассказал, ты, хозяин, не торопи, я не умелец баить (говорить нараспев сказы-былины) красиво…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.