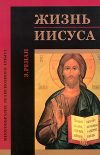Текст книги "Постник Евстратий: Мозаика святости"
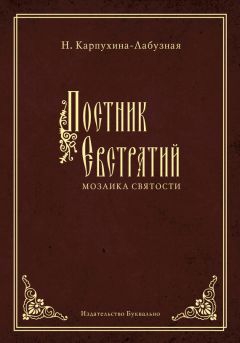
Автор книги: Нелли Карпухина-Лабузная
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Пусть я погиб и взят Хароном
Демитра захлопнула окна, но топот солдат под древнюю-древнюю песню в такт их ходьбы всё равно доносился сквозь ставни:
«Пусть я погиб и взят Хароном», – сафьяновые каблучки её отбили такт древнего, слегка переиначенного марша,-
«Пусть я погиб и взят Хароном,
И кровь моя досталась псам,
Орел шестого легиона,
Орел шестого легиона
Все так же рвется к небесам!
Все так же храбр он и беспечен,
И бег его неукротим,
Пусть век солдата быстротечен,
Пусть век солдата быстротечен,
Но вечен Рим, но вечен Рим!
Пот, кровь, мозоли нам не в тягость,
На раны плюй – не до того!
Пусть даст приказ нам император,
Пусть даст приказ нам император,
Мы с честью выполним его!
Сожжен в песках Иерусалима,
В волнах Евфрата закален,
В честь императора Ромеи,
В честь императора Ромеи
Шестой шагает легион!»
Кто-то из ополченцев так забавно рыкал «Ор-р-рел» и «Р-р-рима», так громко и звучно, что Демитра привстала, приоткрыла окно и выглянула, но старателя не увидела. Но как только захлопнула створку, как послышался трест звонкой зуботычины по орущему «р» рту: капралы-сержанты всех армий-веков всегда одинаковы. «Без битвы нет битвы», как любил пошучивать муженек.
Нет, окончательно день не удался. Ни мужа, пропавшего в чиновничьих коридорах имперских амбиций, ни Еремеевны, одна скукотень.
На пир к посланнику дам не просили, ибо зазорно матронам на питии быть. Похабщину слушать можно и дома: мало ли как муж-солдафон один на один с ней упражнялся. Не хватало еще на званом пиру анекдотики слушать да небылицы про императора да дочку его Анну Комнину.
Матрона поправила роскошь холеных кудрявых волос. Снова входила в скоротечную моду старинная блажь: поднимали на темечке волосы, сзади хвостом струились локоны по тоненькой шее, закрывая драгоценность колье. Рыжину в черные волосы гречанки добавляла, умеючи. Та ж Еремеевна знала какие притирки, а где находила, секрет. Но эта рыжинка завистью злобной в глазах смуглотелых ромеек сверкала: так прелестно было на эту рыжинку смотреть в копне волос дамы Демитры.
Демитра любила, когда дамы из света хвалили её красоту мёдом из уст, истекая ядом из черных глазищ. Ей краще (лучше) мёда такая оценка. Куда мужикам с их неуклюжими комплиментами в адрес стратигши, ну, розой её обзовут, ну, лавандой. А дамочки, о, как смотрели, смотрели то как!
Глупое мужичьё веками считает, что наряды, притирки, меха и колье женщина приобретает лишь ради них. Нет, конечно, мужчин тоже надо учитывать, когда глаза разбегаются на рынковых рядах при выборе меха и благовоний, шелков, бархатов, украшений.
Но прекрасная дама давно разумела: привлечь хоть патриция, хоть и раба можно блеском ясных очей или движением губ, а красота украшений служит только оправой к драгоценной коже её и глазам.
Нет, одеваются дамы, дабы дразнить своих соплеменниц. Когда видишь ярость в глазах самой ближайшей подруги при виде обновки, слаще медов-сахаров такая потеха. Это вроде тихой охоты. Исчезли времена амазонок, охотой балуются только мужи, ну, а дамам азарт и счастье победы где добывать? Только таким видом тихой охоты сражаешь чуть не в смерть соперницы взгляд. И еще посмотреть, какая добыча удачней. Пусть мужчины зычно хвалятся добычей охоты, гонкой погони и смертью врагов, пусть тешатся слабые люди. Сильные люди, Демитра имела в виду, конечно, себя, супругу стратига, такие, избранные, как считала она, наслаждаются молча. И оттого намного страшнее и удачливей бой, и тем слаще победа.
Нет, день не удался, совсем не удался.
Может, позвать девчонку, что недавно в доме своем приютила? Девчонка была хороша! Правда, из квартала евреев, но супруга стратига могла себе вольность позволить, и взять в услуженье хоть иудайку, хоть половчанку, ведь ходит ж русинка к ней мазь натирать. Девчонка смышлена, весела и услужлива, правда, есть один недостаток, слишком красива. Мириам была совершенна. Ну да ладно, посмотрим, как красота Мириам оттеняет её красоту. Девчонки жених, тщедушный Иаков преподнес такой драгоценный подарок, что муж, повернувшись, сразу заткнется. Крестик Анны Святой, презентик такой утешит любого в столице, хоть императору преподнести, хоть дочери базилевса, тоже Анне.
Нет, правда, вернется стратиг, и она, торжествуя, отдаст драгоценную ношу в руки ему, и пусть собирается снова в столицу, хлопотать, хлопотать, хлопотать. Пора, засиделась она в Херсонесе.
Провинция хороша, но не настолько, чтобы её красота здесь увядала. И так уж морщинок плодятся тучи по коже уже не только лица, но и шеи. Еще пара годков в Херсонесе и о карьере столичной жены придется забыть.
А муженёк только возрадуется драгоценной добыче и простит появление Мириам. Девчушка чем-то напоминала ей дочь, вернее, ту дочь, которую не родила, но так хотелось родить. Взрослая девочка ослепительна красотой и именно такая дочь могла быть у неё и стратига. Не дурочка, забавна, свежа, обаятельна и совсем не капризна, просто прелесть ребенок.
Решила: сейчас позову скуку развеять, новости разузнать.
Диспут
Иисус сказал: ныне прославился Сын человеческий,
И Бог прославился в Нем.
Если Бог прославился в Нем, То и Бог прославит Его.
(Евангелие от Иоанна,13: (31-32)
О, какой удачный сегодня денёк. Солнышко в темечко, синь-ветерок, море играет, ах, славный денёк!
Насобирал по дороге вдоль моря сиреневых трав, стоявших кустарниками вдоль берега и дорожки, от них пахнуло летом.
Ах да, и правда, вскорости лето.
Пора торопиться, пора задуманное доводить до конца.
Фанаил прибавил шажищ: торопился.
В склепе темно, пахло старой вонью сдохнувших крыс. Задохнулся с порога, но чем ниже спускался, тем запах слабее. В привычной уже для себя позе присел на ступеньки: «Не спишь?»
Узник не спал. Синие брызги громадных глазищ смотрели устало. На исхудалом лице разве что только глаза и остались. Вся сила – в глазах.
С него сняли кандалы-ножные оковы: куда такому до порожка наверх по ступенечкам доползти, такой сдохнет на третьей. А тот и сам понимал, сдохнет, конечно.
Роли своей не страшился и не стыдился. Противно, конечно, сидеть в полутемном углу день-деньской да ноченькой темной. Сон не брал его вовсе.
«Не сплю».
«Что, скучаешь?» – медовый гласок.
«Нет, не скучаю».
«Как так, ты же один?»
«Я не один…»
Второй засмеялся: «Ну, да, не один, я же с тобою».
Узник ответил:
«Нет, я не один, и ты не со мною. Со мною – не ты!»
«А кто? Таракан? Или ящерка забредает поговорить? Ты, часом разумом не поехал? Вспоминаешь Никифора да Климента. А сейчас кого вспомнишь, меня?»
Отсмеялся и начал: «Вот ты один и вас было много, кучка монахов, да сколько там при вас…»
Узник прервал: «Откуда ты знаешь, что мало иль много? Меру кто знает: много то или мало? И что может один? И что могут многие?»
Вошедший прервал: «Нет, погоди, не дури, не путай и не плутай. Я, вот один, и ты, вот один. Вместе нас двое…»
Узник опять: «Двое, но вместе ли? Рядом, быть может, но вместе…», и покачал головой.
Тот наконец понял: «ах, тонкости то какие! Разом («вместе» по древнерусски) или рядом, какие тонкости разума, тонкости языка, книжник ты этакий. Поднаторел в монастырских баталиях? Ну, и я и зря хлеб не ем: Ветхий Завет могу наизусть. А что, хочешь меняться: я – пару строф, потом ты, умник-разумник?»
Тот покачал головой: «Не под силу… Мной Ветхий Завет учен и знан, Бытие и Исход, Числа, Левит, Второзаконие тож… а вот Новый Завет ты не хочешь узнать?
И тихо начал шептать более для себя, чем для диспута:
«Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, Да будет Воля твоя яко на небесах и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
Второй не прервал, а с готовностью слушал, даже подался вперед:
«Ну, и где твой хлеб еженасущный, а, скажи-ка мне, где? Две недели тебя я мордую голодом, жаждой морю. А ты мне про хлеб? Где твой Господь, а, скажи мне, где Он бывает? Где хлеб твой? И где ваша воля? Какая уж воля, сидишь в кандалах, сил нет подняться с карачек. Застыл в своем мёртвом углу с мёртвыми рядом, а всё рассуждаешь. Тьфу, как противно! И передразнил: «… и остави нам долги наши…» Ну, и кому же ты должен? Разве что мне! За тебя и этих с тобой чернорясых отдал я тысячу веских номисм и зря! Ты понимаешь, о чем я? О ты-ся-че номисм!!! И золотых, между прочим!!! Состояние!!! И за кого? За нескольких босых, голодных монахов, тупых и бездарных? За веру свою сдохли с голода все, кроме тебя. Ты живешь, но пока!!» Тонким красивым пальцем помахал перед глазами страдальца: «пока!»
Но узник, как бы не слыша, свое продолжал: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Евангелие от Луки, 11).
Фанаил, будто не слыша святые слова, продолжал свои речи: «Да не злой я, не злой! Всего-то просил частицу малую: перейдите от веры вашей немноготрудной, откиньте вы заблуждения. Так нет, все твердили одно: умрем за Христа!
Ну и сдохли, туда им дорога!
И где ваш Христос? Кружку воды вам подал или хлеба? Чудеса сотворил, так не спали ж оковы с вас, с голодалых? Вон, пришлось даже оковы перековать: спадывали с вас, а мне всё затраты. Убытки, убытки кто возместит? А, ответишь, пожалуй! Мне ни тебя, ни Христа твоего жалеть нет причины, убытки, убытки, одни лишь убытки. Я разорён! Тысячу золотых, тысячу золотых, на них пол-Херсона скупить было можно».
Второй продолжал: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их..» (Евангелие от Иоанна, 12).
Первый продолжил свою часть «беседы», и издали можно подумать, что два товарища присели в тихом углу вдали от жаркого солнышка, да и задержались в задушевном своем разговоре.
Итак, первый продолжил свою часть беседы: «Странные люди эти монахи… пост и молитва, молитва и пост… что то дает? И, зачем ты подался в монахи? Мне тут порассказывали, был ты богат, тучен и знатен. Но, дурачище ты эдакий, пораздавал нищим всё, не тобой нажитое, и тоже в нищего обратился? Зачем, ну зачем ты подался в монахи?»
Второй тихо: «Господь наш призвал, я и пошёл, не противился воле Господней. Поверь, инока жизнь – не суетна, мирская – суетна, инока жизнь преподобна, мирская же полна клевет, инока жизнь к духу стремится, мирская к плоти; инока жизнь – к небу, мирская – к земле…»
Помолчал, ожидая упреков от первого дискутера, но тот, подопрев коленку рукой, внимательно слушал.
И второй продолжал так же тихо, как начал: «Как тебе объяснить? Понимается, пост и молитва недаром даны нам святыми отцами. В моем монастыре, что на Киевских пагорбах (холмах), игумном по имени Феодосий, заложено было, и братия наша его зову внимала и следует суть, так как он нас учил: «воздержитесь от пищи обильной, ибо от многоядения и пития безмерного безмежно же возрастут лукавые помыслы, а от возросшего помысла случается грех. Воздержитесь, и противьтесь бесовскому действию и пронырливости этих тварей, остерегайтесь лености и многого сна, ибо бодрствовать следует для церковного бдения, церковного пения и для усвоения предания отеческого и чтения книжного». Так учил святой наш отец.
Но это лишь половина задачи, нет, пожалуй, даже малая треть.
Мыслится мне, если следовать только этой части завета, то мы превратимся в схоластиков суть, в чернокнижников и фарисеев. Много таких и у вас, и у нас.
Вот ты гармоничен. Красив, величав с внешностью без изъянов. Как в древние, то бишь языческие времена. Нам наша вера открыла, что человек может быть, так сказать, дисгармоничен. Пример? Пойми, кроме внешней, есть более важная красота, душевная красота. Наши святые, и многие их числа, поразительно внешне отталкивающие от взора. Аскетов тела струпьём покрыты, раны не заживают, кровь сочится из тела, босы и грязны. А вглядишься в свет их очей, в зеркала души, и такая благодать Духа Святого сочится из глаз, что мёда не надо.
Но что от того, что просто аскетом может жить человек, без упования на Бога? Я считаю, что сердце отверзается для истинной молитвы аскета-монаха не только постом и страданием. Сердце его отверзается перстом Божиим, когда соблаговолит Господь Бог и когда сердце очистится от страстей. А отверзается нам через молитву.
Правда, скажу, что тело у человека создано Богом по образу и подобию Его, и не могу считать пренебрежение к телу правильным. Но что тут поделать? Лишён я воды, чистоты и жилища. То выбор не мой, а твой, чьё тело прекрасно, омыто с утра и благоухает.
Понимаешь, как тебе дать понять, что внешняя, то есть земная красота человека это только ступенька на пути к высшему, к благодати небесной».
Первый прервал: «И это ты мне твердишь, ты, аскет? Как мне про тебя говорили, ты с детства, чуть не с пелёнок аскезу ведёшь, уходя от земного в темноту мрачных пещер, слизью покрытых и мраком внутри. И тебе ль говорить о красоте, земной или небесной?
Я считаю! – палец опять поднят к небу, блеснули в полумраке брызги от драгоценных камней на перстах, – так вот, я считаю, что твой аскетизм, это фактически отрицание мира, его ценностей и идеалов. А значит так, это ты, именно ты приверженец зла, а не я. Понял, подлюка»?
В сердцах бросил камень во своего визави. И не попал. И оттого плюнул с досады. И плевок не попал.
Второй как бы не слышал, как бы не видел поруганье такое, только горестно передохнул, и продолжил: «Нам Феодосий заветывал главную мысль: больше любви иметь в себе. Но не к себе! А ко всем меньшим и старшим. К старшим иметь покорность и послушание, а меньшим к старшим проявлять только любовь. Старшим пример подавать послушанием, наставлять в разуме братию нашу, и являть пример воздержания, бдения; так проявляется пост. Великий пост в 40 дней дается для очищения душ. По сути это ведь десятина, даваема нами от года Богу Всевышнему. Постом очищается ум человека!
Ты – умный и знающий, ведаешь сам, что не случайно же Моисей постился все сорок дней, и сподобился получить на Синайской горе Божий закон и видел он славу Божию. И мать Самуила постилась перед рождением его.
Еще примеры? Пожалуйста! Постился Илья и взят был на небо, и, самое главное, что хочу донести до тебя: постился Господь сорок дней. И потому эти сорок быстрых дней нам завещаны Господом нашим, Иисусом Христом».
Первого дернуло, как будто током: подорвался, поскользнулся на стертой ступеньке и подскочил, только что не вплотную, ко второму спорящему с ним, таким знающим фарисеем.
«Иисус? Ты сказал, Иисус? Неудачный пример, весьма неудачный. Моисей, что ж, я согласен. Мать Самуила, само собой. Я даже добавлю еще примерчик: постились ниневитяне и тем самым от гнева избавились Божьего. Или вот ещё один из примеров: постился Даниил, и великое видение сподобился видеть. Живые примеры записаны в Вечной книге», – и снова поднял безукоризненный палец.
А твой Иисус? Кто видел, как Он постился? Кто подтвердит?»
Второй улыбнулся только глазами: «Пойми, Бог поругаем не бывал и не будет. Вам, иудеям, нужны доказательства всему и всемя? Умное племя погрязло в законах. Пойми, есть буква и дух. Буква для вас. Дух же – для нас! Потому и молитва…»
Но далее прервал его искуситель.
Тут я впрямую назову того, кто в образе Фанаила мучил Евстратия. Искуситель вошёл в тело ростовщика, и искуситель теперь, практически напрямую вёл диспут с подобием Бога, со смертным, с человеком.
Итак, прервал Фанаил измождённого и возопил: «В чём я сущ? Я горжусь, что неуклонно мной соблюдён наш закон. Безукоризненно, именно без укоризны любого из фарисеев, книжников и раввинов я соблюдаю закон. А как соблюдаю? Я его исполняю».
Узник (устало): «Павел апостол, подметил, что ни моральное зло, ни лежащий в основе его всякий грех в мир не вошли бы, если не даден был человеку закон. «Что же скажем? Неужли грех от закона? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди и закона, произвёл во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мёртв.» Слова апостола-пастыря тебе хочу донести, пойми хотя бы крупицу истины нашей, не вашей.
Я так понимаю, Павел нам доносил до нашего сердца, что всякая заповедь, всякий закон, данные нам для блага, для нашего блага, являются испытанием воли-свободы. Злые силы, духовные силы, искушают тебя и меня, прельщают картинами иллюзорного блага. Не всякий может так запросто-просто уйти от соблазна, потому в подкрепление сил я и ушёл от соблазна грехов в пещерку свою во имя свободы, Богу служению суть.
Длинный свой монолог узник продолжил, передохнув. «Мыслю я так, что не только через нарушение любого закона, но парадоксально звучит, и через самое что ни на есть безукоризненное его исполнение человек попадает под власть сил. Очень злых сил, я разумею.
Разве я удивлён, разве ты удивлён, что Господь наш, Иисус Христос свой праведный гнев обращал не на грешников, а на будто бы праведников-фарисеев, которые абсолютно беспрекословно и безукоризненно исполняли закон, прежде всего заповеди Моисея.
Почему Спаситель был так непреклонен, будучи милостив к грешникам и блуднице, мытарю и рыбакам?
Я на примере тебе приведу, близком к тебе. О субботе. Почему ценна заповедь о субботе? Потому что Богом дана. Но представлю себе, что забуду Его, перестану видеть Его, любить как Отца, а всей душой прилеплюсь только к словам, к текстам заповедей Его. Станут они злом для меня, хотя сами по себе и добром суть их, и не перестанут хорошими бысть. Тогда празднование субботы будет кумиром, потому станет для человека только заповедь, а не веяние Воли Божьей. И уходит человек с Божьей стези на идолопоклонскую, как и стало у Вас, иудеев.
Ведь некогда стали вы поклоняться тельцу, забросив, отринув заповеди, данные Моисею. Скажешь, не так»?
Первый молчал: чем крыть на голую правду?
Узник продолжил: «В чём заблуждение? Поскольку утверждение, что заповедь о субботе правильна есть без оглядки на веяние Божьей Силы, пленяешься сам себе. Тогда всякое правило нравственности и их совокупность становятся самодавлеющими по той простенькой по причине, что я так решил. И начинаешь поклоняться кому? Да себе, драгоценному»!
Первый дёрнулся, понял намёк, но не прервал мудрости суть.
Второй тихо продолжил длинную речь. Видно было, как он устал: старое заикание, давно, ещё с детства пришедшее со смертью родителей, всё сильнее сказывалось на темпе речи. Но он, превозмогая своё неумение в красноречии, продолжал, а первый привык, пообвыкнув к такой странной подаче словесного материала.
«Чем выше предмет твоего увлечения, тем больше соблазн, и тем более тропинка опасней. Свернул ты с дороги, широкой, протоптанной, свернул на тропинки извилистый путь, не приводящий к спасению. И чем чище живёшь, тем глубже, опаснее и неискоренимее страсть поклонения к себе самому. Вот почему наш Апостол (Павел-Савл) сказал: «Сказываю вам, что там на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». От себя, грешный, добавлю: есть глубокая разница, пропасть между законом и справедливостью, целая пропасть.
Христос эту разницу понимал! И ты постарайся понять его простые слова, что суббота для человека, а не человек для субботы.
Я что ещё хочу тебе донести? А почему я спорю с тобой, видя сущность твою? Потому что ты человек! Пока – человек. Вот к человеческой сущности обращаюсь, пойми, и, не поздно пока, прими покаяние…»
Хотел ещё что-то продолжить, но первый внезапно поднялся, даже вскочил и рванул из пещеры.
Второй прикрыл уставшие очи и провалился в забытие.
Кончилось детство
Отца привезли ночью. Забарабанили в тёсаные ворота, что обшиты дубьём на всяк такой случай, застучали ногами, дубинами, мать всколыхнулась: беда! Не княжьевы тиуны или иная какая погибель, не русичи пьяные по слободе шатанье устроили с медведями да кабанами на привязи, пришла другая беда!
В сердце как ком, ни оха, ни вздоха. Домна взобралась в спаленку терема: беда, матка, беда!
«Открывай»!
Мать, как полотно в цвет белейшей рубашки, косы под плат, наскоро на рубаху накинула верхнее, поторопилась выбежать вниз.
Дворня собралась с огнями да с топорами: кто так стучит, греха не боясь, ноченькой темной, мёрзлой и стылой, дом то пустой: хозяин в отъезде.
Домна мать поддержала: у той ноги подкашивались от близкого горя, все дальше белела лицом, хотя дальше вроде и некуда.
«Кто там стучит»? А в ответ: «Отворяй, хозяина привезли! Да живее, час не ровен, кончиться может».
Со скрипом открыли калитку в заборе: ворота открыть, а вдруг кто лихой? Прыткая Домна голову за ворота высунула: «И впрямь, наш хозяин!»
На наскоро срубленных из берёзок двух перекладинах, на клочьях чёрного сена тело хозяина, без движения, без дыхания. Мощные руки кто-то сложил, на грудь положили, такого хоть счас в могилу.
Мать враз сомлела.
Голос оттуда, из-за ворот: «Куда вашего-то складывать будем? Да торопитесь! Нам до рассвета еще остальных развозить, до утра, до рани успеть ба». Засуетились, воротца открыли, оттуда двое рослых внесли тело, осмотрелись. От света дворницкой ещё темней становилось, чёрные отблески факелов даром коптили чистое небо.
Пришлые молча бросили тело на землю, развернулись, перед воротами, обернувшись, поклон сотворили: прощайте, однако. И растворились в ночи. Топот копыт, и так приглушенный, стих в темени ночи. Кто эти двое? Откуда хозяин? Что за напасть?
Двое старушек возились близ мамы. Юрко подбежал, бабки зацикали: «Уходи-ка, малец, не видишь, как матери плохо»? Мальчик не слушал. Опустился на корточки, поднял безжизненную руку матушки родной – беда!»
Сзади кашлянули взрослые дяди: «Что делать, хозяин?»
Обернулся. Толпа мужиков, вся дворня, челядь, холопы стояли кругом: «что делать, хозяин?». И понял: хозяин-то – он!
В тринадцать, мальчишка, мамкин любимец, пестованный-пестованный до баловства, и хозяин?
Завертел головой: что делать, что делать? Челядь молчала…
Выдвинулся старый Пахом: «Слышь-ка, хозяин, у батюшки твоего рана в груди от сабельки будет, не половецкой, а нашей. Нужно на княжий правёж доложить, иначе сожгут, Святополк не жалеет. Сожгут, ой, сожгут, не помилуют!»
Мальчик вроде как и не слышал: сзади него белое тело отца в белой рубашке, вышитой матерью редким узором утицей, деревом вечным да родовым, вьётся красный узор по белому полю, редкая редкость в нонешние времена.
Вышивке только учились, входила новая мода в знатные домы, по тканому полотну руки боярынь, княжон иголкой водили узоры – расцветья.
Мать исстаралась: отцу вышила саморучно по рукавам да отвороту рубахи чистый старинный узор древнего древа, утицы-птицы, рода начальницы, племени знак.
Ворот рубахи разорван до пупа, из белой груди сочится красная жидкость, падая неслышными каплями на землю сырую.
Так и запомнил навеки каплями красную кровь, и мамины руки, разбросанные по земле, скелетевшие миг от мига. Открытые дивные очи милой матуси уже закрывала старуха платком-покрывалом.
В ночь потеряв и мать и отца, сидел до заутрени, как сам мертв у матери в горнице, не отходя от холодной руки. Теплые руки мальчишки держали холодную руку её, согревая дыханием, но холода мрак руки матери удерживал крепко.
Едва оттащили… Не помнил ни поминальнои тризны, ни отпевания в церквушке на погосте (кладбище). Не помнил совсем!
Сколько раз он потом, в тишине полумрака убогой вырытой кельи пытался вспомнить хоть миг, но помнились руки, красивые белые руки, леденевшие в его дрожавших руках, белые тонкие пальцы без украшений (мать наряжать себя не любила, и часто в храм относила подарки отца, лалы да яхонты: кровь на них, кровь!). Руки так некрасиво покрывались синими пятнами, мамины руки. Почему-то запомнил рыжий пушок волос на нежных руках. Удивлялся, вроде мать не рыжей была? А пушок вот запомнил…
А как хоронили не помнил. Отца вовсе не было будто. Кроме капелек крови из рваной рубахи не помнил совсем ничего.
От княжеского правежа запомнил одно: «Сын за отца не ответчик!»
После тех похорон свалился в бреду, а сколько, не знает.
Но утром однажды вышел во двор. Привычная суетня богатого дома привычно-обычно обыденным хлопотом круговерть ежедневных событий держала челядь, холопов у дома.
Входила скотина во двор, мыча от предвкушения близкой сладкой водицы, бегали юркие поросятки, как собачонки, по стылому двору, утица пыталась лебедушкой белой проплыть по двору, да только корячилась с ноги на ногу, крякая на весь двор.
За хлопотами не сразу увидели на стылом крыльце, расшитом резными узорами под дуб да клен белый, хозяина молодого. Стоял бледный, худой, в одной исподней рубашке, не замечая ни стылости, ни своей срамоты.
Домна вмиг подскочила, взяла под ручки, завела не в хоромы, в кухню ввела покормить.
Ел будто нехотя, брал в руки только что было из постного хлеб, лук да репу. Пивом домашним запил нехитрую снедь.
Домнушка захлопотала: «Юронько, милый, сейчас же не пост. Вот, рыбки отведай, а, хочешь, я уточки изловлю?» Рукой отмахнулся: не надо! «Домна, скажи, кто мой отец?»
Та даже руками от изумления всплеснула: «Юронько, милый, как кто отец? Батюшки родного что ли не помнишь?» Даже мыслишка мелькнула, может, малец и тронулся часом. И то, потерять враз и мать, и отца, свихнешься, коли сердце имеешь.
Юрко продолжал, сердясь на скудный умишко старушки: «Кто мой отец?»
Та, наконец, поняла, и что врать тоже не нужно, тож поняла Начала, глаза в стол опустив, руки под щеки:
«Бают, отец твой в разбойниках был. Душегубом! Ночами лесами ходил со своею ватагой. Слышь, был вроде как в атаманах. Грабили что купцов, что боярский народец. Оттуда матушке и приносил в чистом платочке лалы, рубины, сапфиры да яхонты из мокрого черного леса.
А бают еще (старуха аж раскраснелась), что батюшка твой воровал так чисто для наслажденья, матушке колечко иль гривну (женское шейное украшение) добыть.
А как узнает, что в храм относила подарочки мужа, так поколотит, конечно, но сердцем отходчив покойничек был.
Ойкнула, про покойничка зря она что ли? но мальчик-отрок на это и ухом не двинул. И продолжала: «колотит-колотит, а потом снова привезет, да еще краше гостинец.
Но страшное люди бают-толкуют, что батюшка твой не только за гостинцами по лесу шастал. Жёг села, деревеньки, посады, а людишек в полон отдавал! Князюшек этих, что свои деревеньки ему отдавали, Святополк, а что Святополк? Князь Святополк, слышь, их не тронул, видать, откупились. Князь наш знаменит своею скаредой. Недаром жидам пол-Киева на откуп отдал. Да мало, все мало, ему, окаянному. А делать что будешь? Ну, кто супротив словечко промолвит, на того дружина из русов враз налетит, на правёж. Под дыбу или по обычаю в плен продадут. Куда ни кинь, везде клин!».
Отрок слушал, не перебивая ни вздохом, ни словом болтовню неугомонной старухи, а та продолжала, уже искренне переживая и за себя, и за Киев, и за свою деревеньку, что где-то там затерялась, в глубине полесских дубрав.
«Вот люди и бают, что батюшка ваш (от злости на князя сама не заметив, перешла на недоброе «вы») не в последних у князя ходил порученцах. Сам, то конечно, отца не видал. Они, слышь, через огнищанина какого-то соотношались. Тот и дележку творил: князеву – что, что – огнищанину, что – прочей ватаге.
Дом-то от ваш на те деньги и строен. Ворота тесанные да крылечко с узором на горе людском, да на стонах ребят.
Матушка сколько раз от него уходила, да вот куда. Привезут назад, запрут в ее горнице, ты маленький был, ты и не помнишь?»
Покивал головой: «Точно, не помню… А вот огнищанина того знаю! Видел на торжище, я тогда маленький был. А огнищанина помню, злой он был, нехороший».
Домнушка подхватила: «Точно, что был! Вскорости, как мы в девятый денёк на могилке хозяйки поплакали, нашли того огнищанина на юру. Повесился, что ли, или ему кто подмогнул, Господь один ведает. Может, и князь, концы в воду, слугу на березу. С мёртвого спросишь, ага. Потому и тебя не пытали на княжем двору. Князю свой недочет народу открыть было неможно: народ и на вилы за такое поднимет. Так что отделались мы легким испугом: огласили, что ночью на батюшку твоего разбойнички-то напали, и делу конец. Ты, милой, кушай, кушай!»
«Нет, Домнушка, сыт я по горло отцовским добром!», – и ладонью прихлопнул по столешнице дуба.
Домна хотела поплакать да пожалеть несмышленого отрока, сироту, а перед ней за столом сидел возмужалый, разве что не мужчина, хозяин.
«Ох, как на батюшку-то похож! Если б не матери чистые очи, крут был бы отроче. Юрочком да Юрком и не зови, вон как глазищи сверкают». Оробевшая Домна, растерявшись спросила: «Что ж делать, хозяин?»
Его подтолкнули эти слова, поклонился стряпухе, шапку на голову, и в раз подался со двора.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.