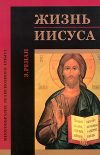Текст книги "Постник Евстратий: Мозаика святости"
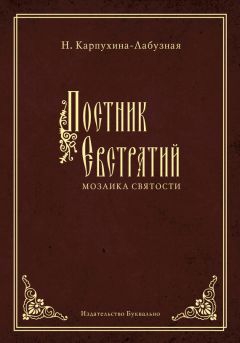
Автор книги: Нелли Карпухина-Лабузная
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
Божий суд
Пройдет без малого шестнадцать лет, и в ворота женской обители постучится старуха, дряхлая-дряхлая, в выцветшей свитке (верхняя одежда из шерсти мехом вовнутрь с воротником выше головы), платке, носившем следы золочения, в длинной рубахе, грязной и рваной. Драные поршни, космы седые, выцветший взгляд. Кто бы узнал в древней бабусе гордую Лидию?
Игуменья, по обычаю, сама привечала гостей. Старуха, подслеповато смотря на рослую игуменью, жалиться стала на жизнь и проситься к ночлегу. Плакала, старческие слёзы катились горохом по морщинам, вдоль да поперек изрывших лицо.
Игуменья не торопила, всё пристальней вглядываясь в облик старухи. А та молотила своим языком, найдя благодарные уши. Рассказ был не долог, если убрать слезы и сопли, ворчанье на жизнь да попрёки судьбе.
«Был у меня сыночек единственный, ненаглядный. Знатный боярин! Холила, нежила родное дитятко, вырос мужалым, князю приветным слугой, верно и добросовестно служил Святополку. А что получили взамен? Хоромы, так ведь сгорели до тла! Разбойники, душегубы, и кто ведь, дворня своя подожгла старый терем, заполыхало с углов. Осталась сама, в чем вот выбежать и успела», – старуха при всём разговоре старалась не показать зажатые в левой ручонке каменья и жемчуга, – «сгорело! Скотина, и та погорела, как запалился огонь, да с углов и с кошарни, с конюшни, с птичника и овчарни, а ворота закрыты. Дубовые, тёсаные, плохо горят. Металась скотинка, металась и я. Дворня та вся кинулась за ворота. Успевал кто из них скотинку угнать, тот успевал, знамо дело, разбойники-душегубы, да не отдать мне, а самому поднажиться. Куры да петухи летали по двору, пытаясь через заплот перелететь, да куда, крылья им еще в цыплятках срезали, чтоб улетать не могли. Овечки кучкой блеяли среди двора, вроде кто и вывел за двор, я уж не помню. А как терем горел, ну, ровно лучина. Вспых! И крыша, отдав напоследок миллиардочки искр, завалила добро клетей и подклетей, погребов и хозяйских светлиц. Наживали добро много долгих бессонных годков, а сгорело за миг, будто не было»!
Старуха долго перечисляла убытки урона, наплакавшись вдосталь, перешла к основному.
Игуменья слушала молча, пытаясь жалеть старушонку, но сердце почему-то не отдавалось откликом милосердия.
Старушка тишала, уже горько, как факт, рассказала, как посторонняя, монотонно-уныло про материнскую боль.
«Сыночек, был ладным, из уных, что верно служили великому князю. Неблагодарная чернь, не чужая, своя дворня холопы и смерды, челядь и двор словили хозяина, что прискакал намётом от бунтующего киевского простолюдья. Бают, чернь взбунтовалась по смерти великого князя, ловили жидов, ловили и уных, палили добро, катовали (катовать – пытать) хозяев.
Дошло лихо до нас, не минуло, не миновало! Поймали коня за уздцы, сыну даже гаркнуть не дали на чернь, стащили с коня, да на воротах и повесили арканной петлей. А что я могу? Ни сыночка с ворот снять, ни чернь от него отогнать. Выла, присев на коленях у ног мёртвого сына, выла и что?»
Старуха ныла про то, как смотрела, сжав бессильные кулачки, как резвилась доселе покорная чернь: как плевали девки срамные в очи хозяину, что тешился ними, себя не жалея, мордуя нещадно рабьи тела; как плевались взрослые мужики, вспоминая не раз поротые спины по указке Словяты.
Так и не поняла, каково было людям. И, не важно, были грешны или нет, указание боярина бить исполнялось прилюдно. Каково мужику лежать на лавке посреди двора, когда окружают его ребятня и жена, а спину полосует удалой молодец, не жалея свинчатки? Зажмет страдалец в устах палку какую, так до порки конца изгрызет её, ровно пёс кость.
А боярыня старая из оконца светлицы, попивая взварок, строго следит, не балует ли кат, усерден ли или так, для острастки кнутом на голой спине рубцы оставляет?
Бабы из дворни те тож, ни одна не заступилась за Словяту. Поминали обиды: кому косы вырвал от злости, кому ребенка прижил, не глядючи на родного мужа, от кого отнял родное дитятко, загнав в кабалу.
Бабка продолжила вечную песнь:
«А вот мне, погорелице, дали уйти, не били, не мордовали. Выгнали со двора, будто и не боярыня я, а так, простолюдинка. Кто сыночка моего хоронил, и не знаю. Может, и не лежит в землице сырой, мог сгореть в огне горящих дубовых ворот, нашел себе смертушку горькую, огненную! Чернь разбежалась гонять по Киеву уных, жечь в синагоге жидов, а я, вот, побрела на упокоение, до вас приплелась, пожалейте сиротку».
Киев апрельский одна тысяча сто тринадцатого года бушевал не на шутку: умер князь Святополк, значит, хватит, отмучился Киев.
Чем больше старуха повесть вела, тем тверже Елена осознавала: свекровь. Те же постные губы, те же слова, тот же выцветший глаз, недобро смотрящий на небо. Свекровушка, Лидия!
Больше для приличия, переспросила: «Крещеная?»
Лидия закивала, обрадованно понимая, что без хлеба кусочка и без ночлега ей не остаться на поругание толпе.
Отслужили молебен за упокой грешной Словяты души, отвели старушку в дальний уголок, где жили в кельях по трое и четверо послушниц. Старушка смиренно терпела нужду, понимая, что монастырская пища едва ли заменит боярскую снедь. Что монастырю было взять-то с убогой старухи, последний плат или старый носок? Жила милостью божией, зато не на улице, прося подаяние у многочисленных папертей, а в тишине благодатной молитвы в женском монастырке покоила свою старость.
Схиму она принимать не хотела, да и игуменья б не дала: отмаливать старухе грехов да отмаливать, ан не усердна была старая в молитвенных то поклонах. Больше ближе к кухне держалась: там ломоточек, там кусочек, там глоточек нехитрой стряпни жевала беззубеньким ртом, давясь жадным куском, вспоминая хоромы, устоявшееся прежнее бытие. Монашки терпели нытьё: смиренность, иноди старушонка норовила стащить кусочек послаще, терпели опять – смиренность!
Ни разу она не помянула про невестку, как той вроде и не было в её жизни. То ли память стиралась старушечьим обыванием, то ли злоба на сердце вырваться не дала добрым словцом помянуть покорность снохи, то нам неведомо, но ни игуменья, ни старуха темы больной не касались. Игуменье милосердие не разрешало, старухе – застарелая лють.
Игуменья давно поняла: монастырский лад мало похож на кладбищенскую тишину. Хлопоты по хозяйству, уход за больными, немощными и сиротами отнимал времени много, много усилий, и денег. Перед смертью старая игуменья, передавая ей власть, просила и требовала: себе не бери. Соблазнов хватает и народ ходит разный. Разбойник какой принесет горсть деньжат, купчинка от сытости отвалит полтину, боярыни, особенно из старух, приносят пожертвы, так не бери себе ничего. Хватает на свете сирых, убогих, так ты им отдавай, а сестриц держи в строгости, но милосердствуй.
В бозе почила старая власть, игуменьей стала она, уже не Елена, а, принявши постриг, стала матушкой Досифеей.
Чёрный платок, чёрная ряса, строгие синие очи: матушка Досифея держала монастырёк твёрдой рукой!
Доходы росли, вести о матушке, что, как и старая игуменья, богатства не наживала на горе людском, на лихе да скудости, молва разносила благодатной волной.
Единственной слабостью матушка всё ж страдала: книги, где могла, как могла, заполучала она драгоценность письмен.
Когда дарили ей книги, что везли из самой Византии, она в тишине монастырской кельи ночами скрипела пером, переводя на славянский трудный греческий звонкий язык.
Кирилл и Мефодий, как славно они помогали в трудении этом! Славянская азбука проста, буквочек, что звуки родные воспроизводят, хватает, и ложились на желтый пергамент (харатья – по-русски) чеканные строки церковных учений, переводился Студитский устав. Славно будет читаться на утренях и вечернях, на требах славянский язык, давая людям отраду и счастье наслаждаться библейским письмом.
Ни скучать, ни ленивиться в монастыре было некогда, трудились божии пчёлки, трудилась Елена… простите, матушка Досифея. В трудах да молитвах текла монастырская жизнь, за молитвой Господней застала ее смерть, что не мукой была, не страданием, но простым переходом в вечную жизнь. Тленное тело похоронили близ церкви, душа отлетела в положенный час к вечному ожидать Божьего приговора.
Об одном сожалела душа внезапно усопшей: не успела, не захотела себя перемочь и простить старую бабку, что испаскудила ей прежнюю жизнь, простить ту, что однажды переела сладенького аж до смерти.
Как то раз монахини по заказу готовили к греческой свадьбе печенье под названием «хрустики» (хворост). Перед свадьбой обычай старинный требовал на девичнике хворост собравшимся подавать, а кто лучше чистых душою монахинь изготовит чистую снедь для чистой невесты? Потому и готовили часто в монастыре то одно, то иное яство на свадьбу, на другое какое торжество для греков, славян, для других киевлян.
Так вот, Лидия, не удержавшись, съела кусочек, вначале один, за первым последовал и другой, за другим иные кусочки летели в бездонную пасть. Жирная пища (хворост тогда готовили на масле, на
привезенном, ромейском, на оливковом первого сбора в богатых греческих домах, в домах победнее – на конопляном масле, в самых бедных семьях – на льняном, иначе называемом «деревянном». Подолнечник тогда ещё не был известен Руси), к тому же горячая, к тому же во множестве, тут и здоровому нужно поостеречься, а тут старуха, слаба да стара, но жадна без меры, без удержу.
И корчилась старая в судорогах заворота кишок, выла и плакала. И кляла! И кляла! И кляла! Бога и церковь, сына и челядь, Киев и князя. Всем досталось от жадной старухи. С чёрным словом в устах и закончила жизнь, жизнь свою, чёрно-белую. Что осталось от бабки? Отвечу: каменья. Зажаты в лапчонках, камни горели, отдавая все ярче и ярче свою суть служить монастырскому бытию.
Волнение толпы киевлян устоялось явлением Мономаха, тот твердой рукой наводил в хаосе порядок, в хлопотах смутных дней никто и не вспомнил про старую Лидию, что в свои почти восемьдесят едва двигала ноги по келье.
Однажды наутро старуха не встала. Открытая пасть показала, что отдала Богу душу боярыня.
Умерла как-то не по-христиански без исповеди, без покаяния, с чёрными словами на чёрных устах. И это в монастыре, где должно царствовать святости.
В сжатых скрюченных лапках старухи, что держала у сердца, нашли самоцветы. Отдавали тепло кровавые камни, отдавали теплом зелёные камни, серебристо блестели рядки жемчугов, камни, как будто освободились из плена, мерцали, привечая новых хозяек, служительниц храма, христовых невест.
Наконец-то каменья послужат добру: будет хлеб в закромах, будет украшен узорно киот, иконы Спасителя и Матери Божьей украсят окладом. Камни окружат светлые лики, мерцая в ночи, сверкая при свете лампад и свечей. Омоются слезами людскими, и хорошо, пусть тянутся люди к Божьему Лику, пусть просят милости у Матери. И не важно людскому потоку, что за камни, откуда они, красно украшены дивно оклады, слава Всевышнему!
Миру– мирово, свету – добро!
Конец Святополка
И явилось знаменье на солнце в первый час дня! И было видно всем людям: сужалось солнышко красное, виднелось, как месяц рожками вниз. И было это в марте, девятнадцатого. (Из «Повести временных лет», год ст. летоисчисления 6621, нового летоисчисления 1113 г.)
Ох, не к добру таковое знамение! Киев гудел, полнился слухом: кто половецкую рать пророчил стольному граду, а кто небывалый неурожай. Погудели, посплетничали, было забыли. Пасху Святую отгуляли на славу, да вдруг после праздников князь разболелся. Почти месяц болел, болел тяжко, страдал, почти выл дни и ночи.
Ни бабки-ведуньи, ни умные доктора, что приплыли из Византии, князю не помогли.
Возили и в Лавру, где его, в крещении Михаила, встретил игумен. Да толку мало было с того. Игумен князюшку не щадил, вспоминая на исповеди грехи князя, чаще вольные, чем невольные. Князь многое подзабыл. Это про обиду себе помнится долго, а коли ты урон или обиду наносишь, так то вроде забавы для князя великого. Долго исповедь длилась, устала, стомлела дружина, устала княгиня, ожидая в возке благоверного, а игумен нанизывал на цепочки памяти всё то, что князюшка в жизни беспутной, порочной и жадной успел натворить.
Князь было пытался отлаяться (лаяться-ругаться), да игумен прикрикнул: «Скоро к Богу отходишь, как там ответ-то будешь держать?!»
И пристыженный князь завздыхал, попытался покаяться.
Мало-помалу неискреннее каятье перешло в искренний плач. Плакал старенький князь, сам уже перечисляя свои негоразды. Вспомнил про Василька Темного, ослеплённого при живейшем его, князя, участии, про Давида, Олега тож не забыл. Плакал князь, что страдал неумерною жадностью, покрывая весь Киев поборами, один соляной налог чего стоил.
Отплакался, и отпущены были грехи Святополку.
В день апреля, в шестнадцатый день скончался князь Михаил, он же Святополк Изяславич, умер за Вышгородом. И привезли в ладье в Киев-град, по гремевшему от шуги (тающий лед на реке) Днепру-Славутичу, возложили на сани дубовые. Порыдала над ним дружина его да бояре из уных. Положили на вечный покой в храме святого Михаила, который он успел выстроить и достроить.
Вдова, дщерь Тугорканова, щедротой своей удивила киевский люд: разделила богатство его по церквам, монастырям ближним и дальним (крохи достались монастырку Досифеи), разбросала деньжата убогим и сирым.
Девять дней Киев, как положено в христианстве, поминал старого князя. Кто, очень редкие, добром и теплом, а, в основном, о покойнике плохо не говорят, так хорошего и не говорили.
На десятый денёк народное вече послало гонцов к Мономаху, приглашая сесть на Киев-престол: «пойди, дескать, князь, на стол отчий и дедов».
Пока князь горевал, киевляне не ждали: грабили двор Путяты, что тысяцким был, грабили двор Словяты, уного князева боярина, потом убили Словяту, повесив его на воротах, как татя-вора. Стучали босые пятки по крепкому дереву, дубовые ворота тяжело доставались огню, но и они погорели в пожарище, что поглотил и Словяту, и терем его, и добро.
Досталось другим, не менее «славным» уным боярам. Часть юрбы (толпы), кстати, большая часть, стала нападать на главных врагов киевлян, на жидов: грабили, уничтожали имущество, доставалось от них и самим моисеевым детям.
Разошлась чернь не на шутку, грозилась разграбить даже монастыри.
И только тогда, в воскресенье, сел Мономах на престол.
Встречали Владимира киевляне с частью великой, и мятеж угасал сам собой, без расправы княжьей дружины над киевским людом.
Домой!
Ах, какой славный сказитель был у половецкой орды! Тёмными-тёмными вечерами, когда сытые члены коша и рода присаживались на мужской половине юрты хана Атрака, когда спать ещё рано, а в степи стынут ветры, гоняя волков, когда женская половина шатра сидит в своем уголочке за вечным женским занятием рукоделием или пеленаньем детей, тогда хан Атрак, разомлев от кумыса или айрана, начинал говорить.
Давно прошла юность, давненько ветер степей позвал его с гор Кавказа в равнинные дали, давно это было, а как будто вчера. И сердце стучало, как юности сердце, и зубы крепки, и голова не седа, и память свежа, как девичье око.
И хотелось сказать, рассказать о былом, что вместилось в одну только жизнь, жизнь хана Атрака.
Замолкали мужчины, переставали трещать неумолчные женщины, дети рты раскрывали, хоть целый барашек влетай в открытый роток детеныша половца. Даже малые детки молчали, тихонько сопя в материнскую грудь.
Хан говорил! И умел подбирать он, однако, слова.
Как объяснить детям степи про бескрайнюю синь Чёрного моря, про солёность воды? А он объяснял, и верили дети, верили старики. Однажды он пошутил, увидев, как заезжий к нему кошевой из соседнего рода не поверил про соль синей воды. Вот как он пошутил: «Мне не веришь, грозному хану? Так, поди и спроси у верного Найды, вот он, сидит перед кошмами у входа в шатер».
Как долго смеялись над ханскою шуткой! Запомнили и пошло поговоркой в народ: «Не веришь, поди и спроси у верного Найды».
Рассказывал хан про чёрные очи и кожу суданки, про белые зубы её. Про Жёлтый город с холмами и виноградниками вокруг него, про Чёрную речку и дивных монахов, про монастырь.
И про долгий поход провожания в Киев тела монаха, после смерти которого – гром! И Небес голоса тоже после смерти его!
И верили хану старики и мужалые воины, верили женщины и детвора. А внуки осмеливались подползать к деду поближе и даже, да, даже трогать крест на груди. На замызганной донельзя веревке висел крест деревянный, почерневший от времени и тела хозяина, но крест был настоящим крестом!
И, совсем разомлев, старый хан мог долго рассказывать, как возглавлял он отряд, что перевозил тело монаха в большой, даже очень большой Киев-град, как крестился перед этим в Жёлто-Белом городе Херсонесе, как брызгали на него водой люди в рясах.
Тут слушатели всегда, даже если и слушали раз в десятый, испуганно вздрагивали и прикрикивали громкое «хой!», а хан был доволен и долго смеялся.
Как много золота на церквах и в церквах Херсонеса, как свечи горят, как кланяются люди большим на досках написанным ликам людей, очень строгих и добрых, как много людей вместе поют одну песню про Бога, имея в виду Символ Веры своей. Как велики деревья на сопках, как много леса и живности в нем, как много рыбы в большой зеленой, а то и синей по времени, глубокой воде, как по этой воде плывут лодки большие-большие. Хан с трудом говорил слово «дромоны», и тут слушатели даже смеялись над словом, что язык их коверкал. Про горы, да, да, и про горы, такие большие белые сопки – курганы, что растут сами собой из земли прямо до неба.
И ещё хвастался хан, что недаром позвал его великий Строитель Давид, хан большой Грузии, защищать его верным служеньим, охраняя границы. И гордо показывал крест: вот, видите, видите крест? Как увидел Давид крест на шее моей, ни минуты не сомневался: защищай, хан, владенья мои от турок-сельджуков и назвал меня славным воителем и христианином.
Хан опять с трудом говорил дивное слово «христианин», но тут никто уже не смеялся: хан мог побить сгоряча за обиду!
И верили люди старому хану, верили и любили его.
Да, великий сказитель был у орды половецкой, великий!
И не только сказитель. И прав был великий Строитель Давид, назвавший хана Атрака воителем и христианином. Естественно, хан молитвы, положенные христианину, никак не творил, креститься он так и не научился. Но ведь дело разве в обряде?
Атрак душой был христианином! Только за подвиг доставки Евстратия в Киев он мог заслужить почтение христиан и прощение христиан.
Не позволил в походе обидеть пришлым ордам ни тело монаха, ни группу монахов, шедших за гробом, ни кучу людей, шедших за группой монахов. А людей было много!
Шли Мириам и Иаков, откупивший её от неминуемой смерти драгоценным окладом, что вовремя сунул Демитре. Крестились они прямо перед походом: Захария тверд, и остатки евреев, которых жизнь пощадила при разгроме квартала, решились креститься. Так они выбирали жизнь прежде смерти.
Силой заставить идти в христианство Захария не позволял, но ситуация такова, что или смерть принимай, как казнили множество иудеев за преступление их, за соучастие в казни монаха, или в крещении жизнь сохранишь, а там как Яхве прикажет.
И таких иудеев скопилось немало; Захария их окрестил.
Заодно подвернулся Атрак, половецкий вожак, нанятый для перехода к Киеву стольному. Окрещён был и он. Причем плакал, ну ровно младенец, как понял, что за тело везли в Киев-град. Рыдал да твердил: «Тощий то, тощий?», – и плакал.
Пасха была, и солнце играло, шли по теплу и погоде. Сытые кони легко тащили телегу с бренным останком монаха (половецкие кони трупов бояться отучались с малых годков), катились повозки, где расположились монахи и утварь церковная, книги и книги, кресты и иконки. Живописные группы людей кормились от степи. Отряды Атрака дичь приносили за деньги, иногда и немалые, брали немного лишь от Захарии: Атрак помнил, как мало питался Евстратий и шедшая с ним монастырская братия и иные.
Жизнь веселилась в степи! Найда то прыгал перед Атраком, играя с конём, то убегал в степь за пропитанием, возвращаясь всегда с окровавленной мордой: волчонок учился охоте, отвыкая от молока.
Если бы не скорбное сопровождение останков святого, можно было подумать, что группа людей, шедшая под охраной половецких отрядов, похожа была на купеческий караван, или, в лучшем случае, на паломников. И рыскающие по степи половецкие коши в ожидании легкой добычи, зоркими очами увидев такой караван, спешили к добыче.
И тут им навстречу – Атрак! Если кош был из родной орды или дружеской, договоривались за тремя чашами кумыса, что вместе пили на редкой стоянке, радуясь встрече родных и друзей.
Ну, а если чужая орда или наезд печенегов, то стрелы свистели, сабли блестели, летели головы клятых врагов.
Нет, Атрак и вправду достоин почета! От выручки деньги не тратил зазря. Себе ни копья, ни полушки не взял: часть отдавал своему боевому отряду, часть через вестовых передавал до кочевий родных, часть тратил на кормление сопровождения монаха: Захария голодал, голодала и монастырская братия. Путь был далек, припасов хватало не всем и Атраку пришлось прикармливать люд. Людей было много, а денег не очень. Но Атрак не тужил, не плакался и не страдал.
Он вообще легко относился к добыче, легко тратил добытые куны, номисмы, безанты. Мехами с набегов одаривал женщин, золото щедро разбрасывал, не считая, по постоялым дворам и распутным девицам.
Что золото? Им не наешься, им не напьешься, на руки, вместо перчаток, его не натянешь, на ноги, вместо сапог, его не обуешь, от стылого холода, жажды и засухи оно не спасет. И, главное, золото, серебро или медная мелочь не дадут ему степи покоя, счастья езды верховой на надежном коне, запаха трав векового покоя извечной степи.
За серебро или золото купишь охрану, да хоть всю орду найми, а вот друга не купишь. Не купишь любовь и жизни не купишь, и смерти не избежишь, если Вечно Синему Небу хочется смертного взять в мрака покои.
Мало кто понимал Атрака среди осёдлого люда, много кто понимал среди половецких людей.
Потому и кормил он походный народ, провожавший монаха в его неизвестность.
Потому и почёт хану Атраку за доброе сердце, за добрую память.
И смерть в благодарность далась ему славная – в бою. Старый хан с коня не слезал, воевал, воевал, воевал, пока не отсек чужой ятаган его буйную голову.
И какой славный курган стал вечным покоем хана Атрака, вечный курган, с большой каменной балбала, большой вековечный курган. И как пели песни над этим курганом воины хана и как плакали женщины, и как кони стонали! Не мог плакать только Найда: старого волка кости давно уж белели где-то в степи, стерво (внутренности падали) съели стервятники (стервятники – от слова «стерво»), дивные очи ворон склевал.
Не мог плакать Найда над трупом своего повелителя-друга, не мог в последнем рывке стащить заклятого ворога с крупа коня и вцепиться ему прямо в горло, наслаждаясь свежей теплою кровью, не мог!
Но мог теперь Найда бродить по вечным сумракам владений хана Тенгри вместе с другом-хозяином, наслаждаясь охотой и местью врагам. Вместе, шаг в шаг, ход в ход будут бродить вечно друзья по вечным равнинам вечных степей владений хана Тенгри, блаженствуя в счастье.
Там вечнозелёный ковыль, там сытые кони, там бескрайняя степь без лесов, перелесков, Днепров и Дунаев. Там плещется Дон, тихими струями кормит водой степь, коней и людей. А за Доном Яик, за Яиком могучий, бескрайний седой Енисей. За Енисеем времени мрак да легенды о Родине, вскормившей народ. Там бродят динлины (по некоторым сведениям, далекие предки половцев) в покое и мраке степей. Они – далеко! И мы – далеко! Мир всем, покой и прощение!
И будет блаженствовать хан в тёмном кургане, не обращая внимания на золота груды и серебра: золотые уздечки, золотые подковы, золотом шитые стремена, нагрудник из золота, золотые поножья. И серебро, серебро, серебро!
Но это будет потом, а пока юному хану нужно было кормить сирых монахов, держать в покое толпу, что шла за останками «Тощего», как звал его Атрак. Не научился проговаривать сложное имя Евстратий, коверкал и путал странное имя, «Тощим» назвать привычней и вполне ему соответствует.
Протекали сквозь пальцы денежки-деньги, что приготовил он для суданки. С тайною мыслью ходил Херсонесом выкупить белозубую и до невозможности чернокожую, так впала на душу, не вытравишь. А вот надо же, вместо суданки принял христианство да подрядился вести караван.
Ну, таяли денежки, ну и что же, что таяли? Деньги – вода, деньги – песок. Тяжелая тяжесть ложится на сердце, коли денег богато. А все-таки жаль, что не выкупил чернокожую. Ну, да ладно, потом…
А от себя мы добавим, что так и не смог хан Атрак увидеть суданку, не отыскал в Жёлтом городе белозубую, потому вспоминал её в старости в ханском шатре, улыбался, и мужики его понимали. Дети уснули, уснули и женщины, и можно было поговорить про суданок и ляшек, варангов женщин и византиек, и стылая кровь снова бурлила, дарила мужчинам воспоминаний приятную суть.
Много было у хана Атрака жён и детей, любил не всех женщин, но всё же любил. Между походами, набегами да зимовками женские ласки в степи, когда воткнутый шест качался под ветром, давая всем путникам знак, что тут двое тешатся, не мешай, он женские ласки ценил, принимал. В любви часто случается, что один больше любит, отдавая любовь, второй любовь принимает, и только.
Красавец Атрак любовь принимал. Ровные брови черными соболями над голубыми глазами, тонкий нос почти без горбинки, волосы шёлком до плеч, ровная стать, молодецкая удаль, бесстрашие хана, а кто б удержался, а, посмотри?
Падали женщины юные и не очень к ногам победителя, чуя инстинктом повелителя – мужика. Много их было, всех и не помнил, да и не считал, к чему это. Не хвастался перед друзьями, не хвастался перед врагами, не хвастался женщинам, принимая за должное ласки красавиц. Так понимал женщин нутро: человек ест, спит и дышит, это нормально. Человек спит с красавицей, это тоже нормально. Так чего хвастаться тем, что умеешь дышать, говорить или есть, или дать наслаждение в утехах красавице юной?
Только подвигом на войне мог он похвастаться, только ратным делом да Найдом. Во всей степи не найдёшь волка такого, как Найда. Гордый волк и брыкливая, как кобылица, суданка, две его половинки, Атрака. Потому и любил и волчару, и странную чёрную девку. И понимал, что любили его эти двое существ не за деньги, а за просто так, потому что любили. Пусть отдавалась суданка прочим за деньги, так то просто работа такая, утешался Атрак. А его, половца дикого, любила такая ж дикарка с иссиня чёрным лицом и с иссиня чёрным же телом.
Такая же чернота, как у верного Найды.
Да, хан любовь понимал!
И потому при этом походе враз выделил среди массы людей двоих юных, одетых не по-ромейски, не по-словянски.
Юная девушка была так хороша! Глазищи в полнеба, улыбки прелестная суть, ровная стать и походка, добрый покорный нрав, милая девушка, очень мила. И рядом всегда, как коршун над стаей голубок, Иаков, невзрачный и мрачный Иаков. Пылинке не дал оседать на тоненькой шейке: сдувал. Кормил прежде всех, выкупая у половцев послаще кусочки, выкупал место в повозке, чтобы ножки любимой не тёрлись о землю, и платил, и платил, и платил…
Узнал ли Атрак этого худощавого, который по воле Вечного Неба волчонка ему подарил, может, и вспомнил, а, может, и нет. Если и вспомнил, то ханская гордость не позволяла дружить с людьми каравана: что скажет орда на недопустимую брешь в воспитании хана, за милость к бредущим с караваном людей? Нет уж, в орде свои правила, обычаи и законы, пусть даже хан из рода Манги, очень могучего рода, недаром из рода был дядя его, сам хан Башла.
Да вольна орда! Надо будет, снимет и хана на курултае (общем сходе-сборе кочевников), назначит другого, более сильного, более беспощадного не к половцам-номадам (кочевники), а к другим, всем иным, всем другим, недостойным их жалости.
И осами половцы окружали несчастного, отнимая безанты и куны. Кончились деньги, Иаков перешел на каменья. Если до Киева было б идти еще долго, разорился бы вконец. Но Киев-град близко, кончались мученья в далёком походе, впереди Иакова и Мириам ждала свадьба и счастье навек.
И деньги общины, что должна помогать попадавшим в беду одноверцам. Шутка ли, в Херсонесе столько евреев убито и перекрещено, спаси нас, всевидящий Яхве, и помоги!
Помнил Иаков, что подарил волчонка страшному половцу? Конечно же, помнил. На Найду смотрел с тоской, так волчонок ему полюбился. Пытался позаискивать перед ханом, да тот только свистнул нагайкой и помчался вперёд.
А вот Найда забыл про Иакова, про страшно голодное младенчество своё, да и зачем помнить плохое животному? Незачем, незачем, раз есть хороший хозяин, еда есть, вода есть, и есть главное – степь!
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
Время рождаться и время умирать; время насаждать,
И время вырывать посаженное; время убивать и время
Врачевать; время разрушать и время строить; время
Плакать и время смеяться; время сетовать и время
Плясать; время разбрасывать камни и время собирать
Камни; время обнимать и время уклоняться от
Объятий; время искать и время терять; время
Сберегать и время бросать; время раздирать и время
Сшивать; время молчать и время говорить; время
Любить и время ненавидеть; время войне и время миру
(Книга Экклезиаста, или Проповедника, 3)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.