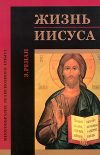Текст книги "Постник Евстратий: Мозаика святости"
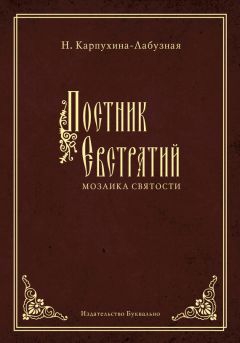
Автор книги: Нелли Карпухина-Лабузная
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Судьбу не минуешь
Отречение от сатаны у Лютки проходило легко, Лютка если и грешила, то легкой болезнью. С Волком было сложнее. Михаил усердно водил в храм дочь и Волка, иерей с внушительной силой читал молитвы Господа Иисуса, дерзновенно запрещая нечистым духам творить свои пакости, читая, как было положено, до пять-на-три раз. Усердно иерей перед чтением молитв троекратно дул в лицо Волка, благословлял чело, уста и грудь его, многоединожды молитвы творя, и только радуясь, что при крещении сможет лишь однократно прочесть: «Изжени от него всякого лукавого и нечистого духа». Волк терпел и молчал. Надо так надо, вникать почти не вникал: честная душа его говорила, что ради Лютки всё это творится. Нет, блажью, конечно, он не считал совершаемые ежедневно походы в храм. Какая тут блажь, когда действует Божья сила!
Каждый день он видел просветленные лица присутствовавших христиан, чувствовал их неподдельную доброту и тихое счастие. И тихо, тихо, почти незаметно светлая благодать входила к усталому сердцу. Впервые за множество лет не снится ночами кошмар, с монотонностью волн приходящий годами, кошмар гибели жёнки и деток.
Слушал пояснения Михаила-Шульги о Боге, создавшем свет, видимый и невидимый, об ангелах и о тех, что не устояли в добре, и вместе с диаволом-предводителем, стали духами зла.
Михаил объяснял: «Ты не бойся, сейчас они тебя атакуют. Дух омрачается греховными помыслами, тяжко на сердце от переживаний. Ожесточается сердце, тщеславие вползает в душу, как яд…»
И тут Волка прорвало: «Каждую ночь, сейчас уже реже, снится мне сон. Не сон то, то быль. Не хотел брать жёнку с детями, малые были детишки мои. Так упросила жёнушка милая: возьми да возьми на град Киев взглянуть. Опостылела ей Корсунь без снега, без весенних ручьев. По Днепру соскучилась, что ли? Или хотела втайне к Перуну пойти, богине Ладе покланяться, сейчас и не спросишь. Ну, я и повез. Да втайне и я был не прочь, чтоб женка по бабкам-ведуньям ходила, мечтала она и калик перехожих встретить: авось, нам помогут?! Сынок у меня был нехожалый лет с трех, как искупали мальчишки раз в море, он и ослаб. Вот мать и страдала. Я – что? Уйду за солью, и шастаю по дикой степи да по русской землице. А она каждый день муки сына видала. Лекари византийские дороги очень, а наших волхлов христиане из греков выжили с Херсонеса.
Вот и пошли мы на Киев обозом…
И надо же так! Сколько раз ни ходили, на половца не попадали, а тут напали эти поганые ночью на нас. Сторожа наша ночная поснула, вот и напали. Все убегать, а мне то куда с больным дитятком на руках? И жёнку с дочкой на этих поганых разве оставишь? Сам я силен, спастись мог запросто: покидай добро нажитое да и в степь. Да что, я, сволочь какая? (сволочь – внутренности убитых животных, в переносном смысле всякая ненужная дрянь). Вот и остался, понадеялся на силушку богатырскую. Да не тут то и было, посекли нас половцы, как капусту.
До сих пор вижу во сне почему-то одно. Ни как сына конями затаптывали, ни как дочь волокли на аркане да топтали копытами, а вижу одно: как половец лютый отсекает жёнке моей головушку светлую. Волосы-то у неё были светлые-светлые, что лён по зиме. Вот и вижу я постоянно как катится голова по степи, наматывается так некрасиво на волосы дрянь со степи: козьи катышки, трава пересохшая, комья застывшей грязи с весны. Я же к телеге привязан сыромятным ремнем: хоть вой, хоть молчи!
И что диво, вишь, не поседел я с тех пор. Так и живу, сам на смерть жену да детушек повез-положил под сабли-ножи половецкие. Как выжил сам? Ужо и не знаю. Очнулся к закату другого дня, товарищи (товарищи, от слова товар: лица, занимающиеся одним делом или перевозкой) подобрали. Они же и схоронили моих там же, в степи.
Шульга промолчал: а что, будешь человеку раны зря бередить? Слабому человеку утешение, сладкий бальзам душу отравляет, сильному человеку слова утешения, чисто яд. Отравляет силу и волю, разъедает душу до ран.
Сильному нужно делом помочь, не словами. Потому и молчал.
Волк посмотрел и всё понял.
С того-то молчания и началась дружба мужская, что твёрже твердыни.
Оглашенные
Трещали-потрескивали реденько свечки, рассеивая полумрак прохладного храма. Людей было немного. Так, только свои собирались на чин оглашения.
Епископ, слегка покашливая от долгого напряжения связок, негромко рассказывал наставление в вере. У Лютки от волнения и усталости с непривычки подрагивали ноги, толстое тело тянуло прилечь. Нянька часто-часто кивала головкой, оправляя сухой ручонкой платок, стараясь выставить левое ухо поближе к оратору.
Добронрава то и дело посматривала то на мужа, то на дочурку: Шульга стоял, ровно как вкопанный, ни разу не переменув ногами, Люткины руки дрожали, поправляя шелковый византийский платок. Шёлк ткани сползал по шёлку русых волос, и Лютка старалась, чтоб шёлк не сползал с её головенки. Волк старался стоять, как Шульга, однако волнение выдавало одно: теребил часто ус. На Лютку старался вовсе и не смотреть, да – куда? Глаза всё больше и больше смотрели не в сторону усталого батюшки, а в Люткину спину. Вон, как устала, аж ручка подрагивает. Но старался внемлить строгим словам византийского обряда, так хорошо и по-руськи объяснявшего строгим батюшкой в который уж раз символ веры и апостольские поучения.
Давно, казалось, давно, пришли всей гурьбой к епископу в храм, давно поручились за них Шульга с Еремеевной, пастырь занес имена Лютки и Волка, Добронравы и няньки в катастих (катастих – церковная книга содержащая список оглашенных и членов церковной общины для молитвы и поминовения за богослужением).
Давно несли покаяние. Как раз шел Великий пост, что особо сочеталось с их оглашением. Вроде давно, а всего три денечка как минуло. Впереди еще пять дней приобщения. Еще пять дней ежедневного обращения епископа к Шульге с Еремеевной: «Господу Богу помолимся…»
И снова и снова Шульга зычным басом и певучий альт Еремеевны брали на себя долг ответа за новых овец божией церкви в деле истины веры, законам молитвы. Снова и снова священник, паства его и восприемники Еремеевна и Шульга-Михаил молились за новеньких, чтобы они отрешились от ветхости, да исполнились силы Духа Святого, и соединились с Христом.
Наконец диакон пророкотал: «Елицы оглашенные изыдите», и Лютка, втайне передохнув, выходила на свежий воздух. Шульгу с Еремеевной, остававшихся в храме до окончания службы, не ждали. Домой шли не торопко (торопко-быстро), так мать давала возможность молодым насладиться беседой.
Добронрава шла с нянькой позаду, перебирая в дороге слова молитв, но где-то с полдороги мысль перескакивала да уж и застревала на привычном, домашнем. Ругать Еремеевну не ругала, не за что было, быстро привыкла, что та всю стряпню брала на себя. Каждый день та старалась с ранней зорьки всю стряпню приготовить, но все равно и Добронраве приходилось стряпать. Нянька семенила рядом, вслух повторяя слова молитв: старческий ум так был короток!
Нянька дернула Добронраву за платье: «Слышь, Добронрава, растолкуй мне, что они там в молитвах своих поминают про нечистую силу?»
«Я сама мало пока поняла. Но вроде как от нас должны отойти нечистые духи. Надо будет после трапезы Еремевну спросить, Шульге будет некогда, они пойдут в храм про чин крещения толковать, через пять дней ужо будет крещение».
«Ох, тяжко мне старой, может, не буду я с вами креститься?»
«Ну что я скажу, решать то тебе. Еремевна все время талдычит, что без согласия креститься нельзя. Бог нам выбор дает жить в грехе или креститься. Ты, уж как знаешь, а я от мужа да зятя с дочкой отставаться не буду. Сама понимаешь: семья. Я сама мало пока понимаю, хожу вот за ними, стою, слушаю в храме, как там поют. А ведь, скажи, поют как красиво! Строго как и красиво в Божьем дому!»
«Красиво, красиво! А на воле да на свободе все одно лучше. Идешь, бывалоча, с девками по чистому полю, веночки сбираешь. Гостинец Перуну несешь. Чистота вокруг, лепота. Солнце сияет, птахи поют. Хоть на взгорочек то идешь, а не устанешь. Рось-речка тихо журчит, берёзки ну ровно танцуют, ведут хороводы…
А тут в храме строго, сурово, свечки трещат, дымом коптят… Гречанки все чёрненькие, вон как суворо (сурово) глядят и все не по-нашему, не по-словянски бормочут. Я все лучше б ходила к Перуну, мёду б снесла ему губы помазать: глядишь, упросила бы старость баюкать… Да где у этих греков Перуна найдешь!»
«Перестань, перестань, они ведь считают Перуна да Ладо нечистою силой!»
«Ахти мне, ахти! Чур, меня, чур! Ладо – нечистая сила? Скажешь, и Род?»
«Именно так! Нечистая сила и всё тут! Не-чис-тая!»
Дальше домой шли уже молча. Перебирали в мозгу житьё да бытьё, вспоминая росы да утро в родном дому, девичьи хороводы под Ивана Купала, пляски костров. И все то нечистая сила? А что тогда – чистое? Что?
Ночью старухи долго шептались: Еремеевна читала над нянькой молитвы, в сотый раз объясняя, что Бог есть един. Нянька ворчала, вспоминая хорошее, что было и было в жизни людской.
Еремеевна даже вздохнула: «Вижу я, не отрекаешься от сатаны. Хоть по пятнадцать раз, как предписано, ты говоришь «отрицаюсь», да руки ко небу вздеваешь, а толку на грош! Ну, да Господь терпелив, только три дня прошло, впереди еще пять.
Надеюсь я, отречеся.»
В Крещения день встали рано, так рано, что серый рассвет сизым туманом встретил да холодком. Пивень-петух было взъерошил последние перья, клёкнуло в горле, да снова уснул: еще рано.
Первая птичка свистнула с ветки, куча бакланов хохотала над теплым близеньким морем, отдававшим берегу гроздья тумана. Запах свежего утра, что равно запаху моря, вдыхали на полную грудь. Шли натощак: есть было не можно.
За эти восемь дней поста и ежедневных молитв все похудели, нянька так та еле тащилась. Волк на ходу подобрал толстую палку, на ходу же острым ножом придал палке вид клюки, старушка пошла побыстрее, оживилась, в шутки пустилась: «на трёх то ногах куда лучше ходить, чем на двух еле корячиться».
Как рано ни встали, а у храма уже толпился народ. Нарядно одетые девки и бабы столпились в кружок, обсуждая утренний холод: у храма прилично было на приличные темы и толковать.
Наряды гордых гречанок пестрели всеми оттенками ярко-синего цвета, кое-где отдавая золотом желтизны. Словянки были попроще. Некоторые давно одевались по византийскому обряду, только платы на русский манер да свежие белые лица отделяли их от смуглых гречанок.
Примолкли, как скоро подошли к ним Добронрава и Лютка. Еремеевна поотстала, встретив кого-то из паствы, обряжавших храм к торжеству, и, махнув Добронраве рукой, ушла в храм помогать.
Женский ряд паствы живо уставился на Лютку с мамашей: новости так приятны женскому взору. А тут толстая Лютка так приковала женские взоры, что Лютка не рада была новому платью да серёжкам с червленым серебром, что тятенька подарил на крещение. Всю дорогу радовалась обновкам, крутилась около матушки с Еремеевной, а тут глаза к долу и встала, как в оторопь, и замерла, ни жива, ни мертва.
Мать сама чуть ли дышала, нет, не от бабских взглядов да пересудов, почему-то тёкало сердце, как на пору юности пред первым свиданием с милым добрым Шульгой. Ноги то тяжелели, то становились легки, как хотелось взлететь, а в животе нарастал холодок. На озноб ужо не обращала вниманья: утра прохлада забирала своё.
Нянька вертела сухой головенкой, шепнула на ушко: «Что-то я Волка не вижу?».
Добронрава так и ухнула сердцем: ни мужа, ни Волка было не видно среди молчаливой мужской части паствы.
Пригляделась: Волк шел к паперти храма вместе с епископом и Шульгой, Добронрава коротко передохнула.
Толпа заколыхалась, как колосья пред ветром: «батюшка идет, батюшка». Подходили за благословеньем, со своими чаяниями и за требами. Священник уделял каждому толику времени, не переставая двигаться к паперти храма.
Высокий, худой: в чем только душенька держится, ряса трепалась на утреннем бризе, как на колу. Сухонькие ручки белым были белы, им вторила редкая белая борода. Лицом строг, глазами покоен да весел. На свет этих глаз люди тянулись, как овцы до пастуха. Большая толстая палка, что использовал как клюку, придавала ещё большее сходство с пастырем стада.
Паства квартала отца уважала. Словянин по происхождению, родом из Киева, он лет пять так назад был поставлен греками править церквой квартала.
Строился храм, батюшка день и ночь следил за работами, едва успевая поесть и хоть трошки поспать. Храм строился быстро, красотой поражая людей. Паства знала: батюшка светел и честен. Ни один милисиарий, гривна иль куна, номисма-безант не пристали к честным рукам. Всё шло на храм, обустроение храма требовало денег и большого труда. Старый-престарый храм был разрушен почти при Владимире, дико буйном князе словян, когда приступом тот взял Херсонес, да разрушил в буйстве своем водопроводы, храмы, строения гордого Белого города. Лютенек князь был, даже храмы не миновал, а что не разрушил, то в Киев забрал. Иконы, квадрига коней из бронзы иль меди, другие церковные ценности были Владимиром забраны в Киев, и после крещения Владимира, и до крещения, когда приступом брал Херсонес, побуждая базилевсов отдать за него в жены Анну, сестру императоров.
Но настало благоприятное время, и снова храмы отстраивались, блестели их купола, и било вновь созывали людей на молитву.
Благодаря стараниям благочинного словянского квартала и понуждаемой им пастве храм был вновь обустроен в рекордно короткие сроки, и каждая монетка, что давалась людьми, шла на храм, и только на храм.
Храм стоял на высоком холме, обдувался тремя ветрами. Жёлтый песок, специально привезенный с речных долин Южного Буга и из-под Полешья (Полешье – ныне Херсон) влажно хрустел под ногами, почти не оставляя следа под невесомым телом епископа.
Тот первым подошел к тяжелым резным воротам светлого храма. То ли синие, то ли серые глаза его, выдававшие полянина (поляне – славянское племя), блеснули на паству весёлой искрой, и пастырь начал так свою речь: «Братья и сестры мои! Сподобил Господь придти в веру нашу чад своих. Вот они – чада господни! Пусть подойдут ко мне ближе».
Лютка, споткнувшись, сильней сильного покраснела, так давило чужое внимание. Ей, не привыкшей ходить даже на рынок, быть в центре толпы, прикипевшей к ней взглядом, быть так худо, хоть плачь, а тут еще и споткнулась! Губы у девки уже задрожали, мысль промелькнула: бежать, как подхватила под руки сильная рука тятеньки. Шульга зашептал: «Дочка, не бойся! На радость идешь, не на казнь!»
Остановились у ворот храма. Лютка несмело смогла поднять глазищи на епископа. Тот улыбался светлее, чем тятенька. И Лютка вздохнула, так радостно, так чисто улыбнулась в ответ епископу храма, а тот улыбнулся в ответ, что даже окрик «нельзя» на Люткино поползновение ступить на территорию храма её не спугнуло. Оглянулась и мать встала рядом.
По взмаху священника толпа разом примолкла. Привычно встали мужчины по правую руку, женщины по левую от пастыря, все обернулись к оглашаемым чадам.
Шульга подошел к своим домочадцам, перекрестился двумя перстами, и по знаку священника оглашаемые запели Символ веры святой.
Напоследок на вопрос епископа: «Обещавшиеся ли Христу?», те разом пропели: «Владыко Господи Боже наш, призови раба твоего».
Счастливая паства мирян радостно передохнула, и все, вслед за священником вошли в храм.
Крещение
Да будет принят, ибо ценится не время, но говение!
Храм уже ждал своих детушек.
Толпа медленно разделилась на женские и мужские ряды. Женская половина блестела нарядами, сверкали в полумраке искры перстней. Разноцветье платков, как цветы на весеннем лугу. Мужская половина была строжей и молчаливей.
Хранители веры и благочестия, восприемники, взяли своих подопечных за руки: Шульга – Волка, Еремеевна одной рукой держала кисть Лютки, другой – Добронравы. Еремеевна закрутила головой: куда ж делась нянька? Да зря и крутила: той след простыл. Успела шепнуть Волку, что не пойдет в церковь да и бегом, отсидеться в берлоге его.
Положив Крест и Евангелие на аналой, иерей, убедившись, что оглашенные сняли свои пояса, повернул всех троих обличчям (обличье – лицо) к востоку, движением руки опустил их руки до долу (дол-низ, отсюда: подол, например платья. В нашем случае пол) и начал молитву, чередуя её с дуновением лиц, вдувая дыхание жизни в лица окрещаемых чад.
Возложил руки на головы: вначале на крепкую тёмную голову Волка, затем на тёмно-русую голову Добронравы, затем уж на светленькую головку юной девицы. Так брал под защиту, под кров благодати божественной.
Как бы в тумане, слушали молитвенное песнопение иерея, хора и паствы, как бы в тумане, слушали повеление иерея: «Запрещает тебе, Диаволе, Господь… да разрушит твое мучительство и человеки измет», «Бог святый, страшный и славный», до «Небесных Твоих Тайн».
После чего иерей повернул окрещаемых лицами на запад, к стороне духовной тьмы, грозно спрашивая: «отрекаются от сатаны»?
Те трижды отвечали покорно: «отречеся».
Потом повернул их снова к востоку. И «сочетаваюсь. Сочетаваху. Верую Ему, яко Базилевсу и Богу» они произносили уже не в тумане, а в светлой приподнятости идущего праздника.
Лица из паствы врезались на память: кто плакал, не скрывая слёз умиления, кто радостно улыбался навстречу, кто строго следил за чином обряда, ибо крещение дело великое есть.
Лютка обратила внимание, что священник переменил одежды на белые-белые. Риза сияла белой парчой, вышитый на спине образ Христа сиял золотыми оттенками вышивки тонкой.
Мраморная купель поражала своей красотой и чистотой, теплый белый с нежными прожилками едва заметного розоватого оттенка мрамор дышал чистой прохладой. Священник несуетно подошел к чистой воде, освятил, дабы перед крещением вода смогла омыть грехи человека.
Крестное знамение не всколыхнуло воды, священник негромко прочитывал молитву на освящение воды, обходя купель с кадилом.
Оглашаемым по правилам помазали маслом чело, ноздри, уста, уши сердце и длань (ладонь) со словами: «мажется раб божий маслом радостиво во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
Лютка, едва трепетая ноздрями, вдыхала чудный незнакомый ей аромат незнакомого масла оливок, с примесями ладана, роз лепестков, мускатного, лимонного масла, чего-то ещё, отдававшего пряностью. На душе становилось как-то чудно. Не то что печально иль страшно, нет, но как-то чудно. Как в тумане, воспринималось и троекратное погружение в воды купели. Не видела, как перед тем окрестили Волка, затем черед дошел и до женщин: сперва мать, потом её, Лютку. Покорно подняла руки для одевания белых одежд, покорно подставила голову под червлёный венец с тремя вышитыми на нем крестами, взяла в руки свечу. Так же покорно, как перед тем, подставила голову для пострижения пряди волос. Так же покорно приняла легкий крестик на тело. Крест был махонький, деревянный, искусно вырезанная на нем фигурка Христа была едва различима.
Покорность девичья была не от страха или желания услужить тятеньке с мамой. Нет, что-то тихое и благостное разливалось тоненькими ручейками по жилкам и кровушке, и почему-то хотелось запеть. Понимала, петь было явно неможно. Только сейчас Лютка смогла оглядеться, осмотреться на храм, на святые иконы.
Лютка вгляделась в образ строгой женщины в темном платке со строгим младенцем на смуглых руках, что висел на стене в драгоценном окладе. И показалось иль нет, но женщина та улыбалась ей, нет, не улыбкой, глазами. Чистый, чистый свет этих глаз шел изнутри черных очей, как лучиком света тёк и струился в грудь окрещённой.
«Богородица это», – послышалось рядом. Лютка посмотрела на говорившую: незнакомая милая лет сорока гречанка забавно выговаривала руськие звуки, и, повторив уже по-гречески «Одигитрия», отошла.
Священник по старой традиции не стал называть новых членов паствы своей именами от притчей или от вещей, а, выслушав Шульгу, Еремеевну, назвал Лютку – Ириной, Добронраву – Фотинией. И улыбнулся: хорошие у вас имена, добрые. Одна – людям милая, другая – нравом добра. Вот и будет Добронрава Фотинией, светлой, то бишь по-гречески. А Людмилу наречем-ка Ириной, по-гречески «мир».
Алексий, так окрестили Волка. Был доселе волком угрюмым, стал «защитником» рода людского.
Литургию стояли уже со всеми, принимая из чаши вино крови Бога Единого, вкушая облатку тела Христа.
Целую неделю, что была вслед за этим крещением, новокрещенные не снимали белых одежд, не омывались до восьмого дня, вплоть до разрешения новокрещеного, что значило снятие белых одежд и повязок.
…После вечерни Волк, что звался теперь Алексей, привел за руку спотыкавшуюся няньку. Та хныкала-горевала: «Не возьмет меня тепереча Добронравушка, не возьмет! Ишь, как я людей подвела. Обманула. Стыдно мне, стыдно! Я уж у тебя поживу, чай, не выгонишь?»
Волк отмахнулся: «Выгнать не выгоню, так тебе одной с тоски пропадать? Я по делам, а ты, бабка, куда же?»
За южином (ужин) Лютка, хлебая Еремеевны щи (так настоялись суточные щи, так пахли капустой томлёной, что нянька ещё во дворе слюной изошлась), посмотрела в окно, как бы случайно, и вспыхнула радостно: Алексий идет! Глянь, и няньку ведет!
Добронрава вышла на двор: «Проходите, садитесь!» Нянька с порога: «Мир-соль!»
Лютка подвинулась, усадила няньку поближе, Добронрава насыпала щец. Нянька вмиг поняла – прощена, и налетела на щи. Чай, с утра ни травинки, ни маковки в голодном старушечьем рту не бывало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.