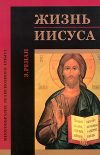Текст книги "Постник Евстратий: Мозаика святости"
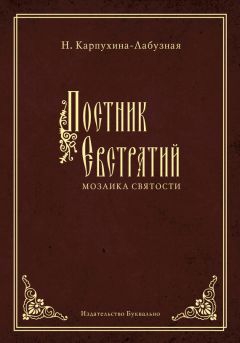
Автор книги: Нелли Карпухина-Лабузная
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Погорелое село
Погорело сельцо, погорело! Ни бревнышка, ни головёшки нет, все пожрал огонь-пламя, пожар. Кажется, стоять деревушке сотни лет да стоять, боярина радовать. Ан, нет, все как есть погорело!
Выли голодные бабы, выли ребятки, что жались к своим матерям. Кошки, те вмиг куда-то исчезли. Собаки бродили, зализывая попёклые боковища, спускались до Припяти жар остудить. Мужики, что остались в деревне, седели прям на глазах.
Две-три живые коровы бродили, жалобно мукая: подои. Трупы животных, людские тела – всё вперемешку: пожар! Мертвяков было много: как на грех, к ночи ветер поднялся, и золотое зарево стонущего огня накинулось на село, как на добычу, терзая живое и неживое с голодной жадностью тощего зверя.
Осталось село сам на сам с горем своим да злосчастьем: подеться то некуда!
Погорело село, погорело!
И то, правда, боярин село не любил. Не вотчиной (вотчина – наследственное имение) доставалось, не даром от князя его, благодетеля за подвиги бранные (брань-война, военные действия) получил, а всего-навсего выиграл в кости у зазевавшегося унака.
Вот тот то и был из лутчих (лутчие люди-богатые, знать) людей. Лутчих то лутчих, а тятенькино имение ни за понюх отдал. Отец наживал, горбился, ночи не спал, зато в село ехали, шли добрые смерды, хорошие мужики, на подбор, сильны да могучи: тут и пахарь, и воин, и жнец и дудец в одной ипостаси.
И баб подбирали грубых (грубые – крепкие, выносливые, рослые), под стать мужикам.
Село поднималось, росло каждый день. Лес, вот он, рядышком, ветер в кронах гуляет, шумит. А в лесу, что грибов, что зверья, видимо да невидимо. Ребятне по весне да лету наслада, ягоды да грибов наберутся, и в речку, купаться. Орут, сверкают голыми тельцами в чистой реке. Знай, мать, гляди да поглядывай, чтоб девка-русалка дитя не сманила в омут речной.
Шустрая ребятня рыбу руками ловила. Поди, так оно проще, ведь пока добежишь до села за острогой, рыбка сверкнет чешуей и в глубину воды. А глубоко нырять да заныривать мать не велела: много русалок водилось, ой как много под чистой водой. Река Припять шустра и бойка, весела, озорна, но деревню весной топить не топила, наверно, любила.
Грозный Перун стоял на пригорке, губы обмазаны мёдом да маслом. Ошметья засохшей крови по тулову застыли, потоки конопляного и льняного масел застыли янтарными каплями, видно, народ жаловал идола. И грозный Перун село не обманывал: зело (зело-очень, тут-старательно) сторожил от наветов, проклятий, от лиха да печенежских набегов.
Да как-то пришли людишки от князя, Перуна в Припять-реку, да не с берега кинули, чтоб был он поближе к речным пескам-берегам. Нет, кинули в омут, где денно и нощно крутилась вода, заметая в речную глубь рыб и детей, могла когда и воина с лошадью в омут свой засосать. Девки речные людишек любили, хватали и в жерло реки на утоп.
Так мало было горя-злосчастья с грозным Перуном, так боярин Тычина в сельце появился. Долго людишек не мучил, не пёк. Покрутился разок, похвалился другой, в третий дань подсобрал. И назад, в стольный Киев-град кутить, да деньжищи проматывать. И наплевать унаку, что следом придут в сельцо сборщик податей, за плечами которого княжья дружина бряцает своими мечами да уздами гордых коней.
А теперь разбери, кто деревню поджег?
А что село подпалили, то к бабкам-ведухам (ведухи – ведьмы, ведуньи, буквально, ведающие, знающие дело и толк) ходить непотребно: с четырех сторон село занялось как раз до рассвета-зори. И, поди разбери, то ли половец сжёг, то ли чья то рука поднялась на живое, но, как третьему петуху то за петь, село и сгорело!
Боярин Тычина не в возочке приехал, прискакал со своею челядью да частью дружины из Киева града, быстренько так прискакал. И, видно не спал, погуливал где-то: бородища в капусте, из рота несет огуречным рассолом и глаза накрасне.
Проскакал по селу, вернее, по его пепелищу, гикнул, свистнул, и ошметья грязи да пепел столбом за ним да дружиной его боевой. Вот и ходи к нему, жалуйся!
Стояли, стояли смерды у тлеющих головёшек почти что до вечера, да достоялись на свои головы: к вечеру прибыли людишки из Киева, забрали всех мужиков на правёж.
Бабы снова завыли: считай, не вернут мужиков, обвинят облыжно в пожаре, и пропадай, буйная голова. Откупиться не можно: где хоть одну гривну штрафа возьмешь, коли сгорело всё дочерна, до земли. А ещё князь решит, и пойдет все потоком и разграблением (поток и разграбление, являлись высшего вида наказаниями, применявшимися, в частности, за поджог, разбой и конокрадство в Древней Руси. Мерой наказания служило обращение преступника и его семьи в рабство и конфискация имущества), поскольку обида (преступление по-старорусски) нанесена боярину немыслимая.
Решит так старый князь, на прибыль себе, селу на вечный раззор и несчастье. И боярину Тычине что то да перепадёт: хоть черна земля от пожара, но землица – его.
К Перуну пробраться в ночной то тиши пожалиться, помощи попросить, так Перун на горьком дне ила слизью покрытый сам себя выручить то не выручил, разве людям поможет?
А людям каково?
К волхвам-ведунам идти и того пострашнее: мало, что тебя самого запытают, замучают, ослепят, в лучшем случае нос урежут иль ухо (виды наказаний, применявшихся церковью к отступникам), как от греческих церковников спасенье найдешь?
Так еще при тебе тем волхвам не сладко придётся: попытают-помучают и на сосну стучать босыми пятками по вековечному дереву, вися в крепкой петле. Вон, каково оно было на Ростовской землице лет двадцать назад, про то знамы люди добредали, страхиття (ужасы) порассказывали.
Толку, что люди села были грамотными, руськие письмена (письменность древних славян, существовавшая плоть до 11 века, когда стала вытесняться алфавитом Кирилла и Мефодия) полсела освоило, знало: челобитную князю подать, а на кого? Скажут, что половцы селище подожгли. Что их, поганых, искать для правёжа? На княжий то суд?
К ночи усталые люди, как сговорились, поразбредались к своим пепелищам, валились как снопы повязаны, и засыпали.
А перед рассветом вервь (вервь – община села, всё население) разбредалась. Большая часть побрела до столицы Руси, к Киеву-граду, меньшая – по деревням да весям (весь – село) к родне, да искать доброго князя, может, пристанище даст?
Твёрдо стоящие на ногах люди за одну ночь превращались в голь перекатную, в нищету, смиренных ужей. И безобиден уж, и пресмыкается, а люди его ненавидят, убивают и бьют за ради потехи.
Нечаянная новость
Разбредались по Киеву погорельцы, искали пристанищ…
Вот таких-то людей мать и жалела: хлеба с солью завсегда погорельцу подаст. А уж если увидит дитёнка голодного, так и одежонку какую подкинет, да ещё с собой узелочек подаст.
Как-то прямо почти у ворот свалилась с ног брюхатая баба: была на сносях, еле-еле до Киева добрела. Добрых соседей, что до Киева довели, родня приютила, а беременную куда им девать? Побрела баба по граду большому, да без сил и свалилась, как сноп, у дубовых ворот.
Мать мигом послала за повитухой, да той помощь почти и не была в надобность: баба та уже разродилась, но, как положено, в бане, под присмотром старух.
Красный младенец пищал богатырски. Роженица запекшимися устами едва молвила: «прямо в отца», и сомлела. К вечеру бабки её разбудили ребенка кормить.
Мать, умиляясь видом ребенка, сказала рожавшей: «Будем крестить! Ты хоть хрещена? (хрещена – крещенная).»
Та отрицательно покачала льняной головой.
Мать только вздохнула: «Грехи наши тяжкие! Значит, будешь креститься и ты».
Молодице с сыном отвели коморку (комнатушка) в подклети (подклеть – помещение в нежилой части дома, чаще – подсобное помещение) – живи! Вскорости молодица ожила, посвежела на хорошей еде да добрых словах миловидной хозяйки.
Шептухи матери стали нашептывать: дескать, и так муженек по бабам да молодицам ходок, так то, со двора. А тут во дворе молодица, что твоя кобылица похаживает, мужик-то сдуреет.
Мать отмахнулась, дескать, пустое торочите!
Отец прибыл в это раз довольно не скоро: запылённый с дороги, усталый, но добрый. Видно, гривны да куны добре карман тяготили.
Поутру, увидав на дворе молодицу, заиграл блудовато глазами, плечи свои распрямил – красавец! Пошептухи затявкали да завздыхали: пригрели, дескать, беду на порог. Ан нет!
Как узнал, откуда прибрела в дом роженица, враз озверел: «Выгоняй, жёнка, приблуду из дома, гони! А то сам и её, и последок её, и тебя за ворота да и в пыль.»
А мать как встала да выпрямилась, ровно лесина: «Не дам загубить христианские души!»
Отец и осел. Осёкся. Прохрипел только: «Я тебе это припомню!»
И, вправду, куда ему было их выгонять? Князь да церковные вмиг бы его самого в кандалы заковали: нехристей князь не любил, а уж гонение на христиан пресекал на самом корню да на донышке.
Но так невзлюбил молодицу с приплодом, что аж зубами скрипел, как мимо него проходили. Та уж старалась на глаз хозяину не попадаться, а перед матерью преданно расстилалась. Любую работу, что поручали, делала за двоих, а когда за троих, и всё крест целовала, что спас жизнь ей и дитяти. Любила с коровами долго возиться, так те молоко вдвойне приносили. Сынишка, как на дрожжах, рос-подрастал, матери в радость, людям забавой.
Раз, как стадо домой в хлев повернулось, мать пришла к молодице за парным молочком для Юрочка.
А та в слезах да соплях, подолом слезу утирает, да крупный горох недевичьих слёз катился, катился по загорелому личику.
Мать к ней: «Говори, кто обидел?»
Та кинулась в ноги: «Прости, за грех гнева, прости!»
Мать удивилась, закрыла дверь в хлев и приступила к расспросу: «Пытаю (спрашиваю) тебя, что случилось?»
«Нет, матушка, нет!» И снова слезы горохом в солому настила.
Потом кое-как успокоилась, и повела: «Пошла нонче на пастбище коров подоить. А там в пастухи поднанялся Тхорь, дед колченогий, что в соседях у нас проживал. Их всех мужиков, как после пожара забрали до Киева, мы и не видели. Увели тогда и моего Ворона. Мы ведь год как живём… Поправилась: «жили».
И снова слезы горохом. Хлюпая носом, продолжила: «Так я на пастбище деда и встретила. Их, как в Киев забрали, ночью на боярский двор привели. На правёж. Оно бы и ладно, может, князь да боярин отходчивы будут, разберутся, поймут, что нечего смердам (крестьяне, простолюдины) свои дома жечь-поджигать. Поймут, что чужие село подожгли, да отпустят на новые земли. Да куда там, куда? Их и слушать не стали. Вышел Тычина-боярин, выстроили мужиков, он всех обошел, заставил силу свою показать. Даже зубы оглядывал.
А потом всех, кроме колченогого, со двора увели. А дед слышал, как боярин говорил кому-то в ночи за ворота: «Слышь-ка, продай их жидам подороже! А то я знаю тебя: спустишь половцам товар побыстрее, абы домой скорей возвертаться. Так я тебе дам! Вишь, каких я тебе полонян подогнал, один краше другого, все на подбор мужики. Смотри у меня!»
И тут молодица слезой подавилась. Сквозь кашель и хрип простонала: «Дед говорит, что боярин имя хозяина нашего называл. Я думала, может, ошибся, а он знай талдычит одно: «Я хоть и колченог на одну ногу, но уха два слышат исправно. И все жалел меня, даже заплакал».
Помолчала. Потом, как в снег головой: «Уйдем мы от вас в добрые люди. В край случай, при монастыре на печерах пристроюсь шить-вышивать. Отпусти!»
Мать как-то сразу сгорбилась, пожухлела, как лет сто на плечи повесила. Молча встала, ушла.
В горнице напоила заболевшего Юрка молочком, сладкий пар поднимался над корчажкой, белела теплая пенка в темном сосуде.
Погладила сына по теплой головке и прошептала одно:
«Богатство – великая тягота, страшно мне, страшно!»
И потом долго молилась чуть не полночи, отбивая поклоны ликам суровым образов чистых и светлых Спасителя и Пресвятой.
Молчали иконы, свеча догорала, трещало в лампадке деревянное (конопляное масло, подсолнечного масла тогда еще не существовало на Руси) масло, коптило, чадило.
И в полусне, забытьи ей чудилось, как муженёк гонит рабов, сечет их нагайкой. И боярин Тычина смеётся деньгам, нимало ему не печально, что собственную деревеньку пожёг. А что ему деревенька, земля-то осталась. А людишки придут, куда им деваться от княжеской власти да его произвола!
Папа Климент
То ли сон, то ли явь…
Чудится море, беззвучно оно в ночной тишине. На небольшой глубине видится исхудалое тело, и вместо камня на шее якорёк, даже якорь. Берег невдалеке, волны беззвучно вползают на серый песок, также беззвучно ползут снова в море, оставляя черный песок.
Это не речка, не Лыбедь или Славутич, нет, это явное море. Пусть видел его только сдалу да мало, и днем, и сейчас видно – море. Не зелёное или голубое, а черное море, в котором совсем неглубоко колышутся стебли темно-зеленой травы, бесшумно ныряют дельфины. О том, что это именно дельфины, догадался, видел их на фресках столетнего храма. Они подплывают к лежавшему с якорем на тонюсенькой шее человеку. Дельфины носами его не торкаются, плавают рядом, вроде, как и охрана ему?
Совсем рядом крошечный островок. Как будто заранее знал, почему то сам понял, что это рядом с бухтой Казачьей (старинное название бухты не сохранилось), здесь, в Херсонесе.
На островке крошечный храм, ангелами строенный и поднятый над гробницей. То ли храм, то ли монастырёк, но явно что-то очень родное и тёплое видится в беззвучии ночи. Под храмом могилка, к ней узенький лаз с арками для прохода.
Заброшено все, запустело….
Но каждый год в урочное время отступает море от берега, и так много, много веков стелится море, и отступает, чтобы снова закрыть от глаз посторонних маленький храм и гробницу.
И каждый год в это время видятся толпы народа, что с берега ждут очереди на ладьи. Ладьи тихо снуют от островочка к пристани малой, видится громада маяка, серые камни которого высятся вдалеке. На ладьи садится епископ, братия со свечами, на островке сооружают алтарь. Беззвучно молится весь народ не день или два, а все восемь служится Литургия. Быстро-быстро проносятся кадры исцеления больных, бесноватых и незрячих прозрение.
Рукой отогнал это видение: может, опять искушение от нижних?
Видение не исчезало, не таяло в серо-беззвучном тумане. А перед глазами опять островочек, покрытый волнами, от храма остались руины. Ни человечка не видно, ни братии бедной, ни исцеленных.
Только века проносятся звездною пылью над берегами Тавриды.
Третье видение: братия во главе с седовласым Кириллом, Константином в крещении, рядом епископ Георгий, избранные мужи от имератора-базилевса Михаила III и весь Софиевский клир, братия местного храма, певчие, горожане. Все плывут на большом корабле к затонувшему островку.
Видно, студёно: люди озябли, море холодно, нет ни дельфинов, ни рыбы морской. Лунным сияньем покрыты волны морские, свет от луны заливает людей, по колена в воде бредущих по островку. Они ищут могилу. Беззвучно открывается рот регентом хора, беззвучно читаются строки канона.
Остановились, достали заступы, роют в холме, что чуть виден над морем. Видно, долго копали. День хмурый стал виден, озябшие руки людей разрывают могилку, а в глубине ее рака с мощами и якорь.
Высокий седой поднимает раку над головою, поставил на голову, несёт на корабль. Толпа с песнопеньем (видно, как рты открывают), спотыкаясь о камни, следом за ним. Рядом с седым сухопарый епископ не отстает.
Солнце клонится к закату. Впереди Херсонес, стадиев в двадцать (примерно пять-семь километров). Тихо сходят на берег, бредут по дороге. Маяк позади, проторенной дорогой от маяка до Херсона идут, песнопенений не прекращая. Видно, как старые, измождённые руки трясутся, едва удерживая раку с мощами, ноги в пыли и ракушках морских, обувь худа, камешки режут пальцы и ступни, а седой все идёт, с дыханьем тяжелым.
А от города встречь им огни, очень много огней. Это не города маяки или храмов больших освещение. Огонёчки маленьки, но их много, так много, как россыпи ромашек на вешнем лугу. Желтенькие теплые огонёчки медленно-плавно движутся навстречу бредущим от маяка. Дорога широкая, шириной в десять метров, вся заполнена людом, у каждого свечка горит. Толща ограды дороги тоже заполнена людом, все движутся встречь седому Кириллу.
От массы людей отделяется главный, по виду стратиг, он подхватил из поднятых рук просветителя раку, якорь забрали лучшие люди, верные мужи. Народ развернулся и двинулся к храму, что высился на холме близ Западных ворот Херсонеса.
Смеркалось, темнело, злой ветер стужил: февраль! Был день трехсвятительский – праздник. Масса народа, масса монахов стояли в молчании, догоравшими свечками согреваясь да дыханьем соседей.
Общий экстаз общей молитвы епископа, стратига, седого Кирилла-Константина и народа Херсонеса, так встречали папу Климента, обретавшего вновь покой и посмертную вечную славу.
В первую ночи стражу (около 9 часов вечера) народ разошелся, как после всенощного бдения. В стойком молчании Константин да несколько верных, без хора и певчих, несли раку в дом святого Леонтия. Шли вдоль береговых стен, крепостной ограды, и через калиточку узкую попали, наконец, в монастырь.
Как во дни великого праздника христианского, у раки священники бдили со всенощным стоянием и пением. До полуночи пели монахи, после сестрицы из монастыря да благоверные жены. Чужих певших сменяли свои, монастырские сестры дожидались заутрени за пеньем молитв.
На заутреню службу вновь собирался народ. Кто вовсе спать не ложился, кто вздремнул пару-тройку часов, кто выспался добре. К литании все были готовы (литания – поминальное молитвословие за усопших).
В западной части храма, где стоять положено по уставу, паства вместиться не в мочь, и толпа поневоле растекалась по храму.
На тетраподе (особый столик) в литейном сосуде освятили пшеницу, вино и елей, народ приклонял чело, дожидаясь помазания святейшим елеем. Времени много прошло, а ровно секунда, и народ с песнопением пошел к храму Первых Апостолов в центр Херсонеса, в Петропавловский храм.
Раку несли крестным ходом три раза, весь город пройдя, затем поместили в храме великом, и только потом совершили обряд литургии, воду святили святыми мощами…
За что же такая великая честь выпала старцу? Зачем величали с великим крестных ходом мощи его, зачем люд не спал день и ночь, поклоняясь мощам? Зачем великий просветитель народа славянского Константин, он же Кирилл, так торжественно, вместе с епископом и паствою Херсонеса отдавали великую честь тому, кто жил до них почти тысячу лет?
Вспомним и мы о Святителе, папе Римском Клименте. Напомним, прежде всех прежд, себе и другим о священномученичестве папы Климента.
Кто он? Откуда? Где и когда он родился, как к Богу пришел?
Священномученик Климент, римский папа, родился в богатой и знатной семье, в самом сердце великой империи, то есть в Риме. Род был богат, фамилия знатной.
Но в раннем детинстве был разлучен со своею семьей. Почему, нам неведомо, знаем одно, воспитали его в чужой, но прекрасной семье. Дали юному Клименту блестящее образование, ни в чём не знал он отказа. В роскошах купался, как в чистой воде бассейна мраморов патрицианских терм (термы-бани).
Был приближён ко дворцу императора! Миллионы в империи могли ему позавидовать, и, конечно, зависти к баловню судеб было достаточно много.
Но юный патриций умён, сердечко своё держал в чистоте. Много и много просиживал в библиотеке, читал, размышлял, а истину не находил. После долгих ночных размышлений подался он в Александрию, где вовсе будто б случайно встретил на долгом пути святого Варнаву – апостола. Долго, внимательно слушал апостола, бедного нищего в старых рубищах. Открывалась ему чистая вера, смысл его жизни и жизни других. Слово Божие, вечная истина добра и невечного зла стал постигать постепенно, следуя в Палестину. Там принял крещение от самого первоапостола от Петра. Стал постоянным спутником первоапостола, терпя вместе с ним голод и хлад, и гонения. Страдал вместе с ним, трудился с апостолом на благо Церкви.
И был рукоположен Петром на святое служение во епископы Рима.
Закончился путь Святого Петра великим страданием, но не испугался вновь избранный вождь паствы, и после кончины святого Лины (67-79 г.г. нашей эры), и его преемника, святого епископа Анаклета (79-91 г.г.), встал Климент на Римскую кафедру, где пастырем был с 92 по 101 год.
Тоненькими ручейками стекался римский народ, в общей массе плебеи, простонародье к святому престолу. И проповеди Климента, проникавшие в душу массы людской, приводили к Христу новых и новых адептов-последователей. Так, в день Пасхи святой, крестил он одновременно четыреста двадцать четыре души.
К крещению приходило теперь не только простонародье, но и правители, и даже члены семьи императора.
Вот тут то Траян, император великой империи, рассвирепел. Правил он долго, (с 98 по 117 год), правил по-разному, но суров был в одном, и стойко держался старых традиций языческой веры. Рассвирепел, ещё более укрепился в сознании, что достоин Климент кары жестокой, поскольку хулит многочисленных богов язычества.
И кару придумали римскому папе: сослали в каменоломни близ Инкермана, Херсонеса предместье. А что не сослать? Труд там тяжёл, но для империи благодатен, из инкерманского камня выстроен Рим. И Колизей, и другие громады вечного города белым каменем Инкермана выстроены на века. И казалось правителям Рима, Траяну (Трояну), что вместе с вечным городом вечно будут стоять его бог Зевс и зевсова неисчислимая рать.
А сосланный папа вместе со своими учениками, сосланными «за кампанию», как с юморком отозвался Траян, встретил в каменоломнях своих христиан. Империя высылала подалее от себя, в далёкий-далёкий таврический Крым первых последователей истинной веры.
Страдали за веру, надрываясь на тяжкой работе в мрачных каменоломнях, света не видя. И не так от тяжких трудов, как от безводия, страдали страдальцы.
Стал папа молиться, молились позаду его и другие христианские души. И по молитвам его Господь в образе агнца явил ему место источника, из которого излилась мощным потоком река.
Чудо? Конечно же, чудо. И стал собираться народ ближе к источнику, сотни и сотни людей стали слушать папу-изгнанника.
Обращались к Христу, принимали крещение по пятьсот человек ежедневно.
Стали храм вырубать, прямо в каменоломнях, вырубили тяжким трудом. И стал папа службу служить, как тому следовало. Священнодействовал, и текли ручейки люда херсонского, принося веру в дома и хибары.
Вновь был разгневан грозный правитель грозной империи. И приказал император Траян сотворить лютую казнь непослушному патрицию Клименту.
При стечении люда Климента ввергли в пучину морскую, привязав на шею ему якорёк, якорь такой, чтобы не выплыл, не освободился ловец человеческих душ.
И сотворили лютую казнь в сто первом году.
Верные их верных, его ученики Корнилий и Фива, стали молиться Богу Единому вместе со многими и многими христианами: «Помолимся все единодушно, чтобы Господь открыл нам тело святого мученика».
И отошло Чёрное море на три поприща (поприще в древней Руси состояло из тысячи шагов, в каждом шаге пять стоп).
И люди на морском дне обнаружили храм. Нерукотворный! (так называемая «Ангельская церковь»). А в храме нетленное тело святителя-пастыря.
И ежегодно, в день его смерти, то есть 8 декабря, отступало море от берегов, и в течение семи дней христиане могли поклоняться Святому.
В «Голубиной книге» есть такие строки: «С-под восточной со сторонушки выставала из моря церковь соборная с двенадцатью со престолами, святу Клименту, папе Римскому».
И так было и так продолжалось в течение целых долгих семи веков.
Но в правление императора, теперь не Рима, а Византии, Никифора (правил с 802 по 811 г.г.) стали мощи Климента недоступны мирскому вниманью.
И только когда в Херсонес прибыл святой просветитель Кирилл с братом своим равноапостольным Мефодием, и как узнали они о мощах папы Климента, они, скорее всего, с прямого повеления и указания константинопольского патриарха Фотия, побудили епископа Херсонеса Георгия ко открытию мощей священномученика. И было это событие 30 января 861 года.
И мощи святого, как летопись нам поведала: «весь град обошедше, в кафолическую церковь внедоша».
Ну, об этом мы вам рассказали.
Часть мощей Кирилл и Мефодий перенесли в Рим, а святая голова Климента впоследствии была перенесена в Киев святым равноапостольным князем Владимиром, где стала покоиться в самой главной церкви Руси, в Десятинной.
И вот как пишет древнерусский памятник руськой словесности «Слово на обновление Десятинной церкви» о папе Клименте: «И истинный заступник стране Русской, и венец приукрашенный славному и честному граду нашему и великой же метрополии, матери городам. Тобою русские князья похваляются, святители ликуют, иереи веселятся, монахи радуются, люди добродушествуют, приходя с горячею верою к твоим христоносным костям».
Поклоняется русский народ издревле папе Клименту. Строились и строятся храмы в его великую честь, поминается папа на службах в церквах и соборах.
Мощно стоит монастырь инкерманский на окраинах Херсонеса, теперь Севастополя. Стекаются толпы людские, славится Бог и отдается великая честь частице мощей Святого Климента. Живёт, процветает пещерный монастырёк: братия монастыря пополняется новыми, расцветают храмы иконами, мощи святого покоятся в торжественной тишине. Припадают многие к стопам раки святого, выпрашивают и получают по вере. Что каждый выпрашивает? А то же, что во все веки и просит народ: благоденствия, мира, здоровья. Прощения просят за недостойное, службу стоят.
На исповедях о грехах Богу свидетельствуют через священника, их допускают к причастию, если достоин.
Всё, как положено. Всё, как достойно по уставу монастыря. Игумены меняются, меняется братия.
И блестят каждый день маковки монастыря, созывая народ на молитву. Высоко монастырь, дорога трудна и сейчас, петляет от Чёрной реки, поднимается в гору. А по дорожке, пробитой ногами людскими, течёт струйка людей, тянется вверх.
И слава Богу!
По-прежнему бьёт из земли источник святой, льётся вода в течение двух тысяч лет, даруя по силе молитв исцеление и благодать.
Папа оставил нам два Послания к коринфянам. Они изданы в русском переводе в «Писаниях мужей апостольских». Читайте, внемлите слову Святого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.