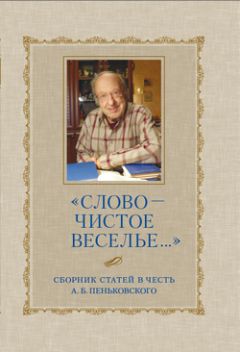
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 45 (всего у книги 50 страниц)
Т. Г. Юрченко[452]452
Впервые: Социальные и гуматнитарные науки. ИНИОН РАН. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7: Литературоведение. Реферативный журнал. М., 2001. № 4. С. 156–161.
[Закрыть]
Лингвокультурологическое исследование А. Б. Пеньковского (Владимир) – результат многолетней работы автора в области поэтической антропонимики, а также изучения языка, культуры России конца XVIII – первой трети XIX в. Объектом непосредственного анализа становятся два произведения – «Маскарад» М. Ю. Лермонтова и «Евгений Онегин» (1823–1831) А. С. Пушкина, сквозной же темой книги – «миф о Нине», укорененный как в жизни, так и в литературе «сложный культурно-языковой комплекс, в котором соединены имя героини, ее детально разработанный образ и определенный сюжет ее жизни… Нина этого мифа – роковая женщина, которая, соединяя в себе рай – ад, небо – землю, ангела и Мадонну – Содом, живет высокими, сжигающими ее страстями, богиня любви, служительница в собственном храме, «жертвенник, жертва и палач» одновременно. Неся гибель своим избранникам, эта новая Клеопатра готова погибнуть и сама. Расплачиваясь за свою порочную жизнь нравственной или физической смертью, она вызывает смешанную реакцию осуждения и сочувствия и оказывается «бедной Ниной» – в параллель к «бедной Лизе» (с. 475). Сквозь призму этого реконструируемого мифа, который складывается в русской литературе с конца XVIII в., а угасает лишь к середине XIX в. (основным текстом его явилась поэма Е. А. Баратынского «Бал», 1825–1828), исследователь видит и трагедию лермонтовской героини, и коллизию «Евгения Онегина»; здесь, по его мнению, есть «и непрочитанные строки, и даже неразрезанные страницы» (с. 476), и любовный опыт самого Пушкина. Вместе с тем, в книге рассматриваются внутритекстовые связи многих, ранее не привлекавших специального внимания, но несущих большую смысловую нагрузку деталей и мотивов: плечи, черный соболь, бильярд в два шара, шаль и др., а также по-новому, в соответствии с их употреблением в пушкинскую эпоху, интерпретируются ключевые для понимания романа слова: скука, тоска, досада, дева, страсти, желчь, ибо, как указывает А. Б. Пеньковский, язык русской литературы этого времени, будучи во многом близким современному, глубоко отличен от него в сфере коннотативных, словарных и иных значений. Непонимание этих отличий, замаскированных внешним сходством, часто приводит к искажению, а то и к извращению смысла художественного произведения. В научной литературе о лермонтовской драме неоднократно отмечался факт двуименности главной героини, когда в сцене бала (III, I) Нина Арбенина – единственный раз – названа другим именем: «Настасья Павловна споет нам что-нибудь», – говорит один из гостей. Имя «Нина», замечает исследователь, в XVIII в. в России не употреблялось даже в дворянской, наиболее быстро реагирующей на новые имена, среде. Оно начинает распространяться на рубеже XVIII–XIX вв. под влиянием модной поэзии как условно-поэтическое имя с полунарицательным значением «дева», «милая», «возлюбленная». Имя же «Настасья», входившее в XVIII в. в общерусский женский именник, в XIX в. воспринимается уже как провинциальное, сниженное. Не ограничиваясь констатацией противопоставленности имен «Настасья» – «Нина» как реализации оппозиции «обычное» – «светское» (а такого рода двуименность была частым явлением в дворянском быту), А. Б. Пеньковский ставит перед собой задачу раскрыть художественную нагрузку этой оппозиции в контексте всего произведения, рассматривая ее как составной элемент антропонимического пространства драмы, образуемого «совокупностью всех собственных и функционирующих как собственные нарицательных имен» (с. 31).
В списке действующих лиц «Маскарада» указана лишь одна Маска, подчеркивает исследователь, но парадокс состоит в том, что «и все остальные имена в этом мире – тоже маски», «обманные маски-личины» (33). Таковы, в первую очередь, именования «Князь Звездич» и «Баронесса Штраль», внутренняя форма которых обнаруживает их глубокое родство: «звезда» и «луч» (нем. Strahl). Перевод фамильного имени в титульный эпитет – «светлейший князь» и «сиятельнейшая баронесса» углубляет маскарадность этих имен, которые, кроме того, чужие, не русские, и «княжество» князя с сербской фамилией столь же сомнительно, как и «баронство» баронессы. Оба они связываются по логике внутрисистемных связей с «обманным светом светского мира» (с. 45). К чужим именам относятся и имена «Шприх» и «Казарин». В «чуждости» всех этих имен – выражение авторского отношения к светскому миру как чужому и враждебному. Имя «Нина» – тоже «чужое»: оно, связанное с именем Арбенина, второй частью которого является, – «метка чужого мира, яркая и нарядная маска, чуждая той, что соблазнилась ее надеть и заплатила за это ценою жизни» (с. 53).»
Трагедия Арбенина (фамилия которого также имеет ореол нерусскости, некоторой искусственности) в том, что, считая себя не принадлежащим чужому маскарадному миру, он принимает его законы и его мифологию и, заменив «грубое», с точки зрения света, имя своей жены на условно-маскарадное, поэтическое, начинает видеть в ней некий отблеск мифологической Нины – легкомысленную кокотку. Существенное отличие «Маскарада» от всех других текстов, связанных с мифом о Нине, в том, что Лермонтов не развивает миф, но пользуется им как сложившейся данностью, и его драма – не мифологический, а «метамифологический» текст: Нина не героиня мифа, как Нина из «Бала» Баратынского, но его жертва, поневоле носящая его имя. Поэтому «рядом с Арбениным-Отелло и Ниной-Дездемоной нет своего персонифицированного Яго. Его убийственную роль выполняет инкорпорированный в сознание Арбенина миф о Нине, враг невидимый и бесплотный, действующий как безличная сила и потому еще более разрушительно и неотвратимо» (с. 71).
Разгадка утаиваемой мучительной любви юного Онегина, имевшей роковые последствия для тоскующего, а не (как принято считать) скучающего героя романа Пушкина, также связывается исследователем с мифом о Нине. Онегин признается Татьяне, что она «в волненье привела / Давно умолкнувшие чувства» (4, XII). Об этих чувствах говорится в начальных строфах 41-й главы, которые не вошли в окончательный текст романа, но были опубликованы как «Отрывок из Евгения Онегина» в журнале «Московский вестник» в 1827 г. (№ 20) под названием «Женщины», где возникает образ возлюбленной, соединяющей в себе черты ангела и вампира. Память об этой женщине сопровождает Онегина и в его сельском уединении, где «Один, в расчеты погруженный, / Тупым кием вооруженный, / Он на бильярде в два шара / Играет с самого утра» (4, XLIV). Это, как замечает А. Б. Пеньковский, «не просто один из вариантов бильярдной игры. Здесь еще и ярчайший образ враждебного диалога, диалога между Ним и Ею, прерванного в реальной действительности, но продолжающегося и бесконечно длящегося в его сознании» (с. 117). По отдельным мелким деталям – «…угрозы, / Моленья, клятвы, мнимый страх… / Надзоры теток, матерей, / И дружба тяжкая мужей» – восстанавливается картина целого как «классический любовный треугольник: она, ее "принятый в доме" любовник, тягостно одаряемый дружбой мужа, и мучительная любовная связь» (с. 126). Имя этой демонически-вампирической женщины, этой «Анти-Татьяны», чтобы войти в идеальную антропонимическую конкордацию с именем главного героя пушкинского романа, должно, по А. Б. Пеньковскому, быть: «1. Социально высоким. 2. Возможным в быту, но не бытовым. 3. Литературным, но не исключительно условно-поэтическим. 4. Высоким по доантропонимическому значению и/или вторичным коннотациям, но «опороченно» высоким. 5. Эвфонически совершенным. 6. Совместимым с мужским именем по вокалическому и консонантному составу» (с. 246). Подобными признаками обладало лишь одно имя – Нина.
Именно Нина должна была бы стать героиней романа, но стала Татьяна. Пушкин, подменив одну героиню другой, совершает то же, что и его «догадливый поэт» Трике, поставивший «вместо belle Nina… belle Tatiana», эпизод с которым не что иное, как «сюжетная рифма»: «Пушкин показал то, что не хотел сказать открыто: именование-переименование через замещение утаенного «правильного» имени» (с. 349). Благодаря куплету Трике, связь двух имен входит в сознание читателя, предвещая явление Нины Воронской, психологический портрет которой из опущенных строф XXIV и ХХ?Іа 8-й главы совпадает как с обликом неназванной женщины – «созданья злобных, тайных сил» начальных строф 4-й главы, так и с образом, вырисовывающимся в строфе III той же главы.
В приглашении на «Татьяны именины», которое передает Ленский Онегину, последний слышит имя своей трагической любви. Это, считает исследователь, многое объясняет в поведении Онегина у Лариных, для которого то был «не просто провинциальный бал, а провинциальная пародия на столь памятные ему светские балы, где блистала (в частности, и плечами) ставшая ненавистной ему Нина, и именно Ленский был виною его возвращения в этот оставленный им мир» (с. 263). Прямое свидельство Онегина об имени его утаиваемой любви – в невошедшем в текст романа «Альбоме Онегина», в записи о «блистающей плечами» R.C. «По этим плечам, – пишет А. Б. Пеньковский, – мы и можем понять, что скрытая под латинским криптонимом R.C. "одалиска молодая", она же "Венера Невы", среди "влюбленной толпы" на пиру у В. со страницы онегинского альбома, и "Нина Воронская", она же "Клеопатра Невы", в бальной зале княжеского дома Татьяны – одно и то же лицо» (с. 292).
Как и подобает мифологической Нине, именно она становится инициатором отношений с Онегиным (записи в «Альбоме Онегина» № 5 и 6). Далее следует представление Онегина мужу R.C., т. е. Нины, как возможность открытого посещения ее дома. Отзвуки этой записи № 11 слышны и в окончательном тексте романа в словах о «блаженных мужьях» (1, XII), и о «тяжкой дружбе мужей» (4, VIII). Любовный треугольник: Онегин – Нина – ее муж, мог бы стать «сюжетной рифмой» к отношениям Онегин – Татьяна – муж Татьяны, однако Татьяна не идет по пути Нины. Главная причина ее отказа Онегину – их через князя N., мужа Татьяны, возникшее родство: Онегин ему – «родня и друг». Мотив родства Онегина и князя отсутствует в беловой рукописи и вводится лишь на заключительном этапе, что, по мнению исследователя, говорит о чрезвычайной важности его для Пушкина. Именно потому, что в своем безоглядном порыве Онегин готов переступить через самое святое для Татьяны, его любовь к ней (в ее глазах) – «обидная страсть».
В Онегине часто усматривают демоническое начало. Д. Мережковский, в частности, полагал, что в своем романе Пушкин осуществляет «попытку развенчания демонического героя» («Пушкин», 1896). Между тем, доказывает А. Б. Пеньковский, демонизма в Онегине вовсе нет. Он – «не демон, а человек, через которого чуждое ему демоническое начало приходит в мир, герой, который борется с вселившимся в него демоном, избавляется от него и вновь отдает себя в его власть, и вновь ведет борьбу за свое освобождение» (с. 325). Этот владеющий душой Онегина и ставший причиной его уныния и тоски демон – Нина, «темная и мрачная ипостась Вечной Жертвенности» (с. 330), «Клеопатра нового времени» (с. 357). Столь же важна Нина и для понимания Татьяны, которая «смогла стать тем, чем она стала, только потому, что в ней жила внутренняя Нина. Именно в борьбе со своей внутренней Ниной, но у нее же и почерпывая, Татьяна обрела силу и мощь, необходимую для победы над Ниной внешней» (с. 327). Нина, таким образом, предстает как героиня третьего, наряду с повествовательным и поэтическим, – скрытого мифологического сюжета «Евгения Онегина», который пересекается с первыми двумя, но и во многом определяет их развитие. Это – выявляемый на антропонимическом уровне сюжет о губительной для юного героя связи с мифологической героиней и его борьбе с ней, в котором «есть все основания видеть аналог романтической легенды об утаенной любви Пушкина, – легенды, которую он сознательно и целенаправленно творил всю жизнь» (с. 355).
H. В. Забабурова
За «Далью свободного романа…»[453]453
Впервые: Лит. учеба. 2001. Кн. 1, янв.-февр. С. 220—223.
[Закрыть]
Книга А. Б. Пеньковского – исследование во всех отношениях провоцирующее: вдумчивого читателя – на новое, «медленное» (по М. Гершензону), перечитывание пушкинского романа в стихах, таящего, оказывается, бездны нераскрытых смыслов; цех пушкинистов – на дискуссии. Лингвистический аспект исследования, заявленный и подчеркнутый в заголовке монографии, – это своего рода обманный ход, поскольку языковой пласт романа для автора не самостоятельный предмет исследования, а особая художественная реальность, с собственным семиотическим кодом, которая создает безграничные возможности интерпретаций культурологического, психологического и поэтологического характера. Читая эту книгу, возвращаешься к очевидной, но столь часто забываемой истине: литературное произведение – это прежде всего словесный текст, границами которого должны быть очерчены самые смелые исследовательские дерзания. В центре книги – гипотеза / концепция, неизбежно завораживающая и увлекающая читателя. В основе ее, во-первых, осмысление художественной антропонимии как формы воплощения культурного мифотворчества (собственно «миф о Нине») и, во-вторых, «прочтение» пушкинского текста в языковом контексте эпохи – то, что сам автор называет «комплексным ретроспективным лингвокультурологическим анализом» (с. 471). Такого рода анализ помогает автору выстроить скрытый сюжет «Евгения Онегина», принципиально меняющий сложившиеся и до сих пор авторитетные оценки конфликтной ситуации романа и изображенных в нем психологических типов. Семиотический аспект именования – проблема, до сих пор малоизученная, и те немногие работы, в которых она затрагивается (Магазанник Э. Б. Онамапоэтика, или «Говорящие имена» в литературе. Ташкент, 1978; Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М., 1995), лишь открывают возможные перспективы ее системного исследования. Миф о Нине выстраивается в книге А. Б. Пеньковского как культурная реальность, подтверждая всю значимость указанной проблемы. Не случайно первую часть монографии автор посвятил лермонтовскому «Маскараду» с его именами-масками и странной двуименностью героини. Он убедительно показывает, что имя Нина – очевидная светская замена «домашнего» имени героини Настасья (преимущественно крестьянского) – оказалось катализатором трагедии. Арбенин увидел в жене «мифологическую Нину своего времени» (с. 56). Культурный миф о Нине, составляющий в определенной степени центр исследования А. Б. Пеньковского, стягивающий воедино все смысловые нити пушкинского текста, реконструирован в книге масштабно и вполне убедительно. Известно, что с давних пор идут споры о загадочной Нине Воронской, мелькающей в восьмой главе пушкинского романа, сей Клеопатре Невы, которая уже не могла затмить новую Татьяну. Исследователи и комментаторы так и не смогли ответить на очевидный и возникающий перед каждым внимательным читателем романа вопрос: почему в этом безымянном светском хороводе, где даже муж Татьяны не обретает ни имени, ни фамилии, так демонстративно заявлено это странное и чуть-чуть зловещее имя: Нина Воронская. Для всех всегда были очевидны ассоциации с поэмой Баратынского «Бал» (а отсюда и с возможными прототипами роковой Нины, прежде всего А. Ф. Закревской). Книга А. Б. Пеньковского, думается, содержит исчерпывающий ответ, вполне убедительный и аргументированный обширным лингвокульту– рологическим материалом. Творцом мифа о Нине в русской литературе (и то с некоторой долей условности) автор считает Баратынского, но сам миф связан с условно-поэтическим именем Нина, уже обрамленным в пушкинскую эпоху вполне определенными ассоциациями: «Нина этого мифа – прекрасная женщина, живущая всепоглощающими страстями, которые она не может удовлетворить и во имя которых готова пренебречь принятыми в обществе нравственными нормами» (с. 60). Важно замечание А. Б. Пеньковского о том, что миф о Нине, как и вообще мифы нового времени, не имеет основного исходного текста: «Миф живет виртуальной жизнью в воздухе культуры, в культурном сознании своего времени, воплощаясь во множестве частных текстов…» (с. 61).
В «Евгении Онегине» автор прочитывает еще одну версию мифа о Нине. История несчастной онегинской страсти к «погибельной» Нине и составляет, по мысли А. Б. Пеньковского, скрытый сюжет пушкинского романа, который «вы– читывается» в черновых набросках, в журнале Онегина, не включенном в последнюю редакцию романа. Филигранный анализ языковых деталей позволяет автору провести задуманную реконструкцию чрезвычайно изящно, а главное – убедительно. Для него пушкинское слово не обладает плоской однозначностью и одномерностью.
Ключевым моментом в гипотезе А. Б. оказывается концепт «скуки», так явно акцентированный в пушкинском романе и во многом определивший традиционную трактовку Онегина. Этот концепт автор трактует как одну из загадок словаря пушкинской эпохи (с. 164). Разворачивая систему контекстных значений этого понятия во времена Пушкина (от Словаря Даля до текстов Вяземского, Батюшкова, Баратынского, декабристов), анализируя переписку современников, а главное – тексты самого Пушкина, в письмах которого эти слова обладают выраженной семантикой, совершенно не совпадающей с современными значениями, автор делает вывод о том, что слово «скука» изначально входило в «мощный синонимический ряд – грусть, тоска, печаль, уныние, кручина, унылость, томление, скорбь, меланхолия…» (с. 174–175). В свете лингвокульіурологических ассоциаций герой Пушкина предстает не как скучающий, а как тоскующий, что принципиально меняет его характеристику, объясняя, кстати, сближение автора и героя в первых главах романа и акцентируя моменты внутренней трагедии, им переживаемой. В свете предложенной гипотезы совершенно новую трактовку получает эпизод дуэли Онегина и Ленского. Ключевым для автора представляется момент переименования Татьяны в куплетах Трике. Замена имени Нины именем Татьяны – для автора важнейшая смыслообразующая «сюжетная рифма» (с. 249), «смысловой центр скрытого сюжета романа» (с. 250). Узнаваемое в куплете Трике имя Нины возникает как призрак и окончательно отделяет Онегина от Татьяны (с. 266), провоцирует его беспричинную гневную вспышку, желание отомстить Ленскому, завлекшему его на этот несносный сельский бал.
Мотив переименования дает автору основания говорить о двуплановости образа Татьяны, которая сочетает в себе и роковую Нину, и патриархальную Татьяну – две ипостаси, которые непременно вступают в противоречие. Этой проблеме посвящены несколько глав работы (с. 326–345). Интересной в связи с этим представляется трактовка сна Татьяны, в котором скорее проявляется ипостась Нины – носительницы и жертвы соблазна. Определенное двуголосие автор наблюдает и в письме Татьяны: смена интонаций и лексики свидетельствует, по его мнению, о внутренней диалогичности героини, в которой явственно борются два начала. «Именно незримая борьба Татьяны и Нины в душе Онегина и за душу Онегина делают таким глубоким и захватывающе интересным этот образ», – таков вывод автора (с. 344). Нетрудно предположить, что в целом гипотеза А. Б. Пеньковского парадоксальна (как все новое) и вынуждает его спорить со всеми авторитетными пушкинистами, в том числе со столь квалифицированными комментаторами пушкинского романа, как Ю. Лотман и В. Набоков. К тому же и «Словарь языка Пушкина», единственное в своем роде и для всех пушкинистов авторитетное издание, для него – пример плоского, вневременного восприятия пушкинского слова. Подобные полемические выпады неизбежны в рамках заявленной автором задачи, достаточно дерзкой для традиционной пушкинистики.
Защищен ли он сам от нападок? Нет ничего легче, как критиковать нестандартные решения. Одних может раздражать сам избранный тон – страстная убежденность в верности предложенного подхода, демонстративно личное отношение к обсуждаемым проблемам. Приверженцам академической строгости это не по нраву. Можно найти в работе немало спорных суждений и выводов, порой излишне категоричных и субъективных. Так, к примеру, за аббревиатурой R. С. (и ее черновыми вариациями), под которой в альбоме Онегина скрывается «Венера Невы», предмет тайной страсти юного Онегина, чуткое ухо автора улавливает особую «эвфоническую подоплеку» утаиваемого имени Нина (с. 282). Так же ему слышится имя Нина в, быть может, вполне нейтральной фразе Ленского о Татьяниных именинах, на которые зван Онегин. Но работа А. Б. Пеньковского обладает удивительным свойством: она вовлекает читателя (разумеется, приобщенного к творчеству Пушкина) в увлекательнейший процесс совместного чтения романа: автор приглашает к диалогу, убеждает, ведет через очерченный им лабиринт к заданным смыслам. На сомневающегося читателя вдруг обрушивается лавина языкового материала, рассеивающего возникшие вопросы. Живая жизнь слова в потоке времени – это сам по себе увлекательнейший и истинно филологический сюжет книги А. Б. Пеньковского.
Социокультурные реалии русского золотого века осмысляются автором монографии только через слово, и это создает удивительную ауру его текста. Детали, которые легко могут ускользнуть от комментаторов, представляясь в общеязыковом ключе понятными и очевидными, обретают под пером исследователя неожиданные смыслы. К примеру, в определенный культурный код А. Б. Пеньковский включил слова «плечи», «черный соболь» и «боа», «шаль» (с. 294–304), и они выявили важнейшие нюансы реконструированного им скрытого сюжета пушкинского романа.
Ценный лингвокультурологический материал содержится и в примечаниях к книге, занимающих более ста страниц текста.
Очевидно, что книга А. Б. Пеньковского вносит существенные коррективы в сложившееся восприятие пушкинского текста, расширяет представления о его социокультурных реалиях и демонстрирует блестящие возможности профессионального диалога лингвистики и литературоведения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































