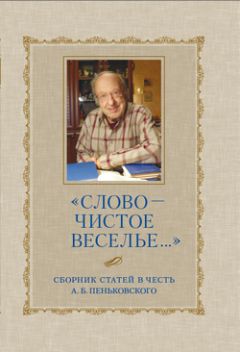
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 50 страниц)
Мои вопросы не принадлежат к категории возражений. Пеньковский, несравненный знаток эпохи Пушкина и поэзии того времени, блестящий полемист, один из тончайших наших филологов, не узнает от меня ничего, о чем сам не думал долгие годы. Но то, что смущает меня, может смутить и других. Заимодавцев жадный рой не преминет вступить с Пеньковским в тяжбу. Его книга мгновенно станет классикой. Ни один знаток золотого века русской литературы не пройдет мимо нее. Никто не закроет ее, не став умнее и тоньше. Ссылками на нее (восхищенными и гневными) будут пестреть статьи и диссертации. Пожелаем же новорожденному творенью заслужить дань истинной славы и восторжествовать над всеми своими зоилами.
R. D. В. Thomson[449]449
Впервые: Russian Review. 2000. Vol. 59, № 4, Oct. p. 636—637.
[Закрыть]
«The Nina of the myth is a femme fatale, a combination of heaven and hell ... who lives by the passions that consume her. She is both a goddess of love and a servant in her own temple, altar, sacrifice and executioner at one and the same time. A modem Cleopatra, she brings ruin to her chosen ones ... while paying for her immoral life with her own moral or physical death and arouses feelings of condemnation mixed with sympathy» (p. 475). Her prototype in real life was Agrafena Zakrevskaia, the «comet» of Pushkin’s poem «Portret» and the inspiration for Nina, the heroine of Baratynskii’s Bal. Pen’kovskii mentions a number of works in which this type appears, but his main purpose is to unearth her presence in Evgenii Onegin, and this leads in turn to a new interpretation of that work.
In the first part, Pen’kovskii turns to Lermontov’s play Maskarad. He starts from the puzzling scene in Act Ш, scene 3, in which Nina Arbenina is addressed as Nastas’ia Pavlovna (or in one variant Alekseevna). He shows that it was quite common in high society for unfashionable names such as Nastas'ia (or Tat’iana) to be replaced by more acceptable ones. For Lermontov this custom typified the falsity of society. It is significant, then, that Arbenina is addressed by her true name when she is asked to sing, but then social role-playing takes over. Her tragedy consists in being saddled with a name whose mythical implications she is compelled to live out, and not being allowed to live as herself.
The greater part of the book, however, is devoted to Evgenii Onegin. Much of the material consists in the analysis of words whose meanings and associations in the early nineteenth century differed significantly from those they have today (even the Slovar’iazyka Pushkina comes in for some criticism here). Particularly revealing is the examination of the cluster of concepts associated with «skuka» (traditionally translated as «boredom»), such as «toska», «unynie», «khandra». Pen’kovskii shows by quotations from contemporary literature and private letters that «skuka» is often used in contexts where «boredom» would clearly be inappropriate and serves rather as an aristocratic euphemism for unhappiness or depression. The same is shown to be true of nearsynonyms, such as «len’» and even «zevota». The point is to show that Onegin is not a bored flaneur or idle dilettante, but an intelligent, thoughtful individual who has been traumatized by an unhappy love affair some time in the past that makes him suspicious of love and incapable of responding to it. Pen’kovskii establishes this point by skilful use of Onegin’s «al’bom» (originally intended for chapter 7, but later dropped); the author of Onegin’s misery is a prototypical, though unnamed, Nina. The reason for his rejection of Tat’iana, then, is not selfishness, but the trauma of an earlier rejection.
This may seem merely speculative, but Pen’kovskii draws our attention (p. 247) to M. Triquet’s «bold» substitution of «belle Tat’iana» for «belle Nina» at the name-day party in chapter 5, suggesting an identity between them, and the fatal name slips in again in the phrase «Tat’iany imianiny [imia Niny]». (Pushkin’s original spelling has been modernized by later editors, so obscuring this point.) The logical culmination of this battle of names occurs in chapter 8 when Tat’iana is confronted by the reigning queen of St. Petersburg society, Nina Voronskaia, the «Cleopatra of the Neva», and is not eclipsed by her. The spell exercised by Nina is at last exorcised.
I have here dealt with only one aspect of Pen’kovskii’s complex argument. But the same attention to detail pervades the whole book. A mass of information, the detailed analysis of names and words, and innumerable passing comments all help to resituate the novel in the world of the 1820s and remove the moralizing oversimplifications that have distorted the image of its hero for too long. Even the most surprising and controversial suggestions are presented persuasively and require serious thought. Certain points, however, seem to me to be overstated and even unnecessary, for example the claim that «the plan of the novel was thoroughly thought out and Nina ... was part of the scheme from the very beginning» (p. 294). In the case of works of art that evolve over many years the potential of seemingly unimportant details in the early sections is sometimes appreciated only in the process of composition, rather than having been an essential part of the original design, and this seems to me a more probable explanation in the case of Evgenii Onegin. But this and a handful of other reservations in no way detract from the value of an outstanding study which demands to be read not only by Pushkinists, but by every one with an interest in Russian literature.
И. Булкина[450]450
Впервые: Новое литературное обозрение. 2000. № 44. С. 383–386.
[Закрыть]
Автор этой книги ориентировался на разные (и разного порядка) научные и культурные традиции, и она, соответственно, делится на несколько несоизмеримых в научном плане частей.
В первую очередь нужно назвать известную монографию В. Н. Топорова о «Бедной Лизе» (первая сознательная отсылка на которую появляется лишь в заключительной главе этого исследования в контексте странной полемики, но об этом ниже), более ранняя «оговорка по Фрейду» возникает на с. 70, где речь идет о «бедной Нине, оплакиваемой теми же слезами, что были пролиты над бедной Лизой». И в этом случае автор в примечаниях впадает в полемику, но на этот раз с А. С. Немзером и А. Л. Зориным, усмотревшими в мемуарном рассказе Ходасевича о бедной Нине – Петровской аллюзии на карамзинскую повесть (см.: Зорин А.,Немзер А. Парадоксы чувствительности // Столетья не сотрут. М., 1989. С. 26).
Другая научная составляющая этого лингвомифологического исследования – та отрасль науки о литературе, которую вслед за В. В. Виноградовым принято называть историей литературного языка, – автор довольно часто апеллирует и к опыту самого Виноградова, и к «Словарю языка Пушкина» (к сожалению, единственному из такого рода словарей), причем во многих случаях существенно его («Словарь») дополняя.
Наконец, третья составляющая (и третья часть книги А. Б. Пеньковского) принадлежат той излюбленной народом отрасли гуманитарных занятий, которую имеет смысл назвать «пушкиноведением тайн и загадок».
Все три источника и все три составные части заслуживают отдельного разговора, но в плане профессионального разговора они весьма неравнозначны. По крайней мере, о «тайнах», «загадках» и сакраментальной «утаенной любви» на этих страницах говорить не хотелось бы. Но, к несчастью, главный пафос отнюдь не бесполезной книги А. Б. Пеньковского как раз и состоит в «раскрытии» тщательно утаиваемого Пушкиным «скрытого сюжета "Евгения Онегина"».
Сюжет же самой книги А. Б. Пеньковского строится следующим образом: вначале «миф о Нине» вычитывается из «Маскарада» и близлежащего «антропонимического пространства». Надо сказать, что это хоть далеко не бесспорная, но, безусловно, полезная и самая интересная часть книги. Истоки ее – в давней (1976) – статье автора «О двух именах героини "Маскарада"» (Вопросы литературы. Владимир, 1976. Вып. 10). Присущий эпохе феномен бытовой двуименности автор увязывает с двойным именования Нины-Настасьи Арбениной и затем выстраивает сюжет на основании семантической оппозиции имен. Нина – имя светского демонического мифа, тогда как настоящее имя героини – Настасья, и это обратная сторона двуполюсного лермонтовского мира, «старинная мечта» против «бездушных образов» из «пестрой толпы». По мысли Пеньковского, «Нина» в драме не столько даже имя героини, но движущая сила сюжета: «в «Маскараде» рядом с Арбениным-Отелло и Ниной-Дездемоной нет своего персонифицированного Яго. Его убийственную роль выполняет инкорпорированный в сознание Арбенина миф о Нине…» (с. 71). Кажется, все же периферийное «антропонимическое пространство» (баронесса Штраль, князь Звездич), литературный и бытовой фон лермонтовской драмы, описанный без «мифологического» пафоса, выглядит куда интереснее и убедительнее; что же касается собственно «мифа Нины», то, если речь идет о термине, а не о метафоре, уместнее было бы говорить о семантическом ореоле «светского» имени, так или иначе связанного с поэмой Баратынского, но более всего литературная семантика «Нины» происходила из популярнейшей французской оперы «Nina, ou La folle per amour» («Нина, или Безумная от любви»), последовавшего затем балета, общего условно-романтического статуса имени.
В. Н. Топоров в своей монографии о «Бедной Лизе» говорит об имени как элементе «ономастического кода», а ни в коем случае не о «мифе нового времени», как того хотелось бы автору книги о Нине. При том что «номиналистическая ситуация» в случае с «бедной Лизой» разработана в гораздо большей степени и карамзинская повесть в самом деле имеет все основания считаться міфопорождающим текстом, ее историко-культурное значение несоизмеримо с совершенно особым и очевидно «непродуктивным» с точки зрения литературной эволюции опытом Баратынского. Несчастная героиня «Бала» оставила свой след – в той или иной степени – ив «Маскараде», и в «Евгении Онегине» (хотя именно в случае «Онегина» А. Б. Пеньковский не желает с этим соглашаться, иначе придется признать, что никакого «скрытого сюжета Нины» в романе нет, Нина как цитата из «Бала» могла явиться лишь в восьмой главе, и никак не раньше), однако всякий, кому знакома «читательская» история поэм Баратынского, не без сожаления признает, что уже с 40-х годов прошлого века они перестали быть не на слуху даже, но просто – в литературной памяти (ср. у Белинского в статье 1835 г.: «О поэмах г. Баратынского я ничего не хочу говорить: их давно никто не читает…» И характерно, что «Эду» Белинский в том же пассаже называет стихотворным переложением «Бедной Лизы»), Всех последующих Нин, о которых вспоминает Пеньковский (от Писемского до Чехова и от Набокова до Вен. Ерофеева), с «основным», по его же концепции, текстом – «Балом» – объединяет не более чем имя (без всякой оглядки на художественный опыт Баратынского), при том что присущий имени «семантический ореол» поэме Баратынского предшествовал, а затем уже устойчивая параллель Нина—Клеопатра закреплена была в «Онегине». Коль уж заниматься свободным нанизыванием номинальных цепочек, то впору вспомнить Высоцкого, скорее даже, чем «Москву—Петушки». По крайней мере, «Сегодня Нинка соглашается, сегодня жизнь моя решается» гораздо очевиднее накладывается на пресловутый комплекс «Нины—Клеопатры», нежели приводимые у Пеньковского «Нинка из 13-й комнаты» (с. 67) и «Ниночка» Греты Гарбо. И как раз в этом случае не что иное, как «миф Нины» становится «движущей силой сюжета», – что еще, кроме этого, заставляет увидеть Клеопатру в героине, у которой «глаз подбит и ноги разные». Я вовсе не пародирую, это скорее Высоцкий, по обыкновению, травестирует сюжет. А мораль в том, что самая неразработанность культурно-антропонимического поля порождает исключительные соблазны и ограничить исследователя-энтузиаста способно лишь напоминание о многочисленных Аннах, Верах, Катеринах, не говоря уже о Мариях, каждая из которых несет в себе ничуть не меньшие основания для «культурного мифа» и всевозможных «скрытых сюжетов».
Кажется, только сознательное удаление из памяти всего, что в той или иной степени не укладывается в персональный именной миф, позволило в сюжете Нины-Настасьи забыть о другой очевидной героине все того же «мифа Нины» – о Настасье Филипповне. Если пойти здесь за Пеньковским, то следует понимать Настасью Филипповну как Нину, и тогда сюжет о «литературном мифе» приобретет новые коллизии. Однако имеет смысл признать, что двуполюсной романтический миф, органичный в лермонтовском «Маскараде», на любом другом материале требует значительных корреляций, при том, что даже у Достоевского его «вычитать» легче, чем у Пушкина, и ничто так не враждебно самой природе пушкинского романа, как ультраромантические прививки «утаенной любви» и попытки надеть на героя хоть одну из многочисленных перебираемых Пушкиным масок. В самом деле, Онегин у Пеньковского превращается в лучшем случае в Печорина (если не в Демона), «хандра» его не без героических усилий и «словарных» изысканий становится синонимом «любовной тоски», его странное поведение на именинах Татьяны легко объясняется тем, что в невинном слове «именины» ему, бедняге, слышится «имя Нины», наконец, сам Пушкин оборачивается мосье Трике («мелким шулером», по Лотману, «трикстером», по Набокову), а весь роман чуть ли не куплетом Трике, где этот находчивый автор «вместо belle Nina поставил belle Tatiana». (И здесь я вовсе не травестирую исследовательский сюжет Пеньковского, а близко к тексту пересказываю главы 3.3 «Пушкин и Трике» и 3.4 «Belle Nina – смысловой центр скрытого сюжета романа, соединяющий его концы и начала».) Наконец, сцена явления той самой таинственно-фатальной Нины в заключительной главе достойна кульминации латиноамериканского сериала: две давние соперницы сталкиваются лицом к лицу, но на этот раз побеждает Татьяна (тогда как в свое время «ответ Онегина на ее письмо (был) сттропотшнчески предопределен», с. 85).
Замечательно, что, превращая Нину Воронскую из героини фона в героиню главную и «предопределяющую» сюжет, Пеньковский сам вынужден признать, что «вампирические» дамы у Пушкина («Нины», как он их называет) последовательно наделялись именами другого фонетического ряда: Зарема – Земфира – Зинаида Вольская.
Налицо общее методологическое противоречие: бесспорные или просто правомерные и замечательно интересные антропонимические наблюдения, стоит им выйти на простор «мифологических» (в прямом и переносном смысле) обобщений и допущений, толкают автора на в прямом смысле слова детективные авантюры и заставляют вступать в бесконечные и изнурительные полемики с Лотманом и Набоковым, С. Г. Бочаровым и Л. С. Осповатом, наконец, с самим Пушкиным: для того, чтобы явить Онегина однозначно романтическим героем «любовной тоски», знавшим на протяжении всего романа «одной лишь думы власть» и повсюду параноидально вычитывавшим «имя Нины», Пеньковскому приходится необъяснимым образом, «оставив "принцип противоречий" Пушкину… принять принцип презумпции непротиворечивости пушкинского текста» (с. 187). Для того чтобы достоверно объяснить, почему «письма девы молодой» следует связывать с пресловутой Ниной, а не с Татьяной, автор поначалу пускается в пространные лингвистические эмпиреи о «сущностных признаках "женскости"», обозначаемых «в аббревиатурных надписях «Ж» на дверях туалетов», обращается к Далю с Ушаковым и в конце концов заставляет Бенедиктова свидетельствовать за Пушкина:
И супругу стих поэта
Волен девой величать!
(с. 137–138)
(Надо сказать, что Нина в этом контексте – замужняя дама, а Онегин выступает в роли пятнадцатилетнего пажа из одноименного пушкинского стихотворения.)
Пушкин, следуя мифу Пеньковского, «с высшим мастерством детективиста уводит ее (Нину. – И. Б.) в глубину до-Татьяниного прошлого», разбрасывает «по всему тексту блескн и отблески ее красоты» (с. 250), этот Пушкин, кроме известной привычки все утаивать и прятать в ожидании очередного Пуаро от литературоведения, сам подвержен пресловутому сюжету «утаенной любви», и здесь мы уже удаляемся в область «народной пушкинистики», но нужно отдать должное автору книги о Нине: сделав героиней своего сюжета мифологическую Нину, он не увлекается перебором реально-биографических кандидатур. (Хотя ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы за всеми аббревиатурами онегинского «Альбома» увидеть все ту же единственную Нину.)
Обидно, что полезная и замечательно интересная работа по литературной антропонимии обратилась в детективные «страсти по Нине», толкающие автора на совершенно невероятные умозаключения, вроде того, что «Граф Нулин» и «Бал» вышли под одной обложкой потому, что оба автора «были жертвами одной общей для них Нины» (с. 342), и далее – в следующей фразе – «именно на этом языке – языке, внушенном Ниной, и написана вся XV строфа 3-й главы, рассказывающая о гибельной любви Татьяны». Ну и где имение, где наводнение, и которая из них… Татьяна, наконец?
Е. О. Опарина[451]451
Впервые: Социальные и гуманитарные науки. ИНИОН РАН. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6: Языкознание. Реферативный журнал. М., 2000. № 4. С. 157–162.
[Закрыть]
Монография состоит из двух частей: «Имена-маски лермонтовского „Маскарада“» и «Скрытый сюжет „Евгения Онегина“», объединенных общей исследовательской задачей – реконструкцией «мифа о Нине». Этот миф, сложившийся в русском культурном сознании в начале XIX в., является культурно-языковым комплексом, в котором соединены имя-знак, разработанный образ и сюжет жизни героини. Миф о Нине обнаруживает все признаки мифа нового времени: он был создан из текстов литературы, других произведений искусства и жизненных ситуаций, известных современникам, и стал частью коллективного сознания и моделью для восприятия текстов культуры и поведения. При этом миф о Нине не только шире одного текста, но, по мнению А. Б. Пеньковского, не имеет одного базового текста, хотя с определенными оговорками таким можно признать поэму Е. А. Баратынского «Бал». Реконструкция мифа потребовала не только изучения литературы, культуры и быта первой трети XIX в., но и исследования ключевых слов поэтического языка эпохи и образуемых ими фразеологизмов. Автор стремится восстановить их значения, соответствующие контекстам употребления, а также нормам поэтической речи и общим языковым нормам начала XIX в.
В центре первой части монографии – анализ антропонимического пространства драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Это понятие определяется как пространство, «образуемое совокупностью всех имен собственных и функционирующих как собственные нарицательных имен» (с. 31). Картой этого пространства является список действующих лиц, который адресован читателю-зрителю, информируя его о Времени и Месте действия, о Личностях и их Отношениях, о сюжетном Действии и о характере его соотношения с действительностью. Таким образом, список действующих лиц выступает как необходимый структурный компонент драматического текста, который вводит в него читателя. А. Б. Пеньковский устанавливает, что этот список в драме Лермонтова состоит из имен-масок и является одним из уровней Маскарада. Антропонимические маски драмы характеризуются признаками романтического гротеска: это не статуарные маски античности, выявляющие некую неизменную сущность типа, и не смеховые маски средневекового карнавала, но обманные маски-личины. К таким прежде всего относятся антропонимы «Князь Звездич» и «Баронесса Штраль», имеющие к тому же многоплановую структуру. Они имеют общую доантропонимическую семантику ("звезда" и нем. Stralil «луч» принадлежат к семантическому полю "свет"), акцентированную благодаря их соседству в списке. Через ядерную лексему поля «свет» обозначается "светское общество"; к тому же денотат данной лексемы – "яркий искусственный свет" («лжесвет») стал, как свидетельствуют тексты литературы и эпистолярного жанра первой трети XIX в., главным символом бально-маскарадного светского мира. В результате такой ассоциации слово «свет» оказывается в поэтическом сознании М. Ю. Лермонтова дискредитированным, как и ряд других лексем поля, таких как «блеск», «сияние» и их производные. Ср.: «Кипел, сиял уж в полном блеске бал; / Тут было все, что называют светом; / Не я ему названье это дал; / Хоть смысл глубокий есть в названье этом…» (М. Ю. Лермонтов, «Сказка для детей»), В результате возникают частые в текстах Лермонтова, как и у других поэтов пушкинского и лермонтовского круга, оксюморонные фразеологизмы, соединяющие концепт «света» с понятиями «мрак», "холод", «несвобода» и «смерть», продолжающие пушкинское «светская чернь». Например: «ледяной, беспощадный свет», «светские цепи», «пустыня света», «светская тина» (М. Ю. Лермонтов), «в мертвящем упоенье света» (А. С. Пушкин), «убийственный свет» (П. А. Вяземский), «царство мрачного света» (П. Я. Чаадаев), «гробовой хлад света» (Е. А. Баратынский), «в омуте большого света» (П. Бестужев), «в светскую жизнь, как в студеную воду» (А. К. Толстой).
Вместе с тем смысл "настоящий свет" выражается в поэтическом словаре Лермонтова лексемой «луч», содержание которой в лермонтовском идиолекте оказывается шире ее общеязыкового значения. Если словосочетания с лексемой «свет» создают интегральный образ "гибели, смерти", то «луч» образует антонимические пары с «мраком» и «тьмой»: «В час грешных дум, видений, тайн и дел, / Которых луч узреть бы не хотел, / А тьма укрыть…» Обычное отношение между «светом» и «лучом», воплощенное в словосочетании «луч света», оказывается в поэтическом языке Лермонтова перевернутым в «свет луча/лучей». Важным для миросозерцания Лермонтова с присущими ему космизмом и астральностъю является и концепт «звезда»: соответствующее слово также довольно частотно в его идиолекте.
Захват этих значимых для него слов-концептов «лжесветом» вызвал протест Лермонтова: он разными способами подчеркивает чуждость и ложность «световых» антропонимов «Маскарада». Имена «Штраль» и «Звездич» – иноязычные, хотя в то время и в реальной жизни, и в литературной практике существовало множество русских «световых» фамилий. М. Ю. Лермонтов также не воспользовался возможностью создать фамилии по сложившимся словообразовательным моделям, хотя языковые игры с фамильными именами были органической частью интеллектуальной жизни времени и давали возможность для выражения авторской интенции. Данные имена восходят к популярной в 30-е годы повести Марлинского «Испытание», близкой по сюжету к «Маскараду». В «Маскараде» эти имена к тому же травестированы в соответствии с правилами маскарадной костюмной травестии: имя «Звездич» передано от графини князю, а имя ротмистра Стрелинского – баронессе. Таким образом, эти имена представляют собой «взятые напрокат антропонимические маски» (с. 47), помеченные еще и как знаки «чужого» мира.
По отношению к главной героине драмы антропонимической маской является имя «Нина», воспринимавшееся в 30-е годы (время написания драмы) как часть мифа и знак определенного типа личности и определенной судьбы. Подлинное имя героини – «Настасья» – воспринималось в светском обществе как «сниженное», провинциальное и, подобно имени «Татьяна», находилось в контрасте с «Ниной».
Миф о Нине, который А. Б. Пеньковский считает частью петербургского мифа, имеет свою историю и источники. Данное имя впервые появляется в России в конце XVIII в. именно как условно-поэтическое, использовавшееся в салонной и альбомной поэзии с полунарицательным значением «юная дева», «милая», «возлюбленная». Одно из первых в этом ряду – стихотворение Г. Р. Державина «Нине» (1770). Имя «Нина» пришло из двух иноязычных источников – из Франции/Италии и из Грузии. Оно поддерживалось произведениями разных жанров литературы и искусства и историческими фактами. Так, в Европе была чрезвычайно популярна опера Н. д" Алсйрака «Nina, ou La folle per amour» («Нина, или Безумная от любви»), которую упоминает H. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника»; широко известным в России и в Европе было имя куртизанки XVII в., собеседницы Вольтера Нинон де Ланкло. В начале XIX в. в русской литературе как часть поэтики романтизма складывается специальный корпус романтических имен, но из их множества только «Нина» стало организующим центром мифа, поскольку обладало большой суггестивной силой благодаря множеству литературных, театральных и жизненных ассоциаций. Образ получил оформление в поэме Е. А. Баратынского «Бал» (1825–1828): «Нина» – «эталон» любовных страстей и страданий. Вокруг имени-мифологемы интегрируются в единую знаковую целостность все элементы мифа: концепция образа/личности, текстовый/жизненный сюжет (прекрасная женщина, живущая всепоглощающей страстью и пренебрегающая общественными нормами—» любовное безумие → опустошение → гибель с раскаянием или проклятиями), а также парадигма имен из разных культурных эпох и текстов. Инобытийные воплощения «Нины» – это Афродита (Венера/Киприда), Вавилонская блудница, Мессалина, гетера, вакханка, Магдалина и, конечно, Клеопатра (ср. в «Евгении Онегине» «…с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы…»).
Поэтическая лексика и фразеология, описывающие «Нину», выстраивают образ по принципу объединения полюсных характеристик, причем принадлежащих к тем же смысловым полям, что и бинарные оппозиций архетипов: "свет – тьма", "жар/пламень – холод/лед", "ангел – демон/вампир" (ср. выражение А. А. Ахматовой «вамп-Закревская»), "жизнь, любовь – смерть" как воплощение архетипической идеи единства Эроса и Танатоса. Например: «Что она? – Порыв, смятенье, / И холодность, и восторг, / И отпор, и увлеченье, / Смех и слезы, черт и бот, / Пыл полуденного лета, / Урагана красота…» (Д. Давыдов). Но это в поэтической фразеологии и «Жертва судьбы», «бедная Нина», подобно «бедной Лизе».
С позиции мифа о Нине переименование героини «Маскарада» является знаковым действием: «присвоив» жене это модное, но чужое ей светское имя, Арбенин сам увидел в ней мифологическую «Нину». Сам же «Маскарад» может интерпретироваться как произведение, занимающее особое положение в литературе золотого века: это метатекст о мифе, о его убийственной силе. Во второй части монографии «Скрытый сюжет "Евгения Онегина"» подчеркивается, что для понимания текста художественного произведения требуется прежде всего общность языка. Семантика и коннотации многих слов в поэтической речи Пушкина и его современников отличались от более поздних значений. К этому ряду принадлежат и многие ключевые для «онегинской сферы» слова с их фразеологизмами, такие как «тоска», «скука», «лень», «зевота». Исследование лексем этого ряда и их производных в контексте произведений Пушкина и других художественных и эпистолярных текстов его эпохи позволяет по-новому интерпретировать образ главного героя романа и многие эпизоды. Так, устанавливается, что слово «скука», являющееся одним из ключевых в «Евгении Онегине», имело широкий спектр значений, часть которых не включала в себя сему "праздность, безделье" и соотносилась с тягостным душевным чувством, состоянием уныния. В этом качестве лексема «скука» входила в один синонимичный ряд со словами «тоска», «грусть», «печаль», «уныние», «скорбь», «томление», а также «хандра», «сплин», «ипохондрия». Позднее в этот ряд вошли «депрессия», «ностальгия», «минор». Это значение выделено как второе в Словаре В. И. Даля. Такая семантика отображена во фразеологизмах «скука смертная», «невольная скука», в конструкции «скучно + без + род. п.» и «скучать + без + род. п.». Ср.: «…Скучно мне, / Все думы черные одне» («Боярин Орша», М. Ю. Лермонтов). Слово «тоска» является маркированным компонентом этого ряда по насыщенности коннотациями и экспрессивности. В произведениях А. С. Пушкина «тоска» – знак экстремальных жизненных ситуаций и переживаний, поэтому частотное соотношение обнаруживает резкое преобладание «скуки» и производных этой лексемы над «тоской» и словами ее гнезда. Характерна сочетаемость «тоски» в пушкинских текстах: «с тоской и ужасом», «сгорая негой и тоской», «в тоске безумных сожалений», «слова тоскующей любви» и др. Концепт «тоски» предполагает болезненную, но интенсивную душевную деятельность; он также предполагает наличие объекта или каузатора, на которых концентрируются эмоциональная и ментальная деятельность субъекта. Результатом «тоски» становится отстранение субъектом окружающего мира и, как следствие, «скука» и «лень». Поэтому данные лексемы в текстах Пушкина и его современников появляются как знаки «тоски», в том числе и "тайной тоски", и имеют соответствующие сочетаемость и контекстное окружение: «Что ж грудь моя полна / Тоской и скукой ненавистной?», «тоскующая лень» – характеристика состояния Онегина, также – «рассеянная лень» Татьяны после любовного разочарования; частым является соединение «лени» с «унынием» и «тоской»: «Уныние и лень / Меня сковали…»
В этой группе слов следует рассматривать и «зевать» / «зевота», так как данные лексемы в языке пушкинской эпохи обозначают не только физиологическое действие, но и эмоциональное и ментальное состояние, причиной которого предстает та же «тоска»: «томилась грустью и зевотой» (в «Руслане и Людмиле»), «Под этим уныньем с зевотой сердечной…» (П. А. Вяземский).
Исследование контекстов употребления слов данного синонимического ряда приводит А. Б. Пеньковского к выводу о том, что Онегин – «герой всепоглощающей Тоски», душа которого «…отнюдь не пуста… но опустошена» (с. 188). Анализ других элементов романа, в том числе системы антропонимов, заставляет предполагать присутствие в романе скрытого, но понятного современникам сюжета, «подключенного» к смысловому полю «мифа Нины». Этот сюжет состоит в страстной любви юного Онегина и последовавшем разрыве, объясняющих его «скуку», «хандру», «тоску» и «охлажденный ум», с которыми он введен автором– повествователем в роман. С другой стороны, концепт «тоски» оказывается тем психологическим явлением, которое связывает Онегина с родной русской почвой вопреки всем инокультурным наслоениям в его воспитании, облике и образе жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































