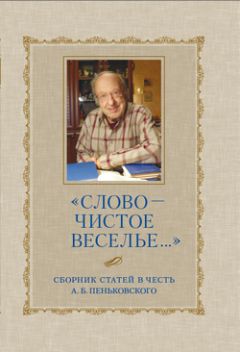
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 50 страниц)
Пушкин метрически организует также экспозиционные ремарки (метр присутствует в 14 из 23). Из 134 внутритекстовых ремарок не противоречат метрическому прочтению 82, из них почти половина – 37 – отчетливо ямбичны.
На границах стиха и прозы в 6 случаях из 8 можно говорить о плавном (то есть метрическом) перетекании одного типа речи в другой, что обеспечивается ямбической метризацией прозаического текста. Более того, вполне укладывается в общий метр драматургического целого и сам финал пьесы (Народ безмолвствует. Конец).
Вот несколько наиболее характерных примеров:[267]267
Подробнее см.: ОрліщкииЮ. Цит. соч. С. 442–454.
[Закрыть]
1. Ямбические строки, составленные из ремарок:
(Лях гордо смотрит на него и молча // отходит, все смеются).
2. Реплика плюс ремарка:
Вина еще (встает, за ним и все).
3. Строка из ремарки и ОДЛ:
Князь Воротынский (останавливая Шуйского);
Щелкалов (с красного крыльца)
4. Строка из диалога + ремарка:
Еще одно, последнее сказанье (пишет);
Григорий (пробуждается)
Все тот же сон! возможно ль? в третий раз.
Понятно, что в условиях регламентированной стопности дополнительные стопы, возникающие из-за включения в текст пьесы ремарок и ОДЛ, меняют стопность текста, создают эффект его вольности. Например, при чтении вслух диалога Марины и Самозванца перед нами две строки обычного пятистопного ямба:
И прошумел здесь ветерок. Царевич!
Она!.. Вся кровь во мне остановилась.
Однако читая пьесу с ремарками и ОДЛ, мы имеем более сложную стопную
структуру:
И прошумел здесь ветерок. Марина (входит.) Я б
Царевич! Самозванец. Я 3
Она!.. Вся кровь во мне остановилась. Я 5.
Примерно такое же наращение стопности наблюдается и в других случаях:
Как царский сын? не так ли? говори. Димитрий (гордо).
Тень Грозного меня усыновила;
Спокойна ночь. (Ложится,
кладет седло под голову и засыпает.) Пушкин.
Приятный сон, царевич!
(вместо: Спокойна ночь. Приятный сон, царевич! в сценическом варианте).
Кроме того, в БГ встречаются еще более сложные случаи: например, когда метрические ремарки и ОДЛ превращают в стих уже не вольный ямб, а полиметрическую композицию, состоящую из строк разных силлабо-тонических размеров; так, в следующем примере текст персонажей ямбичен, а авторский в основном написан контрастным с ним дактилем:
Державный труд ты будешь постигать. Я 5
(Входит Семен Годунов) Дак 3
Вот Годунов идет ко мне с докладом. Я 5
(Ксении) Дак 1
Душа моя, поди в свою светлицу; Я 5
Прости, мой друг. Утешь тебя Господь. Я 5
(Ксения с мамкою уходит.) Дак 3 с нарочитым сбоем
Что скажешь мне, Семен Никитич? Я 5
Можно сказать, что у Пушкина в БГ главная ритмическая функция ремарок и ОДЛ, встраивающихся в единое ямбическое движение пьесы, – наращение метра, создание разнообразия стиха. Как точно писал С. Шервинский, «творческий метод Пушкина-драматурга даже во вспомогательном аппарате оставался неизменно поэтическим».[268]268
Шервинскіш С. О наименовании действующих лиц в драмах Пушкина// ПАН СЛЯ. 1962. T. XXI. Вып. 4. С. 311.
[Закрыть]
Наконец, «Незнакомка» Блока – единственное из драматических произведений этого поэта, хотя бы в некоторой степени привязанное к русской почве. Как и другие его пьесы, она носит прозиметрический характер, то есть состоит из стихотворных и прозаических отрывков.[269]269
См.: Орліщкии Ю. Прозиметрия в драмах Блока // Шахматовский сборник. М., 2007 (в печати).
[Закрыть] При этом для H характерно количественное преобладание прозы: ею написаны первое видение целиком и третье за исключением одной реплики Поэта; второе – целиком стихотворное.
При этом стихотворная часть представляет собой сложную полиметрическую композицию с использованием различных силлабо-тонических размеров и типов тонического стиха, в большинстве своем – римфованного. В такой метрической обстановке метр как средство объединения стиха и прозы по сути утрачивает практический смысл. Однако в этой драме его особенно много в экспозиционных ремарках – как раз там, где автору необходимо разрушить прозаический монолит, для чего он и «прослаивает» его подобиями стихотворных строк.
Кроме того, в «Незнакомке» нами отмечено 23 случая «перетекания» метра из реплик в наименования субъектов речи и в ремарки: некоторые из них весьма выразительны:
Долго ждал я тебя на земле.
Незнакомка
Протекали столетья, как миги;
Я звездою в пространствах текла.
Голубой
Ты мерцала с твоей высоты;
Голубой
Больше взора поднять не могу;
Незнакомка
Ты можешь сказать мне земные слова?
Незнакомка
О чем ты поешь?
Голубой;
Незнакомка
Ты мертв или жив?
Голубой.
Видишь ты очи мои?
Голубой
Вижу. Как звезды – они.
Незнакомка;
Кровь молчалива моя.
Незнакомка
Ты знаешь вино?
Голубой (еще тише);
Кровь запевает во мне.
Тишина.
Незнакомка;
Как видим, практически все примеры в этой пьесе носят трехсложниковый характер. Очевидно, в определенной степени это обусловило и анапестическую форму наименования главных героев драмы: действительно, и сама Незнакомка, и Голубой, и Господин, и Звездочет – слова анапестические. Тут невозможно не вспомнить «ямбических» героев ГУ!
Таким образом, в «Незнакомке» функции метра несколько иные, чем в других рассмотренных нами драмах; прежде всего, это поддержание силлабо-тонического метра в условиях активной экспансии тоники. С этим обстоятельством связаны и особенности вовлечения ОДЛ и ремарок в общий стиховой поток пьесы.
В общем же, можно констатировать, что ни в одной из рассмотренных нами пьес так называемые вспомогательные элементы драматургической конструкции не оказываются безразличными к ритму и смыслу целого; напротив, они самым решительным образом участвуют в создании единого ритмического облика целого текста, тем самым участвуя и в формировании его смысла. Что, как нам кажется, лишний раз доказывает правоту утверждения, что в тексте нет и не может быть ничего лишнего, даже если тот или иной его элемент на первый взгляд представляется абсолютно случайным или чисто вспомогательным.
Эту истину А. Пеньковский блестяще доказал в своих последних работах о Пушкине;[270]270
Прежде всего, это касается блестящей книги: Пеньковский А. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 2003; см. также Пеньковский А. Загадки пушкинского текста и словаря. Опыт филологической герменевтики. М., 2005.
[Закрыть] мы только попытались продемонстрировать правоту этого общего положения на очень частном, но, как нам кажется, чрезвычайно важном для понимания текстовой специфики драматургии примере.
H. В. Дзуцева
«Да и отрывок ли это?»
(К проблеме «тайнописи» А. Ахматовой: пушкинский след)
Хорошо известно, что «тайна» относится к самым сложным семантическим образованиям художественного текста: несвязанность и нечеткость значения раздвигает концептосферу этого понятия до беспредельности, достигая бесконечной вариативности значений.[271]271
См. об этом: Осипова Н. О. Концепт «тайна» в поэтическом сознании первой трети XX века // Потаенная лит.: Исследования и материалы. Вып. 2. Иваново, 2000. С. 69–75.
[Закрыть] Углубление и усложнение метафизической сущности этого понятия, характерное для общей поэтической практики начала XX века, в поэзии Ахматовой наиболее проявлено, что придает смысловому полю этого феномена в ее сознании повышенную емкость.
«Тайнопись» А. Ахматовой отмечалась не раз,[272]272
В качестве опыта такого рода см.: ТішенчикР. О «библейской» тайнописи у Ахматовой // Звезда. 1995. № 10; ОсиповаН. О. Указ. соч. С. 74–75.Цивьян Т. В. Семиотические путешествия. СПб., 2001. С. 169–184; СероваМ. В. Анна Ахматова: Книга Судьбы (феномен «ахматовского текста»: проблема целостности и логика внутриструктурных взаимодействий). Ижевск; Екатеринбург, 2005. С. 19–60.
[Закрыть] что, однако, не восполняет отсутствия специального исследования, посвященного этой проблеме. Разнообразие наблюдений, сделанных в этом направлении, можно свести к факту повышенного внимания, которое уделяла Ахматова общекультурному концепту «тайна», придавая ему универсально-сакральный смысл и утверждая его необходимость не только в пространстве художественного текста, но и в «тексте жизни». Сама установка поэта на диалог с читателем, по ее убеждению, предполагала «тайну» и в воспринимающем сознании – «А каждый читатель, как тайна…» Между тем, судя по некоторым кратким, но емким репликам Ахматовой о «тайнах ремесла», она, несомненно, ведала, что «тайна творческого начала (…) есть проблема трансцендентная», что «творческая личность – это загадка, к которой можно, правда, приискивать отгадку при посредстве разных способов, но всегда безуспешно».[273]273
Юнг К. Г. Психология и поэтическое творчество НЮнг К. Г. Дух Меркурий. М., 1996. С. 273.
[Закрыть]
В этом контексте «тайна» на языке Ахматовой – знак высшей ценности сакрального знания, которым осенено поэтическое слово. Это прежде всего проблема его вы/появления из лона закрытой для обыденного сознания духовной реальности, в которой оно пребывает. В связи с этим «тайна» и связанные с этим понятием скрытые смыслы и подтексты художественного ряда в целостном корпусе ахматовского творчества в силу интенсивного их использования, ассоциативной глубины и разветвленности обретают статус неканонизированной поэтики, что, собственно, и составляет загадку ахматовской «тайнописи».
Насколько важным для Ахматовой в этом плане оказался феномен пушкинской поэзии, ставшей, как известно, одной из характерных установок формирования ахматовского стиля, писалось еще в начале 20-х годов. Содержательно-глубинный пласт этого процесса наиболее значительно и подробно раскрыт В. В. Мусатовым, уделившим особое внимание сознательной «оглядке» Ахматовой на тайны творческой личности Пушкина.[274]274
Мусатов В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. М., 1998. С. 350–372.
[Закрыть] Однако при глубоком проникновении исследователя в суть обозначенной проблемы остался не затронутым один из важных ее аспектов, связанный с жанрово-стилевыми особенностями ахматовской «тайнописи». Кроме того, отстаиваемое В. В. Мусатовым в ряде работ утверждение о том, что Ахматова противопоставила «безудержному философско-критическому эссеизму принципиально иной стиль, основанный исключительно на логике факта и мысли»,[275]275
Мусатов В. Пушкинские штудии Анны Ахматовой // Альманах библиофила. Вып. 23: Венок Пушкину (1837–1987). М… 1987. С. 179.
[Закрыть] нуждается, на наш взгляд, в некоторых оговорках.
Дело в том, что наряду с прозорливой точностью ахматовских наблюдений, вошедших на законных основаниях в основной состав отечественной пушкинистики, нельзя не заметить практики высокого мифотворчества в восприятии и трактовке Ахматовой пушкинского гения. Подобная установка характерна и для других представителей русской культуры как противостояние заданным схемам культурной политики государственного официоза, использующего творчество поэта в целях «советизации» классического наследия. Кроме того, разраставшееся среди читающей публики на протяжении XIX–XX века культовое отношение к Пушкину, замыкавшееся главным образом на популярных стереотипах,[276]276
«Канонический подход к образу Пушкина в популярной поэзии, беллетристике и биографической литературе породил ряд формул, главными из которых являются заговор против него в самых высших сферах великосветского общества, его алая кровь, разбрызганная по белому снегу, и его дух, пребывающий с его народом» (Дебрецени П. Житие Александра Болдинского: канонизация Пушкина в советской культуре // Русская литература ХХ века. Исследования американских ученых. СПб., 1993. С. 278).
[Закрыть] неизбежно размывало сложность его художественной личности, – ведь «чем общедоступнее образ поэта, тем он беднее и схематичнее, тем меньше он похож на сложную и противоречивую полноту исторического подлинника».[277]277
Гаспаров М. Л. Поэзия Катулла // Гай Валерий Катулл Веронский. Книга стихотворений. М., 1986. С. 155.
[Закрыть]
Процесс вульгаризации Пушкина, вторжение в пушкинистику элементов массовой культуры и так называемого «народного», а также «занимательного» пушкиноведения – явление, в сущности, неизбежное,[278]278
См. об этом: Зорин А. Пушкинский миф в конце ХХ века. Челябинск. 2001; Бем А. Культ Пушкина и «колеблющиеся треножники» // Образ совершенства. М., 1999.
[Закрыть] и наверное, здесь мало что может изменить попытка создать своего рода анти-миф, утверждая мысль о фатальной закрытости для понимания пушкинского феномена.[279]279
Ср. непримиримую реплику М. Л. Гаспарова: «…душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки» (Гаспаров М. Записи и выписки. М., 2001. С. 112).
[Закрыть] Поскольку «общенациональная редукция важнейшей части пушкинского наследия – лирики – отражает действие одного из важнейших механизмов функционирования классики – интегративной оптимизации», то основная парадигма восприятия Пушкина, как показывают специальные исследования, сводится к поиску «светлого начала», что «оказывается потребностью и определенным сценарием общенационального восприятия (…) в результате чего как релевантно значимые в общем «коде» поэта остаются именно «позитивные» тексты».[280]280
Загидуллина М. В. «Формула» Пушкина // Пушкин на пороге XXI века: провинциальный контекст. Вып. 7. Арзамас, 2005. С. 99.
[Закрыть] Все это не могло не провоцировать со стороны «высокой» культуры противостояние расхожей мифологии и культивирование другого, «высокого» мифа о Поэте, в котором актуализировались ценностно-элитарные реалии духовного облика Пушкина в противовес хрестоматийным характеристикам, низведенным до вкусов читательской массы.
К Ахматовой все это имеет непосредственное отношение. Пушкин осваивался и усваивался ею прежде всего в противостоянии утвердившемуся общепринятому мнению о «солнечной ясности», «простоте» и «доступности» пушкинского гения. Не скрывая полемического настроя по отношению к многочисленным популяризаторам пушкинского наследия, она не без вызова утверждает: «А тайнопись у Пушкина была. Не знаю, довольно ли сказано в науке о величайшем поэте XIX века (во всяком случае) про эту его особенность и так ли легко довести эту мысль до рядового читателя, воспитанного на ходячих фразах о ясности, прозрачности и простоте Пушкина».[281]281
Герштейн Э. Проза Ахматовой // Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 369.
[Закрыть]
Собственно, «пушкинские штудии» Ахматовой вряд ли обращены к «рядовому читателю»: многое в них принадлежит, по словам Э. Гернштейн, выразившей общенаучную точку зрения, «к первоклассным образцам советской пушкинианы».[282]282
Кертман Л. Безмерность и гармония (Пушкин в творческом сознании Анны Ахматовой и Марины Цветаевой) // Вопр. литературы. 2005. Июль—Август. С. 270.
[Закрыть] И в то же время, наряду с изумительной точностью исследовательских открытий, Ахматова, как и другие, писавшие о Пушкине с той или иной степенью обостренного ощущения «подлинника», «читала» Пушкина во многом через собственный творческий строй, – «себя, как в зеркале, я вижу…», – через свою сложившуюся, но в целом оставшуюся неотрефлектированной поэтологию. Результаты этого процесса в известной мере сказались не только в оформлении особого поэтического языка, отмеченного пушкинской установкой на поэтику «тайнописи», как ее понимала Ахматова, но и в полемически смелом перенесении законов собственной поэтики на феномен пушкинского метатекста. Таким образом, несмотря на то, что Ахматова, «в отличие от Марины Цветаевой, никогда впрямую не сопрягала свой жизненный опыт с пушкинским»,[283]283
Кертман Л. Безмерность и гармония (Пушкин в творческом сознании Анны Ахматовой и Марины Цветаевой) // Вопр. литературы. 2005. Июль—Август. С. 270.
[Закрыть] она выстраивала своего рода авторский миф, «узнавая» принципы своего творческого «метода» (слово Ахматовой) – «Ничего не сказано в лоб» (III, 238) – в структурах пушкинской художественной речи, в «методе» пушкинского письма. Возможно, именно это обстоятельство способствовало обогащению отечественной пушкинистики «чрезвычайно интересными наблюдениями»,[284]284
Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974. С. 113.
[Закрыть] явившимися результатом проницательной мысли Ахматовой.
Исследование этого феномена предполагает разные стратегические установки, среди которых обращение к «пушкинским штудиям» Ахматовой, как справедливо считает В. В. Мусатов, играет первостепенную роль. Известно, какой значительности исполнен факт нетрадиционного вхождения Ахматовой в пушкинский мир: глубинное восприятие творческой личности Пушкина определило не только тонкое понимание Ахматовой внутренних коллизий пушкинского метатекста, но и непредсказуемые, неожиданно смелые их трактовки.
О все возрастающей свободе толкования пушкинских произведений среди прочего говорил еще Владислав Ходасевич в своей знаменитой пушкинской речи, опубликованной в 1922 году под названием «Колеблемый треножник». Пушкинское наследие, по мнению поэта, все более становилось предметом произвольных гипотез и раскованных суждений, что провоцировало «неожиданность суждений, высказываемых о Пушкине»[285]285
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996–1997. С. 79.
[Закрыть] Ахматова, как известно, занимала в этом отношении принципиальную позицию, резко протестуя против вольного обращения с личностью и творчеством Пушкина. Тем не менее и она не избежала «неожиданности суждений» относительно любимого ею поэта. Прежде всего это касается незавершенных прозаических набросков Пушкина, оставшихся в его рукописях, – к ним было приковано особое внимание Ахматовой. Е. Добин вспоминает, как «однажды в разговоре Анна Андреевна высказала парадоксальную, но интереснейшую мысль: по ее мнению, известные прозаические отрывки Пушкина («Гости съезжались на дачу», «Наденька», «В начале 1812 года» и другие) – вовсе не отрывки, а законченные произведения. В них Пушкин высказал все, что хотел».[286]286
Добин Е. Сюжет и действительность. Л., 1981. С. 60.
[Закрыть]
Действительно, Ахматова настойчиво отстаивала мысль о законченности некоторых из этих набросков. Анализируя пушкинский отрывок «Мы проводили вечер…», она писала: «Да и отрывок ли это? Все, в сущности, сказано. (…) Представьте себе все это в стихах или в драматической форме, и вам не придет в голову ждать продолжения. Его просто не может быть» (VI, 202). Очевидно, что Ахматова здесь говорит о сознательно выстроенной форме, незавершенность которой является художественным приемом.[287]287
С. Г. Бочаров склонен разделять ахматовскую позицию, указывая на прозаический набросок Пушкина «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе» (ок. 1833), который «производит вполне законченное впечатление, наподобие поздних пушкинских стихотворений, также кончающихся многоточиями, в которых „незавершенность“ является признаком их структуры» (Бочаров С. Б. Поэтика Пушкина. С. 114).
[Закрыть] «Головокружительный лаконизм здесь доведен до того, что совершенно завершенную трагедию более ста лет считали не то рамочкой, не то черновичком, не то обрывком чего-то, – замечает она. – "Мы проводили. – не отрывок. Там сказано все, что хотел сказать автор» (VI, 203). Таким образом, Ахматова видит в незаконченных набросках «совершенно законченные и глубоко продуманные произведения» с излюбленным пушкинским способом сюжетостроения, когда явленное содержание, по ее словам, «подразумевает очень большую предысторию, которая, благодаря чудесному умению автора, умещается в нескольких строках, там и сям вкрапленных в текст» (VI, 118).
Неожиданность этого утверждения действительно может показаться парадоксальной, однако в контексте ахматовского художественного мира оно имеет свое обоснование. Конечно же, Ахматова открывала в Пушкине ту креативную логику, которая составляла особенность ее собственного поэтического опыта, вобравшего в себя почти вековую историю русской лирики и выходящего к Пушкину на новом историческом и эстетическом уровне. С первых же шагов в поэзии Ахматова обнаруживает особый вкус к той самой манере, которая выражает себя в «головокружительном лаконизме», постепенно превращая эту манеру в стиль. Словно «pro domo mea», звучит приводимое ею характерное пушкинское высказывание: «…Я ив Вальтер Скотте нахожу лишние страницы» (VI, 118).
Конечно, трудно говорить здесь о намеренно осуществляемой творческой стратегии: специфика поэтического языка Ахматовой, обусловленная природой ее дара, отвечала тем требованиям «новой русской лирики», которые объективно свидетельствовали об усложнившемся мире человека XX века. Актуализация творческой установки на передачу подсознательных процессов, на воспроизведение «внутренней речи», звучащей как бы поверх слов (вневербальный способ коммуникации), – характерная примета духовно-эстетических исканий эпохи.[288]288
В сущности, до сих пор не проясненным остается значительный пласт поэтики Ахматовой, обусловленный имплицитным усвоением той линии символистской культуры, которая связана с семантикой молчания, безмолвия, немоты, неизреченности – тем, что А. Ханзен-Лёве назвал «антикоммуникативным дискурсом в символизме» (Ханзен-Лёве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов: ранний символизм. СПб., 1999. С. 168).
[Закрыть] В середине 20-х годов об этом писал выдающийся филолог Б. А. Ларин, наблюдая и обобщая в своих «семантических этюдах» процессы трансформации художественной речи. Среди прочего, он признавал то ее качество, когда «внезапная недоговоренность» может быть принята «как догмат поэтического лаконизма».[289]289
Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя: Избранные статьи. Л., 1974. С. 67.
[Закрыть]
Это значит, что индивидуальный ахматовский почерк, становление которого заставило исследователей говорить об «ахматовском каноне» (Б. Эйхенбаум),[290]290
По словам В. Жирмунского, это «лишь внешняя оболочка ее поэтического дарования» (Жирмунский В. Вопросы теории литературы. Л., 1928. С. 322).
[Закрыть] скрывал в своей глубине процессы, во многом трансформировавшие природу лирического высказывания. Ю. Тынянов, исследовавший картину художественно– речевой культуры в поэзии XIX века, выразился о них так: «глубокое влияние стилевых элементов на жанр», «средства стиля стали жанрообразующими».[291]291
Тынянов Ю. Пушкин и Тютчев // Тынянов Ю. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 188.
[Закрыть] Именно так в лирике Ахматовой вырабатывалось новое жанровое образование – фрагментарная лирическая конструкция с присущими ей обрывочностью, безначалием, пропуском текстовых единиц, ставшая одним из структурных элементов «поэтики тайны» с ее системой умолчаний, недосказанностей, намеков и иносказаний.[292]292
Подробнее об этом см.: Дзуцева Н. В. Время заветов: Проблемы эстетики и поэтики постсимволизма. Иваново. 1999. С. 68–79.
[Закрыть] То, что Ахматова вначале бессознательно, но чем далее, тем с большей уверенностью шла, как она понимала, по пушкинскому следу, подтверждают исследования, раскрывающие недосказанность и умолчание как один из основополагающих принципов пушкинской поэтики. Так, В. В. Виноградов раскрывает «механизм» пушкинской повествовательной прозы следующим образом: «Смысловая связь держится не на непосредственно очевидном логическом соотношении сменяющих друг друга предложений, а на искомых, подразумеваемых звеньях, которые устранены повествователем, но лишь благодаря которым стало возможным присоединение».[293]293
Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 234, 233. На подтекстовых смыслах и глубинных ассоциативных связях с пушкинским мета– текстом строит свое исследование «потаенного» слоя романного повествования в «Евгении Онегине» А. Б. Пеньковский (Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы. М., 2003). См. также в связи с этим: Вершинина Н. Л. «Фигура умолчания» в поэме «Бахчисарайский фонтан» // Болдинские чтения. Н. Новгород, 2003. С. 19–32.
[Закрыть] То же свойство своего поэтического языка Ахматова эксплицирует в «пушкинских штудиях», откровенно стремясь утвердить статус пушкинской «тайнописи» как выражение, по ее мнению, «неизвестного нам Пушкина», подчеркивая заглавной буквой сакральный смысл сказанного о любимом поэте: «А он не мог без Тайны, она одна влекла его неудержимо» (VI, 164).
Сказанное о Пушкине, конечно, сказано прежде всего о себе. Мы опять же имеем дело с «узнаванием» в творческой личности Пушкина своей творческой природы, что выражает искреннюю и глубокую убежденность Ахматовой в общности их духовного и поэтического истока. Нетрудно убедиться, что в этом контексте пушкинские незавершенные отрывки открывались Ахматовой с иной стороны, – как фрагмент некоего «целого», пребывающего только в творческом сознании автора. Это, конечно, не означает авторского «всеведения», – выстроенной, но скрытой от читателя сюжетики, обдуманных характеров и т. д., – то есть всего того, что
Пушкин якобы сознательно не пустил в текст. Речь о другом: Ахматова тонко почувствовала, что непроявленность «целого» предельно нагнетает семантику присутствия некоей «тайны», завораживающей и интригующей читателя. Тайнопись Пушкина, считает она, – это не просто сокрытие тех или иных реалий биографии или непроявленность адресата конкретного поэтического высказывания. Это внутреннее, глубинное свойство пушкинской художественной речи, которое Ахматова соотносила с собственным способом «жить стихом», в художественном слове, создавая хрупкий, мерцающий амбивалентными коннотациями и неожиданными оксюморонами художественный контакт между предельной достоверностью словесной фактуры и зыбкой многозначностью «за» и «под» текстовых смыслов. Характерна в этом смысле ее реакция на хорошо известный текст пушкинского стихотворения «Когда порой воспоминанье»: «В этом отрывке таинственно решительно все…» (VI, 187).
Природу пушкинской «тайнописи» Ахматова пристально исследует в поздний период своей долгой творческой жизни, предельно актуализируя в своем поэтическом творчестве поэтику шифрового кода, «симпатических чернил», «зеркального письма» («Реквием», «Поэма без героя», поздние лирические циклы). Однако «тайнопись», о которой так много говорится в связи с поэтикой «поздней» Ахматовой, формируется уже в ее первых сборниках, и прежде всего как жанровая специфика фрагмента. Начиная с «Вечера», Ахматова разрабатывает фрагментарную поэтику, придавая лирической миниатюре характер обрывочности, безначалия и отсутствия логической завершенности. Уже Н. Недоброво в своей знаменитой статье 1915 года, посвященной «Четкам», обратил внимание на «безразличное отношение Ахматовой к внешним поэтическим канонам», подчеркивая, что при всей чуткости к поэтической традиции она не пишет в канонических строфах.[294]294
Недоброво H. Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. № 7. С. 58.
[Закрыть] Строфика Ахматовой, размывающая традиционно-жанровую ориентацию лирики (к тому времени, впрочем, давно утратившую верность каноническим стереотипам), действительно отличалась непосредственной свежестью и свободой, и внешне это виделось как «преодоление символизма» новой школой, как общеакмеистическое неприятие теургической претенциозности символистов. Критика 10-х годов тотчас же уловила в ахматовской лирической манере «непоследовательность восприятия» и «разорванность впечатлений».[295]295
Чудовский В. По поводу стихов Анны Ахматовой // Аполлон. 1912. № 5. С. 46.
[Закрыть] Ахматовское сознание, отличающееся, по словам Д. Выгодского, своеобразным «отрывочным» мировосприятием и исключительной остротой переживаний, настолько своеобразно, что «линия жизни не существует в своей целостности, а рассыпается в тонкий пунктир, в ряд определенных мгновений».[296]296
Цит. по: Бюллетени литературы и жизни. 1918. Кн. 9. С. 40.
[Закрыть] В тесном пространстве лирической миниатюры сильнее и выразительнее выступила эта особая природа ахматовского поэтического высказывания, его напряженная артикуляция, что позволило Б. Эйхенбауму заключить: «Ахматова утвердила малую форму, сообщая ей интенсивность выражения».[297]297
Эйхенбаум Б. Анна Ахматова: Опыт анализа // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 89.
[Закрыть]
Однако поэтика «отрывочности», «разорванности» несла в себе, как оказалось, не только стилевой, но и жанрообразующий элемент, который как бы размыкает замкнутую структуру «мига», переходя в «открытую конструкцию» (Ю. Тынянов). Красноречиво свидетельствуют об этом привнесенные Ахматовой позднее в состав «Вечера», восстановленные по памяти стихотворения «Из первой (Киевской) тетради», которые настойчиво воспроизводят подчеркнутое безначалие или открытость финала («Подушка уже горяча…», «И как будто по ошибке я сказала "ты"…», «И когда друг друга проклинали…»). В связи с этим важно вспомнить, что в ранней рецензии на книгу стихов Н. Львовой молодая Ахматова как бы между прочим сделала одно чрезвычайно важное замечание: по ее словам, пристрастие к канонам формы, ко всему, что «связывает свободное развитие лирического чувства», что «заставляет предугадывать дальнейшее там, где должна быть одна неожиданность», очень опасно для молодого поэта (V, 257).
В «Четках» фрагментарная форма обретает новое дыхание и силу, сокращая пространство лирического стихотворения до предела и обретая обостренно– нервный, эмоционально напряженный затекстовый фон. Говоря словами ахматовских «пушкинских штудий», «все уже случилось где-то там, за границами данного произведения…» (VI, 118–119):
Простишь ли мне эти ноябрьские дни?
В каналах приневских дрожат огни.
Трагической осени скудны убранства.
(I, 138)
Хрупкая соотнесенность точного поэтического слова и подтекстовой глубины придает ахматовскому фрагменту повышенную смысловую тяжесть, указывающую на присутствие в нем непроявленного содержания, что опрокидывает традиционный лирический психологизм. Фрагментарная форма у Ахматовой обретает статус той жанровой структуры, в которой, по словам В. Ходасевича, «содержание всегда шире и глубже слов».[298]298
Ходасевич В. [Рец. на кн. А. Ахматовой «Четки»] // Новь. 1914. № 69. С. 6.
[Закрыть] Знаки отрывочности, безначалия и отсутствия ожидаемого финала становятся семантически значимыми и оказываются включенными в художественное пространство, становясь определенной единицей текста. Стихотворение представляет, таким образом, проявленную часть непроявленного целого, всегда «помнящую» об этой целостности, пребывающей в пространстве «тайны». Фрагментарная поэтика в силу самой своей специфики обеспечивает ту таинственную недоговоренность, которая провоцирует ощущение «тайны» в самых разных ее модификациях, начиная, по словам Ахматовой, от «первого слоя, который поэты скрывают почти что от себя самих» (VI, 154), от «темных пятен» личностно– биографического характера («…Я его приняла случайно / За того, кто дарован тайной…») до ее онтологического масштаба – Тайны как «тайны тайн» («…Иль тайна тайн во мне опять…»). В границах ахматовского метатекста просматривается, таким образом, своеобразная полисемантическая поэтика «тайнописи», осененная дыханием «Тайны», по-пушкински «влекущей неудержимо», то более, то менее отдаленной от автора и читателя, но одинаково волнующей, гипнотизирующей, мистифицирующей, предельно напрягающей как авторское сознание, так и читательское восприятие. Вся система намеков, недоговоренностей, «эмоциональных эвфемизмов» (В. Виноградов), отсылая в под/за/текстовое пространство, делала лирическую миниатюру Ахматовой, по выражению В. М. Жирмунского, «фрагментом более обширного целого, читателю не известного».[299]299
Жирмунский В. Творчество А. Ахматовой. Л., 1973. С. 103.
[Закрыть] В пушкинских отрывках Ахматова, таким образом, как бы канонизировала эту жанровую новизну, ставшую своеобразным эпицентром ее художественной системы, поэтому и утверждала с безоглядной уверенностью: «Пушкин не решился или не успел представить их как вещи нового жанра».[300]300
Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. Т. 2. М… 1986. С. 159.
[Закрыть]
Получается, что за Пушкина это делала она.
Надо ли прояснять теперь кажущуюся на первый взгляд странной оброненную Ахматовой фразу: «Начинать совершенно все равно с чего: с середины, с конца или с начала» (V, 162)? Внутреннее осознание законченности незаконченного, самодостаточности отрывочного, завершенности фрагментарного формировало особый, ахматовский принцип целостности произведения. Между прочим, В. Шкловский как-то заметил, что целостность – это не обязательно законченность, это «нахождение метода высказывания».[301]301
Шкловский В. Письма к Е. С. Левину // Искусство кино. 1992. № 10. С. 11.
[Закрыть] Таким образом, целостность художественного текста для Ахматовой – это свобода от рамок канона, нарушение привычного, неожиданность несовпадения с ожидаемым, – именно этому ее «учили» пушкинские «отрывки» с их, по ее мнению, «смелостью и даже дерзостью композиции» (VI, 202). Подтверждение своих интуиций она могла слышать в одном из «заветов» И. Анненского: «Мы инстинктивно уклоняемся от всего законченного, застывшего, общепризнанного, официального».[302]302
АнненскийII. Книги отражений. М., 1979. С. 398.
[Закрыть] И надо ли говорить, как, должно быть, ей были близки и понятны слова О. Мандельштама из его статьи «Петр Чаадаев»: «О наследство мыслителя! Драгоценные клочки! Фрагменты, которые обрываются как раз там, где больше всего хочется продолжения, грандиозные вступления, о которых не знаешь (…) Напрасно добросовестный исследователь вздыхает об утраченном, о недостающих звеньях: их и не было, они никогда не выпадали».[303]303
Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М… 1990. С. 153.
[Закрыть]
Ахматова остро чувствовала преимущества жанрово-стилевой свободы, которую как бы санкционировала фрагментарная поэтика и которую она впоследствии «узнает» в пушкинских отрывках. Считая их «совершенно законченными и глубоко продуманными произведениями» (VI, 208) и декларируя их мнимую, по ее мнению, незаконченность как становление новой жанровой формы, Ахматова интуитивно как бы воскрешала «память жанра», которую хранил в себе фрагмент как одно из основополагающих установлений философской эстетики немецкого романтизма. Известно, что Ф. Шлегель и Новалис развивали мысль об универсальности фрагментарного мышления в искусстве, утверждая, что «фрагментхранит в себе стремление к целостности, к охвату мира во всех его связях» и «его отрывочность, незавершенность – это своеобразные координаты, указывающие на бесконечное движение и беспредельность художественной мысли, художественного познания».[304]304
Грешных В. II. Ранний немецкий романтизм: Фрагментарный стиль мышления. Л., 1991. С. 22.
[Закрыть] Ахматовой не потребовалась теория ранних немецких романтиков: ее гениальная поэтическая интуиция, избирая фрагментарный тип лирического высказывания, угадывала все эти смыслы. Более того, утверждая их в пушкинских отрывках, Ахматова культивировала один из главных принципов своей эстетики, развивая на протяжении всей своей творческой жизни жанровую модель фрагмента с его поэтикой «тайнописи». В поздний период, когда семантика «тайны» сознательно нагнетается Ахматовой, фрагменты, сжимаясь до нескольких строк, собираются в микроциклы, поэтика и стилистика которых использует принцип разорванности как циклообразующий («Вереница четверостиший», «Черепки», «Песенки»),
Если говорить об эволюции фрагментарной формы в творчестве Ахматовой, то нельзя не заметить функционально разные типы «тайнописи» – от «жанрово– семантического шифра, инспирированного цензурными факторами»,[305]305
См. об этом: Кихней Л. К проблеме жанра и жанрового канона в поэзии А. Ахматовой // Шестое чувство: Памяти Павла Вячеславовича Куприяновского: Сб. науч. ст. и мат-лов. Иваново, 2003. С. 90–98.
[Закрыть] до «открытых структур» с их «темным» языком запредельного, когда, по словам собеседника и исследователя Ахматовой В. Виленкина, тайна, изначально присущая, по убеждению Ахматовой, настоящим стихам, «остается почти недоступной, слишком глубоко скрытой или наглухо зашифрованной».[306]306
Виленкин В. В сто первом зеркале. М., 1987. С. 241.
[Закрыть] При этом, однако, важно помнить, что фрагмент в ахматовском творчестве имеет скрытый, потенциально действенный эпико-трагедийный импульс, и В. Мусатов прав, утверждая, что «ахматовская лирика, начавшись как «малая форма», «фрагмент», выявляла монументальное, величественное начало».[307]307
Мусатов В. В. История русской литературы первой половины XX века (советский период). М.: Высшая школа, 2001. С. 119.
[Закрыть]
Актуализация Ахматовой фрагментарной поэтики, начиная с 1940 года, когда «недосказанность становится не только ее принципом, но и одной из тем»,[308]308
Тименчик Р. Анна Ахматова: 1922–1966 // Ахматова А. После всего. М., 1989. С. 9, 12.
[Закрыть] выдвигает на первый план уже не просто знаки фрагментарного письма, но и, как справедливо отмечает О. Симченко, приметы «целого романа о драматических взаимоотношениях автора и его творения, развязкой которого становится вывод о том, что поэзия есть тайна, принципиально не поддающаяся разгадке».[309]309
Симченко О. «Память» как лейтмотив творчества А. Ахматовой: (Многообразие идейно– художественных поисков): Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1985. С. 13.
[Закрыть] Подтекстовый слой лирического высказывания обретает метафизический статус, «динамика неназванного» (Л Гинзбург) расширяется и становится фактом табуированной реальности: произведение как бы пишет само себя, и роль автора тяготеет к «медиальной», обращенной к тому метасодержанию, которое в ахматовском сознании выступает как «бездна». В отличие от стертой символистской метафоры, это чисто ахматовское обозначение бесконечности и безначальности бытийной реальности, чужеродной слову, которая тем не менее им затребована. Семантика тайны, влекущая и пугающая одновременно, составляет особый смысл истины, открывающейся творческому духу: творческое сознание приковано к этой «бездне» как к «тайне тайн». «Бездна», таким образом, – та зона безмолвия, где пребывают смыслы, добываемые поэтом на путях устанавливаемого с ней диалога. Эта зона – последнее устремление творческого искуса: спасительное, так как воплощается в слове, и в то же время гибельное, так как «бездна» может безвозвратно поглотить потерявшее ощущение «края» творческое «я»: «…Видят все, по какому краю / Лунатически я ступаю…» Ахматова написала об этом так, что сомнений в трагической окраске этого диалога не остается:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































