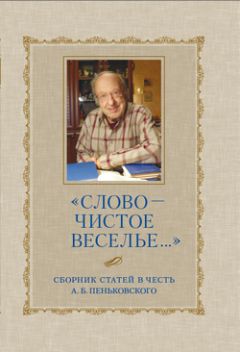
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 50 страниц)
Заключим наш экскурс взглядом на одну из пластических особенностей дюреровской фигуры. Героиня «Меланхолии» сидит, подперев голову сжатой в кулак рукой. Это традиционный, как было отмечено, жест задумчивости. Рассматривая то новое, что внес художник в осмысление и решение своей темы, Ц. Г. Нессельштраус вместе с тем связывала некоторые из форм его пластики с изобразительными традициями средневековой графики, и в частности с той наивной гравюрой XV в., которая представляла аллегории четырех темпераментов и поэтическую подпись к которой мы цитировали. «Дюрер мало заимствовал из этих старых гравюр, – писала исследовательница. – Он сохраняет лишь традиционный жест, обычно сопутствующий мрачному раздумью, – подпирающую голову руку. Сохраняет он также и праздность, как черту, присущую меланхолии…».[251]251
Нессельштраус Ц. Альбрехт Дюрер. 1471–1528. С. 148.
[Закрыть]
Справедливость этих суждений не подлежит сомнению, с тем лишь оттенком, что черта праздности, безусловно, характеризует позу героини Дюрера, но не может быть отнесена к ее лицу. Что же касается подпирающей голову руки, то значение этого жеста проясняет дополнительная параллель. В ватиканской фреске Рафаэля «Афинская школа» («La scuola d’Atene». 1509–1511), законченной на три года ранее «Меланхолии» Дюрера, именно это положение определяет фигуру Гераклита, образу которого Рафаэль придал, как известно, портретное сходство с Микеланджело. Жест меланхолика, это еще и жест философа и художника.
О. В. Евдокимова
О целостности искусства: Н. С. ЛЕСКОВ и Б. М. Кустодиев. введение в тему
На факт родственности литературного творчества Н. С. Лескова и живописи Б. М. Кустодиева историки литературы и культуры обращали внимание не раз. Исходя из наглядного сходства творческих мотивов писателя и художника, известный коллекционер и издатель Ф. Ф. Нотгафт, в частности, побудил Кустодиева создать цикл графических иллюстраций к рассказу Лескова «Штопальщик». Над этой серией рисунков тушью Кустодиев работал в 1922 году, в этом же году иллюстрированное издание рассказа было выпущено в свет издательством «Аквилон». В 1923 году художник заканчивает иллюстрировать – в аналогичной технике – другое лесковское произведение – очерк «Леди Макбет Мценского уезда». В 1925–1926 годах он работает над декорациями, эскизами костюмов, реквизитом к спектаклям «Блоха» (МХТ-2; Большой драматический театр в Ленинграде) по пьесе Е. Замятина, в основу которой был положен сказ Лескова «Левша».
Этот большой лесковско-кустодиевский творческий комплекс пока не описан ни в целом, ни в пределах его отдельных слагаемых. Не вполне или не всегда ясно, например, какие сюжетные линии, эпизоды, персонажи, мотивы произведений Лескова выбраны Кустодиевым для иллюстрирования. Нет типологии иллюстраций. Говоря обобщенно, не изучена поэтика лесковско-кустодиевского текста, хотя есть ощущение его осуществившегося бытия в культуре.
Понятие «лесковско-кустодиевский текст», конечно, достаточно проблематично. При более широком взгляде на творчество Лескова и Кустодиева объем понятия едва ли можно будет ограничить лишь прямыми отражениями одного в другом. Устанавливая границы предмета, необходимо обратиться к творческим наследствам писателя и художника в их полноте. Но еще, может быть, более важной задачей в данном случае является установление оснований поэтики лесковско– кустодиевского теста.
Одним из таких оснований будет, бесспорно, образно-тематическая «каноничность». В дневниках биографа Кустодиева В. В. Воинова содержится характерная запись: «Б. М. показывал мне два альбома своих рисунков. Там есть проект картины: купец в шубе и шапке на фоне вывески. В ней, по моему замечанию, есть что-то от иконы. "Да, именно так, – подхватил Кустодиев, – купец этот уже ушел, его нет, но он как бы канонизирован, он уже вылитый образ, и нужна какая-то икона, канон этого быта и этого купца в частности[252]252
Встречи и беседы с Кустодиевым (Из дневников Вс. Воинова. 1921–1927) // Кустодиев Б. М.Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. (Из дневников Вс. Воинова). Воспоминания о художнике. Л., 1967. С. 208.
[Закрыть]»
Не лишено значения, что слово «канон» в этом высказывании художника поставлено в один ряд с такими словами, как «икона», «вылитый образ», «быт», «купец», «вывеска». Ряд соединяет «икону» с «бытом», религиозно-художественный канон с повседневным обиходом, в конечном счете – сакральное с обыденным. Подобного рода сближения противоположностей, между тем, – характерная, художественно значимая и индивидуальная особенность творчества Лескова. В ракурсах этой поэтики изображается, к примеру, один из эпизодических персонажей маленького рассказа писателя «Штопальщик», прославленного иллюстрациями Кустодиева. «Я природный, коренной москвич, из беднейшего звания, – повествует герой рассказа. – Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древ– лестепенных староверов продавал. Отличный был старичок, как святой, – весь седенький, будто подлинялый зайчик, а все до самой смерти своими трудами питался: купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошевке, а сам поет ласково: "Стелечки, стелечки, кому надо стелечки?" Так, бывало, по всей Москве ходит, и на один грош у него всего товару, а кормится».[253]253
Лесков Н. С. Штопальщик // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 7. С. 96–97. В дальнейшем сочинения Н. С. Лескова цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте статьи.
[Закрыть]
«Каноничность» и у Кустодиева, и у Лескова определяется непосредственным чувством традиции и традиционного, в том числе традиционного в человеке, а равно и точкой зрения, удаляющей изображаемое в прошлое, в лабиринты памяти, воображения, отчасти иллюзии. И писатель, и художник, следует вспомнить, носили титул «бытописателей». Но относительно Лескова этот титул плохо согласовывался с такими формульными характеристиками, как «изограф», «вычурный», «эссенциальный». Кустодиев же не однажды утверждал, что он не пишет с натуры, что та жизнь, которая зрителю и критику кажется «действительной», существовала только в воображении художника: «Заговорили о натурализме. "Меня называют «натуралистом», – сказал Кустодиев, – какая глупость! Ведь мои картины сплошная иллюзия! Что такое картина вообще? Это – чудо! Это не более как холст и комбинация положенных на него красок. В сущности – ничего нет!"».[254]254
Встречи и беседы с Кустодиевым (Из дневников Вс. Воинова. 1921–1927). С. 264.
[Закрыть]
Углубление в тему «каноничности» неизбежно ставит нас перед вопросом о том, как, посредством каких художественных средств Лесков и Кустодиев добивались эффекта натуральности своих образов, впечатления «действительно бывшего», сопровождающего восприятие их произведений, шире – о принципах взаимосвязей реальности и условности.
Позволительно предположить, что в случае ответа на поставленные вопросы мы сможем более аргументированно интерпретировать лесковско-кустодиевский текст в свете таких понятий, как «стиль» или «стилизация».
Говоря об иллюстрациях Кустодиева к очерку Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», Б. М. Эйхенбаум еще в 1930-м году задумался над вопросом о том, к кому, к писателю или художнику, отнести наименование «стилизатора», а к кому – «стилиста». В предисловии к изданию лесковского произведения ученый писал: «Естественно, что именно «лубочные» черты "Леди Макбет" привлекли внимание покойного Кустодиева, как родственный его художественным тенденциям материал. Своими иллюстрациями Кустодиев ярко подчеркнул именно эти элементы очерка, сделав их еще более выпуклыми и прояснив их жанровое значение. Очерк Лескова, на самом деле несколько разностильный, местами неуравновешенный, мозаичный и стилистически противоречивый, приобретает в интерпретации Кустодиева устойчивость единого и крепкого стиля, явно близкого к лубочному примитиву».[255]255
Эйхенбаум Б. М. Предисловие // ЛесковН. С. Леди Макбет Мценского уезда. Л., 1930. С. 8.
[Закрыть] На первый взгляд, все в этих выводах Б. М. Эйхенбаума прозрачно: стилизатор – Лесков, обладатель стиля – Кустодиев. Но, во-первых, в процессе аналитического всматривания обнаруживается стилистическая противоречивость и иллюстраций художника. Оба мастера оказались подвержены воздействию «литературных» (классических) традиций и сочетали их с тяготением к искусству примитива. Во– вторых, представление Эйхенбаума, усмотревшего в иллюстрациях Кустодиева «устойчивость единого и крепкого стиля, явно близкого к лубочному примитиву», определенно требует разъяснения, если вспомнить о сложной взаимосвязи своего и чужого, «прямого», авторского, и условного в стилизации. Иначе говоря, не ясно, что же создал Кустодиев – «новый лубок» или стиль, пока не имеющий названия.
Размышления Эйхенбаума подчеркнули парадоксальный культурный феномен: единство стиля у Кустодиева образуется на путях стилизации. Об этом же феномене писал русский религиозный философ Вл. Ильин в работе «Стиль и стилизация» (раздел «Лесков»), отмечая, что есть эпохи, в которые «искание подлинного стиля и высококачественная стилизация (курсив автора. – О. Е) часто идут рука об руку».[256]256
Ильин Вл. Стиль и стилизация. I. Лесков // Ильин Вл. Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 145.
[Закрыть]
Лесковско-кустодиевский текст в его своеобразии, а равно описание поэтики этого текста создают возможность установить приемы, формирующие стиль на путях стилизации.
Еще один культурный феномен – рассказывание – оказывается в центре внимания при обращении к лесковско-кустодиевскому тексту. В данном случае актуальны не только соотношения рассказа и изображения, литературности и рассказывания, но и, более широко, диалектика формы и смысла.
Кустодиев не соглашался с критическим мнением, согласно которому его произведения сюжетны, литературны, настаивал на том, что у него преобладает рассказ. «Рассказ Б. М. понимает, – писал Вс. Воинов, – очень широко и глубоко.
Рассказ – это то, что чувствует художник, рассказывать можно каждым мазком, каждой формой, рисунком. Рассказ в понимании Бориса Михайловича граничит с моим пониманием "композиции[257]257
Встречи и беседы с Кустодиевым (Из дневников Вс. Воинова. 1921–1927). С. 238.
[Закрыть]»
Искусство рассказывания в произведениях Лескова тоже воплощается прежде всего в композиционной структуре рассказа, в приемах повествовательных построений.
Лесков и Кустодиев в равной мере боялись теоретиков, не любили теории, исходили из представлений о том, что искусство едино и не делится на частности направлений; их достаточно трудно и охарактеризовать в границах художественных направлений. Лесков стоит близко и к психологическим, и к этнографическим исканиям русского реализма, не чужд и традициям русского общественного романа, но он неопределим в категориях этих литературных уклонов и тенденций. Кустодиева также невозможно назвать ни неореалистом, ни неопередвижником, ни эстетом, несмотря на известную близость к эстетическим принципам, лежавшим в программных основаниях объединения художников «Мир искусства». Художник и писатель обладали той степенью исключительности, которая позволяла им быть включенными во множественные культурные ряды и оставаться при этом явлениями из ряда вон выходящими.
* * *
Именно особая степень исключительности творческих индивидуальностей Лескова и Кустодиева в моменты их совпадений делает очевидным феномен целостности искусства. Это с достаточной очевидностью обнаруживает один уникальный историко-культурный факт.
В 1927 году из печати вышел сборник статей, носящий название «Блоха. Игра в 4 д. Евг. Замятина». Заглавие издания в соотнесении с его жанровым определением ориентирует ожидания читателя по крайней мере в двух направлениях. Первое: создатели сборника филологически и критически описывают творческую историю пьесы «Блоха». Второе: авторы статей продолжают играть в когда-то начатую творческую игру, результатом ее и становится новое произведение – сборник статей «Блоха. Игра в 4 д. Евг. Замятина».
Авторы, поименованные на титульном листе непосредственно после жанрового определения – «сборник статей» – это: писатель Е. Замятин, ученый– литературовед Б. Эйхенбаум, режиссер Н. Монахов, художник Б. Кустодиев, а также А. Лейферт, введенный в число авторов сборника в статусе «сына антрепренера, содержащего один из лучших балаганных театров».[258]258
Блоха. Игра в 4 д. Евг. Замятина. Л., 1927. С. 23. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в тексте статьи.
[Закрыть]
Пишущие о «Блохе» представляют разные области культуры: литературу, живопись, театр, литературоведческую науку, мемуаристику, т. е. воспоминания очевидца о бывшем – распространеннейшую форму словесной культуры. Одно явление искусства – «Блоха» – описывается, таким образом, с участием точек зрения писателя, ученого, художника, театрального режиссера, частного лица, живущего в культурном мире.
Познакомившись с заглавием книги, определением жанра, составом авторов и перелистывая страницы сборника, читатель в еще большей степени сможет убедиться в том, что перед ним культурный факт, свидетельствующий о синкретичности культуры. Словесные тексты здесь – своего рода элементы художественной композиции Кустодиева; слово включено в изобразительное пространство живописца.
Наряду с обложкой (афиша спектакля «Блоха»), заставкой к статье Замятина (изображение лесковско-замятинской Тулы), орнаментальными обрамлениями страниц, финальным, замыкающим сборник изображением блохи, пляшущей в паре с царем, в книге есть три портрета ее авторов. Сопровождают словесные тексты портреты Замятина, Монахова и Кустодиева (автопортрет). Нет портретов Эйхенбаума и Лейферта. Персоналистичность искусства (литературы, театра, живописи) подчеркнута здесь наличием и особенностями портретов. Статья, например, Н. Монахова называется «Мысли режиссера», но в тексте ее скорее есть отказ от изложения мыслей, чем их развитие: «Мысли свои о постановке «Блохи» я постарался выразить в самой постановке. Думается, что спектакль и есть подлинный язык режиссера» (с. 16). Портрет Монахова, сопутствующий статье, – портрет конкретного человека, но и образ режиссера, создавшего для зрителя «народный театр». Изображение-портрет образно расширяет границы словесного текста и делает для читателя «мысль» о «народном театре» не только развитой, но и зримо воплощенной: вот этот режиссер, поставив «Блоху», осуществлял творческий замысел «народного театра». В изобразительной композиции Кустодиева оказывается образно персонализирована идея нового искусства.
На уровне словесного текста программная тема сборника заявлена в первой из его статей – «Народный театр», принадлежащей перу Е. Замятина, автора пьесы «Блоха». Народный театр, с точки зрения писателя, – это не темы, а форма обработки тем: «Нужно другое: руду народного театра пропустить через машину профессиональной обработки, нужно отсеять весь налипший в царской казарме, в кабаке мусор, нужно использовать не темы, а формы и методы народного театра, спаяв их с новым сюжетом» (с. 9).
Замятин возводит «Блоху» к «бродячему народному сказу о туляках и блохе», к «рассказу» Н. С. Лескова «Левша», представляющему собой, с иллюзорной точки зрения писателя XX века, «литературную обработку народного сказа» (с. 10), к условным формам народного театра («театру Петрушки», «раешнику», к итальянской импровизационной комедии.
Мысль о наследовании Лесковым форм народного творчества подхвачена и Б. Эйхенбаумом в его статье «Лесков и литературное народничество». Ученый ведет речь о формах «изысканного "лубка"», о «скрещениях «высокой» литературы с лубком» (с. 13). Эйхенбаум, так же как и Замятин, считает, что Лесков обработал «бродячий сюжет», который понравился классику XIX века «своими лубочно– языковыми чертами» (с. 14). От Лескова через Ремизова, по мысли исследователя русской литературы, «линия литературного народничества дошла до Е. Замятина. Лубочный набросок Лескова развернулся в народную комедию большого стиля» (с. 15).
Удивительно, что ни Замятин, ни Эйхенбаум не берут во внимание тот факт, что сказ Лескова – не обработка рассказа «одного рабочего Сестрорецкого оружейного завода» (с. 14), а произведение полностью сочиненное. Левша, по словам Лескова, – лицо «выдуманное» (XI, 219). Об этом автор сказа сообщил в литературном объяснении, напечатанном в газете «Новое время» в 1882 году. Толчком к созданию сказа, что явствует из объяснения писателя, послужила не легенда, не сюжет, а «коротенькая шутка или прибаутка, вроде "немецкой обезьяны", которую "немец выдумал", да она садиться не могла (все прыгала), а московский меховщик "взял да ей хвост пришил (курсив Н. С. Лескова. – О. Е.)) – она и села"» (XI, 220).
Источником сказа о Левше явилась типологически сходная словесная формула – «англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали» (XI, 219), – речение, запечатлевшее точку зрения русских на русских.
Б. Кустодиев в своей статье-письме «Как я работал над Блохой» говорит об этой же особой точке зрения как главном приеме, посредством которого он создал свою изобразительную версию сказа Лескова «Левша» – эскизы декораций, реквизита к петербургскому и московскому спектаклям «Блохи». Кустодиев понял, что существо приема у Лескова состоит не в «обработке» форм народного творчества (лубок, раешник), а в нахождении точки зрения, того фокуса персонально-образного взгляда, с помощью которого художник мог быть творчески тождественным изображаемому предмету: «Все происходит как бы в балагане, изображенном на лубочной народной картинке; все яркое, пестрое, ситцевое, «Тульское»: и «Питер», и сама «Тула», и «Англия» (…) красный кумач, синий ситец с белым горошком (он же снег), платки с алыми цветами – вот мой фон, на котором движется пестрая вереница баб, англичан, мужиков, гармонистов, девок, генералов, с глуповатым царем на придачу» (с. 20) (курсив наш. – О. Е.).
Эйхенбаум во многом движим идеей создания новой теории и истории искусства, Замятин и Монахов – идеями нового искусства. Кустодиев, идущий за Лесковым, ведет речь прежде всего о том, как он строит образ, именно поэтому от воспринимающего он ждет «эстетической радости», если воспользоваться формулой M. М. Бахтина. «От тебя, дорогой зритель, – пишет художник в финале своей статьи-письма, – требуется только смотреть на все это, посмеяться над приключениями Левши, полюбить его – и унести с собою веселое и светлое настроение празднично проведенного вечера» (с. 20).
И Лесков, и Кустодиев демонстрируют, что образ всегда вне любого ряда, говоря в терминологии онтологической герменевтики Бахтина, «образ феноменален», «всегда соотнесен с целым», «выпадает как кусочек другого мира, лежащий в других измерениях».[259]259
Бахтин M. М. О спиритуалах (К проблеме Достоевского) // Бахтин M. М. Собр. соч.: В 7 т. М., 2002. Т. 6. С. 369.
[Закрыть]
Созданная многими авторами книга «Блоха. Игра в 4 д. Евг. Замятина», подтверждающая мысль о синкретичности культуры, заключает в себе момент совпадения Лескова и Кустодиева, говорящий о целостности искусства.
Ю. Б. Орлицкий
Ритмические и смысловые функции «служебных» компонентов драматургического текста («Горе от ума», «Борис Годунов», «Незнакомка»)
Драматургический текст, как известно, всегда существует в двух вариантах: как написанная драматургом пьеса (в этом смысле перед нами – письменное литературное произведение, оцениваемое по соответствующим законам) и как разыгрываемое на сцене театра представление (сценическая производная пьесы, ее устная игровая фиксация). Совершенно очевидно, что пьеса как таковая включает намного больше различных по своей природе текстовых элементов, чем об этом могут знать присутствующие на спектакле зрители. Утрачиваясь (точнее, трансформируясь во внетекстовую часть синтетического действа) при постановке в театре, в пьесе эта часть текстовой реальности прочитывается в полном соответствии с авторским замыслом и поэтому должна становиться объектом научного изучения, прежде всего – филологического.
Начнем с того, что, по меткому замечанию Дагласа Клэйтона, авторское слово в драматическом тексте непосредственно выражается только в авторских ремарках и в заглавии пьесы; по сути дела, о том же пишет в своем «Словаре театра» П. Пави, утверждая, что «субъект автора… можно уловить только в сценических указаниях, хоре или тексте резонера».[260]260
Клейтон Д. «Дядя Ваня» А. П. Чехова: к проблеме авторского слова и многоголосья в заглавии //Поэтика заглавия. М.; Тверь, 2005. С. 285; Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 3.
[Закрыть] Чтобы быть более точным, добавим к этому еще два тесно взаимосвязанных текстовых проявления автора: список действующих лиц (СДЛ) (по мнению того же Пави, «часто это первое слово драматурга…»[261]261
Пави П. Там же. С. 327.
[Закрыть]) и собственно их называние, обозначение как субъектов речи по ходу действия пьесы (ОДЛ).
По поводу смысловой значимости перечня как такового, а также способа называния героев и соотношения как самого СДЛ, так и конкретных именований героев в нем и непосредственно в тексте убедительно писал на материале «Маскарада» А. Пеньковский.[262]262
См.: Пеньковский А. Список действующих лиц // Пеньковский А. Нина. Культурный миф золотоговека русской литературы в лингвистическом освещении. М., 2003. С. 38–40.
[Закрыть] О ремарке, особенно после пионерной статьи С. Кржижановского,[263]263
Кржижановский С. Театральная ремарка Н Кржижановский С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. СПб.: 2006. С. 89—109; следует назвать также интересную статью С. Шервинского «Ремарки в „Борисе Годунове“ Пушкина» (ИАН СЛЯ. T. XXX. 1974. Вып. 1. С. 62–71).
[Закрыть] писалось неоднократно; но и здесь необходимо назвать в первую очередь работу А. Пеньковского и Б. Шварцкопфа «Типы и терминология ремарок»,[264]264
Пеньковский А., Шварцкопф Б. Типы и терминология ремарок // Культура речи на сцене и на экране. М. 1986. С. 150–170.
[Закрыть] в которой, однако, подвергались анализу только прозаические произведения. А вот значимость именований персонажей по ходу действия, кажется, еще не привлекала исследовательского внимания. Между тем этот компонент драматургического текста тоже оказывается самым непосредственным образом вовлечен как в ритмическое, так и в смысловое развертывание текстового целого пьесы.
При этом он, так же как ремарки, абсолютно «не виден» зрителю спектакля; наоборот, при чтении пьесы «про себя» глазами или вслух одним чтецом ОДЛ оказываются принципиально важным компонентом текста. При этом по степени «видимости» зрителю он отличается также от заглавия и СДЛ, которые обычно печатаются на афишах и в программках спектакля, то есть вполне доступны прочтению зрителя спектакля. Наряду с ремарками, ОДЛ по ходу пьесы можно назвать теми компонентами текста, которые отличают текст пьесы от текста спектакля.
В стихотворных пьесах с помощью ОДЛ прежде всего нарушается стихотворный размер; они перебивают ровное течение александрийца или ямба – так и хочется сказать, прозой, однако тут встает еще один вопрос – о реальной ритмической природе ОДЛ. Как правило, это сверхкраткие отрезки речи – так называемые удетероны, т. е. не стих и не проза.[265]265
Орлицкий Ю. Стих и проза в русской литературе. М., 2002. С. 563 и далее.
[Закрыть] Более того, потенциально они ближе к стиху, т. к. обычно одно– (реже – двух-) словны, а значит, могут быть рассмотрены как фрагмент потенциальной стихотворной строки.
Особый статус ОДЛ, также связывающих их скорее со стихотворной, нежели с прозаической речью, связан с отсутствием при этом компоненте текста обычных знаков препинания. Кроме того, ОДЛ обычно выделяются из общего текста шрифтом (разрядкой, курсивом или полужирным или комбинацией этих способов выделения) и располагаются в особой фиксированной позиции: или в центре страницы над текстом реплик, или с ее левого края; при этом ОДЛ нередко тем или иным способом объединяются с ремарками. Все это позволяет говорить о строгой формальной регламентации употребления ОДЛ в драматургическом тексте.
Рассмотрим, какие же ритмические и смысловые функции выполняют авторские ремарки и ОДЛ в трех выдающихся произведениях русской классической драматургии, написанных к тому же великими национальными поэтами: «Горе от ума» Грибоедова (далее – ГУ), «Борисе Годунове» Пушкина (БГ) и «Незнакомке» Блока – произведениях, созданных в разные годы и в принципиально различных драматургических жанрах.
Частотный словарь ГУ А. Корольковой[266]266
Королькова А. Алфавитно-частотный и частотный словари комедии А. С. Грибоедова «Горе о ума». Смоленск, 1996.
[Закрыть] учитывает, наряду с репликами, ремарки и СДЛ, но почему-то опускает ОДЛ. А между тем таким образом из анализа автоматически исключается такой существенный показатель, как количество реплик, отведенных автором тому или иному герою; учитывать его, как нам представляется, следовало хотя бы в отдельной рубрике.
Тем более что у Грибоедова, как и у многих других авторов русских стихотворных пьес, имена героев непосредственно участвуют в метрическом движении текста пьесы. Вот статистика частотности имен героев-мужчин:

Однако в словаре не учтены, как уже говорилось, ОДЛ; здесь разница показателей очень значительна:

Таким образом, с учетом количества «озаглавленных» именем героев реплик значимость постоянно произносящего монологи и реплики в диалогах с разными персонажами Чацкого оказывается в два раза больше, чем значимость Молчалина, вполне, кстати, подтверждающего «говорящий» характер своей фамилии. В то же время по количеству упоминаний в тексте пьесы эти герои значительно менее отличаются друг от друга, что вполне соответствует важности их роли в действии пьесы и – главное – их репутации в глазах других героев.
Интересно также сопоставить СДЛ и основной текст ГУ. Часть персонажей, названных в списке, нигде более в пьесе не появляется; другие представлены в СДЛ и непосредственно в тексте совершенно по-разному, сокращению при этом подвергаются не только обозначения их статуса (в первую очередь – титулы), но и имена.
Как известно, каждое слово (в том числе и имя) может быть интерпретировано как стопа или группа слов; соответственно, все обозначения героев в СДЛ можно интерпретировать как принадлежащие к тому или иному метру, в который они «укладываются». Как известно, именования героев в СДЛ и ОДЛ обычно различаются: в списке они даются в полной форме, в обозначениях сокращаются до одного-двух слов. Точно так же и упоминаемые в репликах обозначения и прямые обращения обычно отличаются от данных в СДЛ: это или одни имена, или полные трехсловные именования в редуцирующей гласные устной форме (например, Андреич вместо Андреевич и т. п.), что дает чаще всего вполне метричные варианты: (Александр Андреич Чацкий – четырехстопный хорей, Сергей Сергеич Скалозуб и Антон Антоныч Загорецкий – четырехстопный ямб; Наталья Дмитриевна, Платон Михайлович, Графиня-бабушка и Графиня-внучка (при этом то, что они Хрюмины, мы знаем только из СДЛ) – двухстопный ямб.
Редуцированное имя «Александр Андреич Чацкий» (четырехстопный хорей) «вписано» в четырех– и пятистопные ямбические реплики персонажей ГУ семь раз:
Лиза
Как Александр Андреич Чацкий!
Слуга
К вам Александр Андреич Чацкий.
Фамусов
А! Александр Андреич, просим,
Фамусов
Эх! Александр Андреич, дурно, брат!
София
Ах, Александр Андреич, вот —
Лиза
И Александр Андреич, – с ним
Наталья Дмитриевна
Ах! Александр Андреич, вы ли?
Сергей Сергеич Скалозуб «метризуется» (с аналогичным упрощением) тоже семь раз, и причем всегда – в речи «приваживающего» его Фамусова:
Сергей Сергеич, к нам сюда-с.
Сергей Сергеич дорогой!
Сергей Сергеич, это вы ли!
Сергей Сергеич, я пойду
И буду ждать вас в кабинете.
Где Скалозуб Сергей Сергеич? а?
Нет, кажется, что нет. – Он человек заметный —
Сергей Сергеич Скалозуб.
Фамусов
Сергей Сергеич, запоздали;
Фамусов
Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы, да сжечь.
«Алексей Степанович Молчалин (пятистопный хорей. – Ю. О.), секретарь Фамусова, живущий у него в доме», как этот герой представлен в СДЛ, в ОДЛ обычно называется просто – Молчалин (ямб или амфибрахий). При этом и обращаются к нему, и называют его по имени и отчеству хореически:
Лизанька
Вы глухи? – Алексей Степаныч!
Лиза
К вам Алексей Степаныч будет.
Чацкий
Нам, Алексей Степаныч, с вами
Не удалось сказать двух слов.
Надо сказать, что подобная метризация вообще характерна для полных трехсо– ставных русских имен, и в этом смысле наименования главных героев ГУ ничего экстраординарного собой не представляют. Интереснее обстоит дело с краткими, односложными обозначениями (именами или фамилиями) персонажей комедии. Они в пьесе обычно «хореические» (то есть начинающиеся с ударного слога, за которым следует безударный; при этом трехсложные слова могут интерпретироваться двояко: как хорей с дактилическим окончанием или как дактиль). Такие имена носят Фамусов, Софья, Лиза, Чацкий. «Ямбическое» (или амфибрахическое) имя носит Молчалин; «анапестическое» (или хореическое с пиррихием на первой стопе, однако такая интерпретация является все-таки натяжкой; в данном случае метрическая амбивалентность слова носит, скорее, чисто теоретический характер) – Скалозуб. Уже само это именное противопоставление двух потенциальных Софьиных женихов ее «семье» в широком смысле слова – явление безусловно значимое (хотя, скорее всего, не осознававшееся самим автором). Характерно, что именования героинь в СДЛ тоже имеют хореическую природу (Софья Павловна и Лизанька).
Однако наибольший интерес метрическая природа имен представляет для нас потому, что благодаря ей они срастаются с репликами и ремарками в единые метрические цепочки. Как показывает материал, ямбические ОДЛ чаще других объединяются с репликами, выступая как метрические проклитики перед ямбическими же репликами, например:
Наталья Дмитриевна
И знаю наперед;
Наталья Дмитриевна
Вот мой Платон Михайлыч;
Платон Михайлович
Здорово, Чацкий, брат.
Точно так же ямбические имена могут энклитически «достраивать» строку дополнительными стопами:
На что меняться мне?
Графиня-внучка;
Я говорила с ним.
Графиня-внучка.
Наконец, возможен и третий вариант, когда имя «встраивается» в ямбическую строку между двумя репликами:
Я говорила с ним.
Графиня-внучка
Что?;
У вас?
Молчалин
Два-с.
Понятно, что в условиях вольного ямба, где стопная длина строки ничем не лимитирована, ямбические имена до, после и между реплик не нарушают общий метрический рисунок текста.
Соответственно, хореические имена не нарушают метра, оказываясь в позиции энклитики после женского окончания:
Ах! Чацкий, я вам очень рада.
Чацкий;
Где ж лучше?
Чацкий
Где нас нет.
Последний пример особенно показателен: занимая ровно одну хореическую стопу, имя героя «достраивает» клау зулу предыдущей строки до ямба и, соответственно, наращивает на нее объем строки при чтении фрагмента с ОДЛ; соответственно, на сцене он звучит как строка трехстопного ямба, а с ОДЛ – четырехстопного.
То же происходит и в следующем отрывке, где имя героя строку четырехстопного ямба переводит в пятистопный:
Играет…
Чацкий
Целый день играет!
Некоторые хореические энклитики образуют при этом очень выразительные псевдостроки, иногда – с отчетливым призвуком обращения или для подчеркивания общности точки зрения разных персонажей:
Желал бы с ним убиться…
Лиза
Для компаньи?;
Пожаловал к вам кто-то на дом.
Фамусов;
К вам человек с докладом.
Фамусов;
И в воздух чепчики бросали!
Фамусов;
Она мертва со страху!
Скалозуб;
Князь Федор, мой племянник.
Скалозуб
Мы с ним… у нас… одни и те же вкусы.
Загорецкий.
Иногда цепочки реплик и имен могут быть достаточно протяженными:
Давно ли?
Чацкий
Нынче лишь…
Наталья Дмитриевна
Надолго?
Чацкий
Интересно, что сплошной ямб реплик и ОДЛ отличается здесь от метра звучащих реплик: вместо одной строки в спектакле, в пьесе образуется целых две; вот для сравнения звучащий вариант:
Давно ли?
Нынче лишь…
Надолго?
Как случится.
В 32 случаях в метрические цепи в ГУ попадают также авторские ремарки, например:
(ей вслед вполголоса) Проклятый сон;
Быть взрослой дочери отцом! Уходит;
Я правду всю тебе открою.
Уходит в боковую дверь.
(В дверях.) Как хороша! Уходит.
Наконец, возможны также сочетания, когда цепи включают все три типа драматургической речи: реплики, ремарки и ОДЛ, вместе образующие ямбические цепи: в ГУ их 13.
Спасибо, мой дружок. (Встает.) Молчалин;
Садись-ка, объяви скорей. (Садятся) Чацкий
(рассеянно);
Платон Михайлович (со вздохом)
Эх! братец! славное тогда житье-то было;
Звала Молчалина, вот комната его.
Лакей его (с крыльца) Каре…
Прощайте. Скалозуб (жметруку
Молчалину)
БГ, в отличие от ГУ, написан не вольным, а упорядоченным пятистопным ямбом, к тому же чередующимся с прозой (прозиметрическая композиция), тоже пронизанной ямбическими метрами (всего в прозаических монологах этой пьесы нами обнаружено 102 условные ямбические строки, то есть около трети прозаического текста пьесы построено по ямбической схеме чередования сильных и слабых слогов).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































