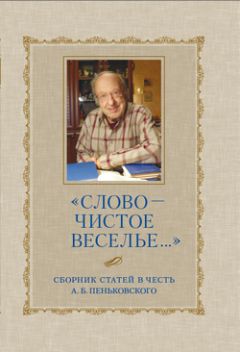
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 50 страниц)
К. И. Шарафадина
«Маскарад» и «Евгений Онегин» в лингвокультурологическом прочтении[454]454
Впервые: Русская литература. 2001. № 2. С. 211–214.
[Закрыть]
Работа А. Б. Пеньковского, в заглавие которой автор поместил несколько загадочную формулировку ее исследовательской интриги, претендуя на добавление в арсенал культурных мифов золотого века русской литературы еще одного, им замеченного и извлеченного из бытовой и эстетической реальности, трудно поддается привычной жанровой аттестации. Дело в том, что она предлагает «филологу-специалисту и любому читателю» опыт перечитывания классических произведений – «Маскарада» и «Евгения Онегина», основным инструментом которого становится кропотливое восстановление культурно-языковой реальности, синхронной эпохе их создания. Будущий читатель этой весомой – во всех смыслах этого слова – научной работы должен быть готов ко всем плюсам и минусам такого не просто медленного, но медлящего вчитывания. Автор-лингвокультуролог привлекает в свои соавторы универсальный «словарь» эпохи: данным из области языка и литературы аккомпанирует россыпь сведений из сфер культуры, быта, этикета, порой весьма специфических и колоритных, и, как правило, не учтенных существующими комментариями, а добытых самим автором, умело вслушивающимся (здесь уместно именно это слово, так как А. Б. Пеньковский обладает даром слышать слово и выявлять его смысловые интерференции даже тогда, когда они проявляются в микронных долях) в разнообразные источники.
Сразу отметим, забегая несколько вперед, что бесспорные по убедительности и аргументированности результаты достигнуты исследователем в самой близкой ему профессионально сфере лингвистических реконструкций. Несомненной удачей исследования стало как раз то, что сам автор мыслил как его попутно-технологические, прикладные задачи, так как на результатах предпринятого им лингвокультурологического анализа, как на фундаменте, он предпочел выстроить гипотезу о репрезентативном, по его мнению, для русской культуры золотого века мифе, который он предлагает обозначить как «миф Нины».
Отметим самые, на наш взгляд, поучительные случаи восстановления утраченных словарных и коннотативных значений слов пушкинской эпохи, которые станут, как нам представляется, своего рода открытием. Автор снабжает нас яркими примерами, которые убедительно свидетельствуют: зачастую мы и не подозреваем о неточности, неполноте, превратности толкования тех или иных понятий и встающих за ними реалий (а в иных случаях речь идет уже и об искажении или извращении смысла), так как исходим из ставшего аксиоматичным представления о тождественности языка Пушкина современному русскому языку. А. Б. Пеньковский исходит из принципиально иного представления, как он признается, складывавшегося и углублявшегося с годами: «Тот язык, на котором думал, говорил и писал Пушкин, – это язык, во многом близкий к современному, очень на него похожий, но в то же время глубоко от него отличный. (…) речь идет именно о сущностных отличиях в сфере (…) значений, замаскированных (…) обманчивым тождеством» (с. 472). Как бы ни неожиданно звучало это заявление, стоит к нему прислушаться хотя бы в той его части, которая говорит об обманчивом тождестве: не счесть, сколько в последние годы издательской вседозволенности появилось околонаучных сообщений «из Пушкина», построенных именно на превратно понятых словах и встающих за ними понятиях, суждениях, идеях…
Рецензируемая книга совсем иного рода. Все ее принципиальные лингвокуль– турологические обобщения и выводы базируются на скрупулезном отборе, сопоставлении и «экспертизе» фактов, извлеченных автором из мозаично-пестрой культурной картины эпохи.
А. Б. Пеньковскому удалось прояснить, а зачастую и раскрыть подлинные значения некоторых понятий и лермонтовской драмы (в частности, концептов света), но в особенности ключевых слов пушкинского романа в стихах, отвечающих языковым нормам эпохи или нормам авторской поэтической речи. Это такие слова– темы, как страсти и антипоэтический, старина и преданье, сказка и дева, досада и желчь, повесть и др.
Отдельного одобрения заслуживает предпринятое автором на страницах книги специальное исследование (ему отведена целая глава «Хандра – о скуке, тоске, зевоте и лени…», с. 165–238) лексических единиц тематической группы скука, имеющих в романе, как оказалось, «аномально высокую частоту». Автор, привлекая и дополняя источники, выявляет, что в литературном языке пушкинской эпохи «скука» становится сниженным эквивалентом «тоски», а через это обнаруживается и «тоскливое» значение у слов «зевать» и «зевота». Именно эта семантика актуальна для пушкинского словоупотребления в романе, считает автор. Добытое таким образом лингвостилистическое уточнение воодушевило А. Б. Пеньковского на оспоривание укоренившегося литературоведческого толкования «Евгения Онегина» как «романа скуки» (Д. Д. Благой), а его героя как «скучающего» и «зевающего». Не «роман скуки», а «роман тоски» усматривает в «Онегине» автор книги, а сам заглавный герой из «скучающего» и «зевающего» переквалифицируется им в безысходно «тоскующего». Источник «тоски» он предлагает искать в сфере того, что лишь обозначено в романе словом «страсти», а зашифровано так называемым скрытым сюжетом, кодом для которого становится имя-миф «Нина».
Тем самым, А. Б. Пеньковский берется за то, чтобы если и не развеять окончательно, то поколебать некоторые «мифы» традиционного прочтения, не выдерживающие, как он это пытается показать, историко-лингвостилистической экспертизы. Парадоксально, но, вступив на путь подобного рода «демифологизации», автор параллельно вычитывает из метатекста русской культуры конца XVIII – первой половины XIX века миф иного рода. Собственно, в его реконструкции и концептуализации автор и видел сверхзадачу предпринятого им исследования, на которое потрачено много лет (исходная для идеи книги статья автора датирована 1976 годом).
Аттестуя его сложный культурно-языковой комплекс, возникший на пересечении живой жизни и искусства, автор выделяет в его составе, в качестве смыслоаккумулирующих структур, во-первых, имя героини; во-вторых, детально разработанный образ; в-третьих, отчетливо определенный сюжет ее жизни. Дальше предоставим слово самому автору, который так формулирует основной смысловой объем этого мифа: «"Нина" – это прекрасная женщина, живущая всепоглощающими страстями, которые она не может удовлетворить и во имя которых готова пренебречь принятыми в обществе нравственными законами. „Условия“ и „правила“ света для нее – не более чем предрассудок. Сжигая, она сгорает сама. Сводя с ума и сходя с ума, она ищет все новых и новых жертв. (…) она одновременно „жертвенник, и огонь, и жрица, и жертва“. Расплачиваясь за свою порочную жизнь нравственной или физической смертью, она (…) оказывается „бедной Ниной“» (с. 60; 475).
Определив, хотя и с оговоркой о некоторой доли условности, в качестве так называемого основного текста поэму Е. Боратынского «Бал», а его героиню княгиню Нину вместе с ее реальным прототипом – графиней А. Ф. Закревской – как центральный образ реконструированного им из «воздуха культуры» и живой жизни мифа, А. Б. Пеньковский тем не менее обращается не к этому материалу, как можно было бы предположить. Неожидан и тот ракурс, в котором он располагает в отношении друг к другу предлагаемый им миф и литературные произведения. Так, он рассматривает «Маскарад» Лермонтова на фоне мифа Нины, а для «Евгения Онегина» миф Нины использован им в качестве призмы для выявления нового, доселе не отмеченного и не принимаемого во внимание интерпретаторами реального художественного смысла отдельных деталей и эпизодов романа.
В связи с этой сквозной идеей единая книга композиционно членится на две неравновеликие «части»: «Имена-маски лермонтовского "Маскарада"» (с. 15–76) и «Скрытый сюжет "Евгения Онегина"» (с. 77—359)[455]455
Собственно, в книге не две, а три части, так как полный корпус примечаний и по объему (с. 359—470), и по содержанию (автор использует их для всякого рода уточнений, пояснений, введения дополнительных аргументов, продолжения полемики с оппонентами и т. д. и т. п.) явно на это претендует.
[Закрыть] которые расслаиваются на отдельные главы, а они, в свою очередь, на очерки и этюды, «изобличающие» в комментируемых текстах штрихи и детали, информативные для реконструируемого мифа (например, «Баронесса. Бароны и баронство», «"Похорошевшие" плечи Ольги», «Черный соболь и пушистый боа» и т. п.). Сам автор склонен, как нам показалось, рассматривать первую часть как своего рода вступление в сложной симфонии демонстрируемой им на материале пушкинского романа рецепционной проекции обозначенного мифа. Мы посчитали все-таки необходимым оценить лермонтовскую часть во всем диапазоне предлагаемого прочтения, так как, на наш взгляд, излишняя настойчивость автора в привязывании к «мифу Нины» всех его наблюдений, нарастающая по ходу книги в геометрической прогрессии, порой несколько упрощает их смысл.
Показательно, что «зерном» будущей книги, как признается автор, стал «ничтожно малый» вопрос о двуименности лермонтовской героини Нины / Настасьи Павловны[456]456
Имя Настасья использовано в сцене бала (д. III, сцена 1, выход 3) и вложено в уста одного из гостей: «Настасья Павловна споет нам что-нибудь!», причем, как замечает Пеньковский, «столь удивительное для читателей и зрителей обращение не вызывает удивления присутствующих, а одна из дам подхватывает: “Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой”. Нина остается Настасьей Павловной и в других редакциях пьесы» (с. 18).
[Закрыть] / Арбениной. И хотя лермонтоведение трактовало этот нюанс как малозначительный, это его не смутило. Автор убеждает нас, что предложенное А. Докусовым и подхваченное В. Тимофеевым толкование имени «Нина» как уменьшительного от Настасьи не выдерживает критики, так как не учитывает историю формирования русского именослова, в который «Нина» вошло как правильная полная форма имени. Обращение к реальной жизненной антропонимике, зафиксированной мемуарами и подобными документами XVIII–XIX веков, позволило ему обнаружить колоритную тенденцию двуименности как своего рода социально-группового обычая, имеющего сложную и не до конца изученную этиологию. А. Б. Пеньковский, опираясь на те же документальные данные, предполагает, что двуименность могла быть в том числе и результатом мирного сосуществования «официального» и «домашнего» имен. Обращение к «фактам антропонимической жизни» в русской культуре XVIII – начала XIX века дало автору основания столь же аргументированно заключить, что в поэтическом именослове имя «Нина» функционировало с полунарицательным значением «возлюбленная», «дева» с разной степенью интенсивности от Державина до Майкова, в то время как имя Настасья (Анастасия) в XIX веке воспринималось как сниженное и провинциальное. Тем самым два имени героини Лермонтова реализовали оппозицию «обычное» – «светское», и это можно было бы посчитать лишь ономастической проекцией частной особенности русского быта в поэтике драмы. А. Б. Пеньковский же предлагает нам не ограничиться этим и рассмотреть двуименность как элемент того уровня художественной структуры текста лермонтовской драмы, который он называет «антропонимическим пространством». Именно здесь ему посчастливилось найти такой «ключ» к ее поэтике, который, на наш взгляд, позволил приблизиться к нюансированному уточнению лейтмотивных начал, в частности символики заглавного образа «маскарада», маскарадной жизни и их «компонентов».
Принципиальной для предлагаемого авторского прочтения становится установка на то, что «антропонимическое пространство лермонтовской драмы особым образом моделирует ее маскарадный мир, отражая его в своих специфических формах» (с. 31). Оно конкретизировано ономастическим анализом, переводящим нарицательный язык антропонимов на язык этикета, и позволяет установить запрограммированную обманность, лживость имен– масок, продиктованных самой природой маскарада, таких, в частности, как взятые напрокат у А. Бестужева-Марлинского имена «князь Звездич» и «баронесса Штраль», то бишь «светлейший князь» и «сиятельная баронесса». А так как титул барона не давал права на такое величание, да и «княжество» «серба» порождало множество ассоциаций с реальными титулованными выскочками и литературными карточными шулерами (ср. пушкинского Зорича из «Пиковой дамы»), Лермонтов, как убежден автор, тем самым травестировал антропонимические заимствования, наделив художественную антропонимику функцией опосредованного выражения общей маскарадной травестии.
Доводя до логического конца свою версию, как имена-маски маскарадного мира предлагает он расценивать и пару «Арбенин – Нина», ставя в вину герою «перекрещивание» провинциальной русской Настасьи в светскую бально– маскарадную Нину, ставшее для героини трагическим. Как ни остроумно выглядит финальный ход авторской мысли, именно в этом пункте автору хочется возражать наиболее настойчиво. Кстати, искать контраргументы помогает сам автор, заключающий, что «Маскарад» следует рассматривать вне континуума мифологических текстов Нины, а над ним и что «в Нине Арбениной нет решительно ничего от НИНЫ, кроме навязанного ей чужого имени» (с. 72). Фетишизируя антропонимический сегмент текста и замыкая в его рамки конфликт, А. Б. Пеньковский сужает интерпретационный диапазон, что не может не сказаться на предлагаемых им литературоведческих выводах, в особенности касающихся причин поведения Арбенина, гибельных для героини: Арбенин губит жену, находясь во власти мифа, заставляющего его видеть роковую Нину в невинной Настасье Павловне.
К сожалению, во власти мифа находится и сам исследователь, желающий во что бы то ни стало представить «нинность» в лермонтовской драме концептом, соперничающим с концептом «маскарада» в правах на заглавный символ. И все же «лермонтовская» часть книги, несмотря на намного меньший, по сравнению с пушкинской, объем и отведенную для нее роль «трамплина» для авторской гипотезы, будучи оцениваемой в целом, должна быть признана, по нашему мнению, оригинальным вкладом в лермонтоведение, профессионально убеждающим в том, что художественная антропонимия «Маскарада» дает нетривиальный повод для прочтения скрытых смыслов драмы.
Вторая часть книги, посвященная роману «Евгений Онегин», по замысловатости авторской логики и предпринимаемым по ходу размышления разнообразным экскурсам часто напоминает таинственный лабиринт, нитью Ариадны от которого владеет лишь автор, и в его воле выбирать тот или иной маршрут, чтобы «скрытый сюжет» стал явным.
Усилия исследовательской мысли, порой изощренно-виртуозные, направлены на то, чтобы так называемый «теневой» сюжет романа, связанный с фигурой Нины Воронской («блестящая Нина Воронская», «Клеопатра Невы», упоминается, как известно, в XVI строфе 8-й главы), впервые отмеченный С. Г. Бочаровым, перевести в другой статус – мифологического сюжета, который развивается параллельно двум другим: повествовательному и поэтическому. Содержанием его становится, как убежден исследователь, утаиваемая Онегиным «роковая любовь» к светской «Нине», которая восходит к его ранней юности, но воспоминание о которой преследует героя и в дальнейшем, предопределив и драматический итог его отношений с Татьяной.
Для доказательства своей гипотезы А. Б. Пеньковский, опираясь на добытое пушкиноведением представление о «челночном» характере поэтики романа, использует методику поиска подтекстовых значений в отдельных, дистанцированных друг от друга, эпизодах романа, увязывая их между собой, как и в первой части книги, с помощью антропонимического звена. Здесь для него важно выявление на антропонимическом уровне текста «сокровенного» имени – Нина, сопровождающего имя «Татьяна» как «Анти-Татьяна». Это прежде всего наречение героини, именинный куплет Трике с созданной им «амальгамой» «belle Nina – belle Tatiana», a также представление в 8-й главе Нины Воронской рядом с Татьяной.
Помимо них, автор книги привлекает в изобилии такие фрагменты романа, которые не вошли в его окончательную редакцию: например, строфы из так называемого «Альбома Онегина» о загадочной «одалиске молодой» (предлагая, между прочим, свой вариант разгадки криптонима R. С. как криптонимического шифра все той же «Нины» / Нины Воронской), отброшенную строфу ХХ?Іа из 8-й главы, живописующую «Явление Нины» («Смотрите, в залу Нина входит и т. д.»), а также исключенную строфу ХХІ?а из той же главы, дающую развернутое сопротивопоставление Татьяны и Нины («Друг дружке чуждые душой, / Сидели тут одна с другой…»), и др.
Почти все, что касается «Нины» как культурной модели особого женского типа со своей смысловой парадигмой, сложившейся и функционирующей до и вне романной реальности, оказывается и параллельно ей: в традиции поэтической антропонимики, в реальной биографии поэта, в общественном мнении и психологии (здесь автор вновь и вновь демонстрирует широту своего культурологического кругозора) – убедительно, хотя, на наш взгляд, не всегда заслуживает статуса мифа.
Но как только «Ниной» начинает поверяться Татьяна и в ней обнаруживается «нинное» начало, в котором автор предлагает усматривать универсальный ключ к разгадке чуть ли не всего смыслового объема этого образа: и к «двойственности ее культурного сознания», и к ее «загадочной душевной и психофизической организации», сказавшейся в соединении в ней «холода и жара», и к метаморфозе ее из «Тани» в «княгиню» (см. название одного из разделов – «Нина – ключ к тайнам души Татьяны»), обнаруживается неправомерность перенесения методологии обнаружения скрытого сюжета в романном фоне и в романных статистах типа Трике на его присутствие в судьбах и проявление в характерах заглавных героев, Евгения и Татьяны. По нашему убеждению, природа «штучного» характера Татьяны принципиально неразложима на составляющие, непарадигматична.
Онегину же автором рецензируемой книги отводится в контексте «скрытого сюжета» роль страдательная: женщины – «Нины» его «берут», в связи с чем герою почти что инкриминируется «подавленная мужественность» (в таком ключе рассматривает Пеньковский известное уподобление героя «ветреной Венере»), и в этом предлагается усмотреть еще один из источников его «тоски». Только на счет исследовательской запальчивости и неуемности мы можем «списать» подобного рода интерпретации. Кстати, почему так счастливо обнаруженная за «маской» скуки тоска героя обязательно мотивирована только (или преимущественно) любовной подоплекой? Не может ли она быть, если можно так обозначить, в большей степени «онтологической» тоской, в которой эмоционально-психологически объективируется предвестие-предчувствие невозможности жизненной самоидентификации?
На самое серьезное возражение А. Б. Пеньковский попытался ответить в рамках самой книги. Действительно, правомочен ли исследователь выстраивать свою концепцию в первую очередь на тех фрагментах текста, от которых автор впоследствии отказался? Доводы о том, что они «принадлежат миру пушкинского романа и что-то же о нем говорят» (с. 350), нам не кажутся вполне убедительными. С тем, что тайный сюжет «Нины» «во многом организует», как заключает автор, два других (повествовательный и поэтический), также вряд ли можно согласиться. Более приемлемым выглядит тезис о его параллельности, хотя сферой его проявления и прояснения, как демонстрирует сам Пеньковский, становится в основном подтекстовое пространство, актуализируемое в полном объеме только с привлечением черновых материалов романа. Но, так или иначе, нельзя отрицать того, что автор, воодушевленный идеей о «скрытом» сюжете и необходимости его вычитывания из романа, действительно сумел прочесть под новым углом зрения известные страницы «Онегина», а его лингвистически обостренный интерес к субстанции поэтического слова необыкновенно поучителен для литературоведов.
Известный современный пушкинист свой недавний обзор онегинистики за полтора века заключил прогнозом того, что еще предстоит вычитать из пушкинского романа, поставив на одно из первых мест по степени назрелости будоражащую исследовательские амбиции его «мифологичность». «Онегинская» часть книги А. Б. Пеньковского – и реализация такого прогноза, и иллюстрация необходимости идти по этому пути.
С. В. Савинков, А. А. Фаустов
Виртуальный миф[457]457
Впервые: Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 17. Воронеж. 2001. С. 273–280.
[Закрыть]
Книга А. Б. Пеньковского – одна из тех редких филологических работ, которые интересно (и поучительно) читать от начала до конца. Книга состоит из трех логических частей (частично совпадающих с композиционными): в ней последовательно реконструируется «миф о Нине» в русской культуре начала XIX в. и рассматриваются преломления этого мифа в лермонтовском «Маскараде» и пушкинском «Евгении Онегине». Сразу скажем, что работа А. Б. Пеньковского явно представляет собой «двухприродное» образование: с одной стороны, описательно– аналитическое, имеющее в виду прежде всего лексику (и в особенности ономастику) эпохи; с другой – собственно интерпретационное, предлагающее новые прочтения «Маскарада» и «Онегина». Эти составляющие во многом различны – как по авторской стилистике, так и по бесспорности полученных результатов. Пользуясь не слишком строгими определениями, одну можно было бы сравнить с энциклопедией (недаром почти четверть книги – это монументальные примечания), а другую – с увлекательным детективным (или авантюрным) романом.
Со времен создания «Словаря языка Пушкина» и «онегинских» комментариев В. В. Набокова и Ю. М. Лотмана в пушкинистике, пожалуй, не было столь обширных прибавлений к нашему пониманию тех или иных элементов онегинского текста (и не только его): от бытовых – до языковых и смысловых. Перед нами собранный из разножанровых источников колоссальный лексический материал, позволяющий по-новому разобраться в тонкостях словоупотребления золотого века русской культуры и вообще – осознать ее как нечто «другое». Как кажется, не случайно свое заключение – «От автора (Вместо послесловия)» – А. Б. Пеньковский посвятил в первую очередь размышлениям о «ложных друзьях переводчика», вынуждающих нас переносить на старое (обманчиво похожее на новое) черты этого нового, читать далекие от нас произведения, пользуясь неадекватным языком смысла. Результаты, достигнутые на этом пути ученым, впечатляющи. После его книги по-иному начинаешь воспринимать целый пласт лексики пушкинского времени. «Скука», «хандра», «тоска», «зевота», «дева», «страсти» и др. – в этом семантическом ряду вскрываются такие оттеняющие друт друга (и во многом непривычные) значения, которые напрочь ускользают от человека нынешнего времени.
Помимо этих семасиологических этюдов (некоторые из которых измеряются десятками страниц) в исследовании содержится множество любопытных сведений о речевом поведении эпохи – к примеру, о принятом в элитарном дворянском обществе двойном именовании: «официальном» и «домашнем», «обычном» и «светском». Собрано и систематизировано огромное количество культурно-лингвистических фактов, позволивших определить, например, коннотации, связанные с титулом «барон» или с понятием «сербские дворяне», представить себе, что такое в пушкинской бытовой культуре кольца или шаль, каковы метафорический потенциал игры в бильярд или текстообразующая роль игры в шарады. Книга А. Б. Пеньковского в этом отношении – действительно настольная книга, к которой за той или иной информацией с неизбежностью (и с благодарностью) будет постоянно обращаться любой читатель, которому она попадет в руки.
С другой ее – интерпретационной – стороной дело обстоит сложнее. Вне всякого сомнения, разыскания автора и в этом направлении необычайно интересны и исполнены той же филологической изысканности, что и непосредственно лингвистические (или, вернее, лингвокультурологические). Однако если семасиологические экскурсы ученого вызывают у литературоведа почти одическое восхищение перед виртуозностью лингвиста, то новое прочтение двух классических произведений – восхищение, смешанное с сомнением, а иногда и с недоумением.
На этой – полемической – стороне книги мы и остановимся подробнее, вполне осознавая, конечно, свою скромную осведомленность в материи вопроса. Однако, возможно, и такого рода критические замечания окажутся в чем-то небесполезными, поскольку обаяние рецензируемой книги таково, что заставляет ее читателя поверить и в то, во что «верится с трудом».
Начнем с небольшого соразмышления о природе литературного антропонимического мифа. Следует различать, видимо, три разных его проекции: определенный психологический тип, определенную образную кодировку, определенное имя. Только в сочетании они образуют то, что может быть названо ономастическим мифом. И с этой точки зрения «нинин» миф в полной мере критериям мифа не удовлетворяет. В отличие от мифа о «бедной Лизе» (который отчасти реконструирован в известной книге В. Н. Топорова) миф этот лишен своего «основного текста», что констатирует и сам А. Б. Пеньковский. Точнее говоря, на роль такового до некоторой степени может претендовать «Бал» Баратынского, однако поэма эта в работе упоминается хотя и часто, но всякий раз вскользь, что, конечно, несколько неожиданно, поскольку именно в ней естественно было бы искать ту более или менее явную схему, от которой отталкивались и Пушкин, и Лермонтов. Напротив, интегральное описание «мифологической Нины» опирается на различные менее представительные тексты (чаще всего это небольшие стихотворения); причем особенность этого описания в том, что едва ли не половина из задействованных произведений – тексты, где Нин как раз нет, где мы должны «угадать неназванное имя».
Подобная неназванность – первое, что вызывает сомнение. Ученый, реконструируя свою Нину, имеет в виду прежде всего некий психологический, поведенческий тип (и во вторую очередь – скрепленный с ним комплекс мотивов), который достаточно условно получает на страницах книги имя Нины. Условно, поскольку, с одной стороны, Нинами могли именоваться и героини совсем иного амплуа (сам А. Б. Пеньковский на с. 371–372 упоминает «Темную рощу…» П. Шаликова, где Нина – это типичная чувствительная Лиза, а продолжая на с. 400 «нинину» серию в будущее, ссылается, к примеру, на Нину Заречную, которая также на Нину – демоницу – похожа не слишком); с другой стороны, автору приходится именовать Нинами тех, кто носит совсем другие имена (особенно показателен тут перечень на с. 291–292 тургеневских героинь: Полозова, графиня Р. из «Отцов и детей», Ирина из «Дыма» и т. д.). В отличие опять-таки от Лизы – и тут мы переходим ко второму сомнению – Нина, которая и при возникновении не была востребована массово, не была литературой запомнена: ни тот же Тургенев, ни Гончаров, ни Достоевский – люди, чуткие к традиции, – имя это не расслышали. Впрочем, мы вовсе не хотим сказать, что «мифологическая Нина» – фикция. Речь идет о другом – о некоей локализации, привязке мифа. И здесь обширный материал, собранный в работе, вполне может быть использован в целях самоограничения мифа.
Отталкиваясь от представленного, мы попытались бы – в качестве, разумеется, гипотезы – предложить следующую логику. А. Б. Пеньковский справедливо вспоминает о знаменитой куртизанке XVIII в. Нинон де Ланкло, чье имя было для интересующей ученого эпохи знаковым, и естественно предположить, что оно как раз и «подпитывало» тех литературных Нин, которые фигурируют в книге (к их числу добавим еще один колоритный пример – перевод И. А. Крыловым (1790-е годы) сонета Ф. Петрарки «Расе non trovo, е поп ho da far guerra…», который был адресован Лауре – в тексте Петрарки безымянной – и который под пером Крылова получил заглавие «Сонет к Нине»; расклад любовных ролей в этом сонете целиком вписывается в тот, который предполагается «нининым» мифом). Следующая фаза – кодификация Нины у Баратынского, опирающаяся на реальный прототип – А. Ф. Закревскую, которая – видимо, волей поэта – получила именно такое литературное имя. И, наконец, рефлексы этого мифа у Пушкина (сполна испытавшего влияние того же прототипа) и Лермонтова. С забвением русской культурой Нинон де Ланкло и А. Ф. Закревской миф этот и должен был редуцироваться почти до нуля, что мы и наблюдаем. (Любопытно, что как раз эта, ведущая к де Ланкло, ассоциативная логика именования «сработает» в произведении позднейшей эпохи, в «Бамбочаде» К. К. Вагинова (1931).)
Не менее проблематично то, как реконструируются в книге авторские версии мифа: лермонтовская и пушкинская. А. Б. Пеньковский необычайно интересно и доказательно анализирует «антропонимическое пространство» «Маскарада» (с особенным блеском это выразилось в случае с именами Звездич и Штраль). Наблюдения ученого позволяют понять, как в одном лице лермонтовской героини могли соединиться Нина и Настасья Павловна. И дело не ограничивается тонким культурно-бытовым комментарием. Автор демонстрирует и то, как семиотика быта могла преломляться в образно-смысловом поле художественного произведения. Нина, согласно истолкованию, оказывается жертвой света потому, что когда– то пожертвовала ему своим именем Настасья Павловна. А приняв чужое имя, она приняла и чужую судьбу. В этих рассуждениях сказывается, однако, одна методологическая особенность, которая еще более откровенно проявится в третьей, посвященной «Онегину», части книги. Когда ученый говорит, что героиня «Маскарада» «…оказывается связанной с мифом лишь как невольная носительница его имени и тем самым как его пассивная жертва» (с. 72), это звучит убедительно. Однако дважды (с. 56, 72) А. Б. Пеньковский пишет, что имя это «навязано» героине Арбениным, что вызывает некоторое несогласие. Имя героине дается все же Лермонтовым, а не его героем. И в силу такого смешения ученый с неизбежностью признает переделку «Маскарада» – драму «Арбенин» – неудачей и вообще почти отказывается от ее рассмотрения. Между тем анализ этой второй редакций только подтвердил бы основной тезис книги, ибо там героиня становится как раз «подлинной» Ниной (а «антининино» в ней отщепляется в лице Оленьки). Вся вторая редакция и есть как раз торжество имени над героиней (и автором); имя словно принуждает мнимую изменницу сделаться – под давлением его роковой мифосе– мантики – изменницей действительной.
Особого внимания заслуживает анализ «Евгения Онегина», занимающий львиную долю (более трех четвертей) монографии. В рамках рецензии не представляется возможным говорить о деталях, о частных аналитических ходах, многие из которых кажутся не просто изящными, но и бесспорными. Сомнение здесь рождают опять-таки попытка универсализировать «нинин» миф в составе пушкинского романа (по сути, подчинить ему роман) и то, соответственно, как эта попытка осуществляется. Пафос размышлений ученого сводится, если их максимально сжать и упростить, к тому, что в «Онегине» присутствует – на правах четвертого измерения – связанный с Ниной «скрытый сюжет». В результате оказалось, что пушкинский роман (и в этом А. Б. Пеньковский всячески пытается убедить читателя) говорит не о трагически «несовместной» любви Онегина и Татьяны, а совсем о другой любви – о потаенной и давней любви-тоске Онегина по Нине, которую Татьяна сначала не в силах победить, а потом все же побеждает, вытесняя из сознания героя образ своей соперницы. Причем, замещая собой другую, она и сама становится другой: побеждая в этом «внешнем» поединке, Татьяна одерживает верх и над Ниной, которая жила в глубинах ее души. Согласиться с таким радикальным прочтением трудно. (Впрочем, в пушкинском творчестве подобная фабульная схема уже была опробована. Это, конечно, «Кавказский пленник», о котором А. Б. Пеньковский говорит, анализируя природу онегинской «скуки» и «пресыщенности», но который в модель ученого в остальном не вмещается: в душе Черкешенки никакая Нина не живет, а вот «татьяниного» в ней много. Да и история роковой любви, пленившей героя, рассказана здесь – вопреки словам А. Б. Пеньковского – не скрыто, а максимально открыто).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































