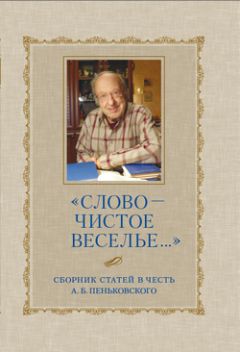
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 50 страниц)
Боровский 1980 — Боровский Я. М. Незамеченный гипербат у Пушкина // Временник пушкинской комиссии, 1977. Л., 1980.
Гаврилов 1997 — Гаврилов А. К. Никита Виссарионович Шебалин // Древний мир и мы. СПб., 1997.
Гаспаров 1970 —Гаспаров М. Л. Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, послания. М., 1970.
Гладкий 1985 —Гладкий А. В. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения. М., 1985. (2-е изд. М., 2007.)
Коротаев 2000 – Коротаев Н. А. Непроективные синтаксические структуры в сборнике Г. Р. Державина «Анакреонтические песни». Курсовая работа. М.: РГГУ, 2000.
Малеин 1916 —Малеин A. IL Пушкин и Овидий. Отрывочные замечания //Пушкин и его современники. Вып. XXIII–XIV. Пг, 1916.
Шалимов 1994 — Шалимов О. Ю. Непроективные синтаксические структуры в «Сорочинской ярмарке» Н. В. Гоголя. Курсовая работа. М.: РГГУ, 1994.
И. Б. Непомнящий
Стихотворение Ф. И. Тютчева «Не раз ты слышала признанье…» в свете реминисцентной поэтики
1Это стихотворение обычно не привлекает специального исследовательского внимания. Написанное в 1851 году, в самом начале «любви последней, зари вечерней», оно находится на периферии «денисьевского» цикла и кажется начисто лишенным того драматического потенциала, который характеризует этот цикл в целом как феномен русской любовной лирики XIX века.
Не раз ты слышала признанье:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней…
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе…
Когда, порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,
Где спит она – твое рожденье —
Твой безымянный херувим, —
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.
Поводом к написанию миниатюры, как известно, послужило рождение старшей дочери Денисьевой и Тютчева Елены. С этим связан едва ли не единственный дискуссионный момент в истолковании тютчевского текста. Момент этот касается именно биографического комментария: означает ли выражение «безымянный херувим», что стихи были созданы еще до крещения ребенка (Е. П. Казанович).[343]343
См.: Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и письма: В 6 т. Т. 2. М., 2003. С. 375.
[Закрыть] или же оно указывает на то, что младенец родился вне освященного церковью брака, как полагал Г. И. Чулков.[344]344
Г. И. Чулков, комментируя этот факт в издании 1933–1934 годов, указывал: «Поэт мог назвать своего ребенка «безымянным» ввиду его незаконнорожденности, что очень болезненно ощущалось матерью…» (Тютчев Ф. II. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Т. 2. М.; Л., 1933–1934. С. 479).
[Закрыть]
Между тем биографический комментарий – при всей его важности – в зрелой лирике Тютчева не способен подменить собой комментария эстетического и культурологического. Внешняя прозрачность и «понятность» тютчевского слова то и дело оборачивается непредвиденной сложностью, парадоксальностью и глубиной. На первый взгляд произведение это абсолютно традиционно: оно состоит из четырех катренов с регулярным чередованием женских и мужских окончаний; тютчевские рифмы подчеркнуто скромны и обиходны, иной раз до небрежности (себе – тебе); последовательно, без каких-либо искусно продуманных отступлений и колебаний, соблюден четырехстопный ямб – наиболее высокочастотный размер во всей русской лирике XIX столетия. Наконец, перед нами типичный для Тютчева вариант симметричной структуры, части которой равны по объему (по восемь стихов в каждой). Стихотворение действительно напоминает собой дневниковую запись или же частное письмо, обращенное к любимому человеку и ни в коей мере не претендующее на публичность.
Однако при более детальном изучении данной структуры обнаруживается немало любопытного. Так, эта миниатюра, пожалуй, единственное из «денисьевских» стихотворений начала 1950-х, в котором очевиден конкретный биографический импульс, причем важно, что введенный во вторую часть мотив материнской любви больше в границах любовной лирики Тютчева мы не встретим. Само по себе сопоставление любви «героя» к «героине», с одной стороны, и материнского умиления, веры и мольбы – с другой, выглядит на фоне тютчевской поэзии весьма непривычно. В стихотворении разворачивается очень сложная, филигранная и многоплановая работа с местоимениями. Их концентрация в рамках текста чрезвычайна: личные и притяжательные формы присутствуют в двенадцати строках из шестнадцати, причем в первом и втором катренах они вообще в каждом стихе (за исключением седьмого). Важно и то, что местоимения, образующие зону «героя» (я, мое, я, мне, мое), даже в количественном выражении резко, почти вдвое, уступают группе, оформляющей полюс «героини», характеризующей ее чувства (ты, твоей, твоею, тебе, ты, твое, твой, ты, твоим). Уже здесь в известной мере моделируется одна из ключевых психологических оппозиций всего цикла: предельное самоумаление его (смиренье) и столь же максимальное возвышение, почти обожествление, ее.
В системе местоимений доминируют формы первого и второго лица, тем рельефнее на их фоне выделяется местоимение она в зачине и концовке произведения. Его реальное семантическое наполнение, разумеется, абсолютно различно: в первом случае она указывает на любовь Денисьевой, во втором, выделенное авторским курсивом, как бы субстантивируется, замещая имя неназванного младенца, «безымянного херувима». Причем тютчевский курсив, по-видимому, вызван не только потребностью преодолеть определенную стилистическую неловкость (ведь местоимение указывает на объект, ранее не поименованный). Он еще и фокусирует читательское внимание на крайне важной параллели «созданье» – «рожденье»: в начале миниатюры – «Пускай мое она созданье», в конце – «…Где спит она – твое рожденье…». «Созданье» и «рожденье» в данном случае безусловно поляризованы, они оппонируют друг другу как отстраненно конструируемое, «рукотворное» – естественному, органическому, природно– материнскому.
Очень интересна и следующая малозаметная перекличка между частями тютчевской миниатюры. Уже первая ее строка сигнализирует о некой повторяющейся ситуации (не раз…). Но и в начале второй части – нечто близкое: «Когда, порой, так умиленно…» Наречие «порой», к тому же акцентированное за счет обособления, также предусматривает определенную периодичность той картины, которая представлена в третьем-четвертом катренах: мать, склоняющаяся над колыбелью младенца. Речь, следовательно, идет не о частном, единичном случае, но о ситуации обобщенной, за которой легко угадывается новозаветный символ Богоматери, склонившейся над колыбелью Иисуса.[345]345
Крайне интересен и следующий аспект: в русской иконографии выделяются несколько типов изображения Богородицы, в числе которых особое место занимают тип «Умиление» и тип «Оранта» («Молящаяся»). См.: Барская М. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993. С. 37–40. Напрашивается предположение, что тютчевские «умиленно» и «с мольбой» посылают дополнительные сигналы о связях образов стихотворения с традициями восприятия Богоматери в русской культуре.
[Закрыть] То, что евангельская проекция не навязана тексту, а вырастает из самой его структуры, доказывается и бесспорным господством специфически церковной, христианизированной лексики: «благоговею», «поклоняюся тебе», «умиленно», «вера», «мольба», «безымянный херувим», наконец, венчающее миниатюру «любящее сердце».
Весьма выразителен и фонетический рисунок текста – особенно его второй половины: аллитерация на к, л, н пронизывает третью строфу (умиленно, невольно, клонишь, колено, колыбелью); на м, н – четвертую (безьшянный херувим, прими, мое смиренье, сердцем любящим твоим). Превосходство сонорных как будто воспроизводит плавную, кантиленную мелодию материнской колыбельной, звучащей над младенцем.
Однако наши представления о построении тютчевской пьесы будут неполными, если проигнорировать присутствующие в ней скрытые цитаты, далеко не очевидный пласт взаимодействия с чужим словом. Реминисценции проступают как в начальной, так и в заключительной строфах тютчевской пьесы, как бы окаймляют ее. Обратимся к первому четверостишию:
Не раз ты слышала признанье:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней…
Здесь, как представляется, контаминированы фрагменты из двух русских романтических поэм начала 1820-х годов: «Кавказского пленника» и «Чернеца».
Душевный опыт, воплощенный в пушкинской поэме, был, по всей вероятности, востребован Тютчевым на рубеже 1840—1850-х годов. Так, еще в 1848-м, за полтора-два года до начала романа с Денисьевой, через десять лет после смерти первой жены, он пишет посвященное ее памяти восьмистишие:
Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой…
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный, —
Как ночью на небе звезда…
Эта элегия в «миниатюре» (Тынянов), при всей своей типичности для первой половины XIX века и наличии реминисценций из Батюшкова, окликает строки из второй части пушкинской поэмы, более точно – фрагмент из исповеди Пленника:
…Снедая слезы в тишине,
Тогда рассеянный, унылый
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвенье предаюсь
И тайный призрак обнимаю.
И по основной теме (негаснущая память о первой любви), и по метрико– мелодическим параметрам, и по словарю связь между фрагментом поэмы и лирической пьесой может быть названа преемственной. Даже если общность между ними объясняется единством и универсальностью романтико-элегического словаря эпохи, внутреннее сходство в самом переживании не подлежит сомнению.
В первую очередь внимание Тютчева в начале 1850-х годов должна была привлечь именно вторая часть «Кавказского пленника», те «драматические сцены» (Вяземский),[346]346
Вяземский П. А. Сочинения. Т. 2. Литературно-критические статьи. М., 1982. С. 45.
[Закрыть] в которых Пушкиным была предложена острая психологическая разработка крайне напряженных отношений между Пленником и Черкешенкой. И сам беззаконный, тайный характер этих отношений, и самоотверженная жертвенная любовь героини, столь созвучная чувству Денисьевой, и мучительная раздвоенность, преследующая героя, который оказывается не в состоянии вполне отдаться новому чувству, отрешившись от «памяти сердца», – все это могло с особой силой отозваться в Тютчеве начала 50-х годов. Ведь еще в 1838 году, как свидетельствуют дневники Жуковского, поэт безмерно скорбит о трагической утрате Элеоноры и одновременно с той же предельной искренностью сообщает о захватившей его страсти к Эрнестине.[347]347
«Он горюет о жене, которая умерла мученическою смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене» (по кн.: Пигарев К. В. Ф. И. Тютчев и его время. М., 1978. С. 102).
[Закрыть] Это драматическое противоречие, вошедшее в жизнь Тютчева в конце тридцатых годов, в силу понятных причин резко обостряется в начале пятидесятых. Укажем хотя бы на давно отмеченный в научной литературе факт поэтического обращения к жене («В разлуке есть высокое значенье…») в письме от 6 августа 1851 года, то есть как раз в тот период, когда пишутся такие «денисьевские» вещи, как «Не раз ты слышала признанье…», «О, как убийственно мы любим…» ит. п. Не менее выразительно и восьмистишие 1851 года «Не знаю я, коснется ль благодать…», также адресованное Эрнестине Федоровне и определяющее тяжелейшее душевное состояние Тютчева как «обморок духовный».
Именно со стихами второй части пушкинской поэмы – с развернутыми монологами Пленника и Черкешенки – соотносится тютчевское «Не раз ты слышала признанье…». Отсылки к поэме присутствуют в тексте системно, заявляют о себе трижды. Вот самое начало исповеди Пленника, позиция активная, акцентированная Пушкиным:
Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою…
Как видим, тютчевский «герой» буквально, лишь с несущественным изменением порядка слов, воспроизводит исходный посыл Пленника. Близость между текстами подчеркивается и еще одним почти дословным совпадением: замыкая монолог, герой поэмы скажет: «Ты сердца слышала признанье…» Аналогия с начальным стихом тютчевской пьесы («Не раз ты слышала признанье…») наглядна. Таким образом, в первых двух строчках Тютчев совмещает мотивы одного из важнейших в нравственном и психологическом плане эпизодов пушкинской поэмы. Едва ли это непреднамеренно: скорее, с помощью имплицитных цитат маркируя связи стихотворения с границами поэмного фрагмента, автор делает актуальным в читательском восприятии и содержание всего монолога, весь комплекс крайне сложных, конфликтных ощущений и чувств, которые испытывает герой поэмы, будучи не способным в полной мере ответить на самозабвенную любовь молодой мусульманки.
Такое глубоко личное восприятие одной из первых романтических поэм Пушкина было свойственно не одному только Тютчеву. Так, еще в 1822 году в послании «К Пушкину» Вильгельм Кюхельбекер восклицал:
Конечно, Кюхельбекер обращает внимание на принципиально иные грани в личности и судьбе героя поэмы, нежели Тютчев; разумеется, проекция Кюхельбекера базируется не на тайных аллюзиях, как у Тютчева, а на прямолинейной манифестации; однако для нас весьма важно установить сам факт такого интимно– сокровенного восприятия пушкинского героя людьми двадцатых годов. Кстати сказать, безусловный автобиографический подтекст образа Пленника, без труда различаемый современниками, в некоторой степени провоцировал именно на такое восприятие поэмы. Достаточно напомнить хрестоматийное заявление самого Пушкина из ноябрьского письма В. П. Горчакову: «Характер пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения».[349]349
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. Письма. М… 1962. С. 55.
[Закрыть]
Между тем перекличка «Не раз ты слышала признанье…» со второй частью поэмы не ограничивается указанными моментами. И финал тютчевской миниатюры также, по нашему мнению, связан с нею, но уже не с речью героя, а с заключительными стихами из монолога героини. Сопоставим:
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.
(Тютчев)
и
Ты любишь, русский? ты любим?..
Понятны мне твои страданья…
Прости ж и ты мои рыданья,
Не смейся горестям моим.
даже не во множестве формальных совпадений, хотя их тоже не следует недооценивать: в размере и рифмовке (на – им), в лексике и синтаксических структурах («Пойми ж и ты мое смиренье…» и «Прости ж и ты мои рыданья…»),[350]350
Может быть, ради воспроизведения грамматической структуры, завершающей монолог Черкешенки, Тютчев даже идет на определенное нарушение грамматических норм, ведь едва ли естественно сказать по-русски: «Когда… невольно клонишь ты колено Пред колыбелью дорогой, Пойми ж и ты…» Скорее всего, стремление преодолеть немотивированный эллипсис в структуре предложения обусловило и «дистанцирующее» тире на переломе четвертой строфы.
[Закрыть] наконец, в итоговом, обобщающем характере финальных формул. Дело в том, что сам ход тютчевской мысли как бы ориентирован на логику, представленную в эпизоде поэмы: просьба-мольба о понимании или прощении звучит лишь после указания на близко-родственный душевный опыт тех, к кому эта просьба-мольба обращена.
Столь системные переклички тютчевской пьесы с одним из эпизодов «Кавказского пленника», по-видимому, исключают возможность случайных, непреднамеренных совпадений. Между тем реминисцентная структура стихотворения «Не раз ты слышала признанье…» не ограничивается апелляциями только к поэме пушкинской, она включает в себя и отсылку к ультраромантическому «Чернецу» Ивана Козлова.
2Вопрос о связях творчества Тютчева с поэзией Козлова практически не ставился в специальной литературе. Конечно же, соотнесенность лирики Тютчева с творчеством Державина и Пушкина, Батюшкова и Жуковского, Вяземского и Фета куда более очевидна и значима.[351]351
Перечень работ, посвященных данной проблематике, с трудом поддается обзору. Наиболее значимые из них, на наш взгляд, фундаментальные статьи Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, Н. Я. Берковского, Б. Я. Бухштаба, В. Н. Касаткиной, Ю. М. Лотмана. Весьма ценные замечания и наблюдения содержатся в работах К. В. Пигарева, Л. А. Озерова, И. Ю. Подгаецкой, Б. М. Козырева и многих других.
[Закрыть] Между тем есть реальные основания для постановки самостоятельной проблемы Тютчев и Козлов. Поэты были лично знакомы (с 1830 года), упоминание о Тютчеве есть в дневниках Козлова; с его дочерью, Александрой Ивановной, Тютчев дружески общался и состоял в переписке; добавим к этому, что списки отдельных стихотворений Козлова хранились в тютчевском архиве.[352]352
Литературное наследство. Т. 97, кн. 2. М., 1989. С. 658.
[Закрыть] Кроме того, многолетнее знакомство с В. А. Жуковским, одним из самых близких Козлову людей, также должно было способствовать формированию дополнительного интереса Тютчева к автору «Чернеца». Исследователь лирики Козлова В. Сахаров в предисловии к собранию его стихотворений подчеркивает: «…современники ценили в творчестве поэта именно полное выражение его собственной души, подчиняющее себе, своей логике жизненный и литературный материал. В свою очередь рождающиеся в стихотворениях Козлова самобытные образы наследуются русскими поэтами, и прежде всего Лермонтовым (достаточно сравнить образы „Чернеца“ и "„Мцыри“). Образ „День вечерел“ перешел к Тютчеву, „Сердце цветет“ – к Фету, „Жар души“ – к Пушкину и т. д.»[353]353
Цит. по: Иван Козлов. Стихотворения. М., 1979. С. 13.
[Закрыть] Подробнее о влиянии лирики Козлова на Тютчева сказано в более поздней работе того же автора: «…образы Козлова наследует другой его читатель и посетитель (помимо ранее упомянутого Лермонтова. – И. H.). о котором в дневнике поэта сказано: «Пришел интересный и любезнейший Тютчев»».[354]354
Сахаров В. Под сенью дружных муз. О русских писателях-романтиках. М., 1984. С. 77.
[Закрыть] Однако перечень примеров весьма тесного знакомства
Тютчева с творчеством старшего поэта может и должен быть существенно расширен. Между ними есть немало частных пересечений, беглых перекличек. Это может быть объяснено, конечно, и общей романтической почвой, которая питала творческие интуиции как Козлова, так и Тютчева. Например, яркая тютчевская метафора «синей молнии струя» («Неохотно и несмело…», 1849) уже встречается в одном из лучших стихотворений Козлова «Стансы» (1838), причем в родственном «грозовом» контексте: «Меж тем в эфирной тме сбиралась Гроза, – из туч сверкнул огонь, И молния струей промчалась, Как буйный бледногривый конь». Не менее близки по метрико-мелодическим свойствам и словарю строки из «Венецианской ночи» (1825) Козлова и тютчевской строфы 1852 года. В первом случае – «Свод лазурный, томный ропот Чуть дробимыя волны, Померанцев, миртов шепот И любовный свет луны…»; во втором – «Сладок мне твой тихий шепот, Полный ласки и любви; Внятен мне и буйный ропот, Стоны вещие твои» («Ты, волна моя морская…»). Вполне справедлива и отмеченная В. Сахаровым параллель между поздним стихотворением Тютчева «Ю. Ф. Абазе» и пьесой Козлова 1830 года «К певице Зонтаг». Однако отмеченные переклички – лишь верхушка айсберга.
Кажется, что строки из козловского послания «К другу В(асилию) А(ндреевичу) Ж(уковскому) по возвращении его из путешествия» (1822) дважды отзываются в тютчевской лирике. В первый раз – в тексте рубежа 40—50-х «Святая ночь на небосклон взошла…». Вот Козлов:
Когда же я в себе самом,
Как в бездне мрачной погружаюсь, —
Каким волшебным я щитом
От черных дум обороняюсь!
А вот – программные строки Тютчева:
На самого себя покинут он —
Упразднен ум и мысль осиротела.
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела…
Здесь – не только красноречивое совпадение в лексико-грамматическом строе и образах, существо дела сложнее и интереснее: в тексте 1822 года уже была обозначена та грандиозная проблема трагического бытия Личности, столкнувшейся лицом к лицу с бездной мировой жизни и осознавшей бездну в себе самой, которая станет одной из фундаментальных для поэзии Тютчева в целом. В обоих произведениях мотив бездны (бездонности) внутреннего мира соседствует с иным традиционно-романтическим мотивом хотя и прекрасного, но невозвратимого сна: в послании – «О, для чего ж в столь сладком сне Нельзя мне вечно позабыться! И для чего же должно мне Опять на горе пробудиться!»; в философском этюде Тютчева – «И чудится давно минувшим сном Ему теперь все светлое, живое, И в чуждом, неразгаданном, ночном Он узнает наследье родовое». (Кстати сказать, весьма близкое с тютчевским финалом обнаружится и в послании: «И то, что есть, казалось мне Давно минувшею мечтою».)
Еще один отзвук стихотворения Козлова слышится в тютчевской пьесе той же поры «Не рассуждай, не хлопочи!..» Финальные ее строки – «Чего желать? О чем тужить? День пережит – и слава Богу!» Проблема «пережитой жизни», типично тютчевская, после обрушившейся слепоты занимает важнейшее место и в центральной части послания Козлова к Жуковскому, причем в сходном словесном оформлении:
Но как навек всего лишиться?
Как мир прелестный позабыть?
Как не желать, как не тужить?
Живому с жизнью как проститься?
На фоне этих вопросов тютчевский финал выглядит как полемически заостренная реакция на когда-то сказанное предшественником.
Еще одно стихотворение Козлова, оказавшее конкретное влияние на позднюю любовную лирику Тютчева, – «Воспоминание 14-го февраля». Оно посвящено памяти А. А. Воейковой и начинается так:
Сегодня год, далеко там, где веет
Душистый пар от Средиземных волн,
Где свежий мрак по их зыбям лелеет
Любви младой дрожащий, легкий челн (…)
Далеко там она с себя сложила
Судьбы земной печаль, ярмо и страх;
Тяжелый крест прекрасная носила,
Цветы любя, с улыбкой на устах…
В первую очередь этот фрагмент воспринимается как прямой предшественник тютчевской пьесы 1865 года «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло…». Сближение не только в подобии зачинов, подчеркнутом и началом второго тютчевского четверостишия: «И вот уж год, без жалоб, без упреку…». Сама тема – воспоминание об умершей в годовщину ее смерти – роднит эти произведения. Если гипотеза о важности доя Тютчева середины 60-х годов строк Козлова правомочна, то в качестве соотнесенного с «Воспоминанием 14-го февраля» можно рассматривать и финал трагедийного «денисьевского» монолога 1864 года «Утихла биза… Легче дышит…»:
Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там – в родном краю —
Одной могилой меньше было…
У Козлова – мотив родственный: «И нет ее, – и над ее могилой Трава и дерн лишь смочены росой (…) Бесценный прах и сердцу вечно милый Как бы один лежит в земле чужой, И плачу я, и дух мой сокрушенный Тоска влечет к могиле незабвенной». Другое дело, что Тютчев предлагает очевидную пространственную инверсию: у Козлова – «назабвенная» могила в Италии, именно в той «земле чужой», где была похоронена не только Воейкова, но и Элеонора Ботмер; в тютчевской же пьесе ситуация обратная: последний приют Денисьевой – на Волковом кладбище в Петербурге, «в родном краю», а память о ней преследует поэта как раз на чужбине, «на берегу женевских вод», в виду сияющей Белой горы.
В творчестве Козлова были намечены многие из заповедных тютчевских тем, прежде всего – темы отчаянной борьбы человека с беспощадной судьбой, одоления смертельной тоски индивидуального существования, бессилия слова. Вполне «по-тютчевски» звучат, например, следующие строки Козлова из его послания 1832 года «Графу М. Виельгорскому»:
Когда же вьелончель твой дивный,
То полный неги, то унывный,
Пробудит силою своей
Те звуки тайные страстей,
Которые в душе, крушимой
Упорной, долгою тоской,
Как томный стон волны дробимой,
Как ветра шум в глуши степной?
В них странные очарованья, —
Но им, поверь, им нет названья;
Их ропот, сердцу дорогой,
Таит от нас язык земной.
Нет нужды подробно аргументировать, насколько близок пафос этих строк известнейшим тютчевским текстам («Silentium!», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим…» и т. п.).
В свете высказанных наблюдений естественно предположить особенное внимание Тютчева к центральному произведению в творчестве Козлова – поэме «Чернец». Поэма была опубликована в 1825 году с предисловием В. А. Жуковского и получила колоссальный резонанс как в читательских, так и в собственно литературных кругах. «"Чернец" полон чувства, насквозь проникнут чувством – и вот причина его огромного, хотя и мгновенного успеха»,[355]355
Белинский В. Б. Поли. собр. соч. T. V. М… 1954. С. 70.
[Закрыть] – писал позднее В. Г. Белинский. В поэме Козлова были с хрестоматийной ясностью и последовательностью воплощены основные характеристики романтической поэмы первой трети XIX века: острота и динамизм конфликта, трагическая исключительность судьбы главного героя, пунктирность сюжета, исповедальность тона, наконец, самим автором провозглашенная связь (почти самоотождествление) с центральной фигурой. Уже во вступлении Козлов писал:
Как мой Чернец, все страсти молодые
В груди моей давно я схоронил;
И я, как он, все радости земные
Небесною надеждой заменил.
В. Сахаров пишет по этому поводу: «Поэма Козлова воспринималась большинством современников именно как развернутая сюжетная элегия».[356]356
Сахаров В. Указ. соч. С. 73.
[Закрыть] Мы полагаем, что в числе этого «большинства», обратившего внимание прежде всего на лирическую основу «Чернеца», был и Тютчев. Судя по всему, он познакомился с поэмой еще в 1825 году, когда находился, с лета по конец декабря, в отпуске на родине. Если вопрос о воздействии «Чернеца» на лермонтовское творчество достаточно освещен в исследовательской литературе, то реакции на поэму Козлова в тютчевской лирике практически не исследованы. Быть может, первый отголосок можно обнаружить уже в «Проблеске». Речь идет о тринадцатой и, отчасти, четырнадцатой главках поэмы. Герой в предсмертной исповеди повествует о видении давно умершей возлюбленной с «младенцем на руках»: «"Она!., прощен я небесами!" И слезы хлынули ручьями. Я вне себя бросаюсь к ней, Схватил, прижал к груди моей… Но сердце у нее не бьется, Молчит пленительная тень… И руки жадные дрожали И только воздух обнимали…» Конечно, такая пластика была весьма распространена в русской поэзии начала века, и все-таки возможно говорить о конкретно-исторической связи с этими стихами четвертой – центральной – строфы «Проблеска»:
О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.
Эта догадка тем более правомочна, что финал поэмы начинается стихом: «Два дни, две ночи он томился…» и т. д. Иначе говоря, герой поэмы после последнего усилия обрести утраченное счастье оказывается в том состоянии, о котором сказано и в финале тютчевского стихотворения: «…Вновь упадаем не к покою, но в утомительные сны». О близости свидетельствует и логическая структура текстов, и лексика – особенно выразительно совпадение в стихах «Схватил, прижал к груди моей…» и «Прижать к груди своей хотим». Безусловно, под пером Тютчева фрагмент поэмы «освобождается» от подробностей эпического толка, мысль доводится до предельного обобщения, индивидуальное козловское я замещается универсализирующим тютчевским мы. Но учет поэмы Козлова, несмотря на все отмеченные различия, все же способен обогатить наше представление не только о сложной реминисцентной структуре стихотворения «Проблеск», но и о том национальном опыте, от которого отталкивался и с которым соотносился Тютчев в пору своего творческого становления.
Однако намного важнее для Тютчева оказался опыт Козлова-лирика позже, в 1850—1860-е годы, и именно в связи с «денисьевским» циклом. Более чем вероятна оглядка на козловские «Стансы» (1834) в концовке потрясающего тютчевского монолога-воспоминания 1865 года «Есть и в моем страдальческом застое…». Вот более ранний текст:
О жизнь! теки: не страшен мрак могилы
Тому, кто здесь молился и страдал,
Кто, против бед стремя душевны силы,
Не смел роптать, любил и уповал.
А вот – написанный двумя десятилетиями позднее:
…По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе, —
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.
И тема, и метрический рисунок (пятистопный ямб), и словарь, где совпадают по существу все элементы рядов: молился – страдал – любил – уповал (Козлов) и страдать – молиться – верить – любить (Тютчев), и место в структуре целого (итоговое обобщение), и – главное – сам пафос утверждения жизни как подвига стойкости в отчаянной борьбе с судьбой – все доказывает неслучайность предложенной параллели. У Тютчева были и дополнительные основания по-особенному внимательно отнестись к «Стансам» 1834 года. В символах этого стихотворения явно просматривается связь с предисловием Жуковского, предпосланным первому изданию «Чернеца». Жуковский, в частности, писал: «Несчастье… можно сравнить с великаном, имеющим голову светозарную и ноги свинцовые. Кто сам высок, или кто может возвыситься, чтобы посмотреть прямо в лицо сему ужасному посланнику провидения, – тот озарится его блеском, и собственное лицо его просветлеет; но тот, кто низок, или кто, ужаснувшись ослепительного света, наклонит голову, чтобы его не видать, – тот попадет под свинцовые ноги страшилища и будет ими раздавлен или затоптан в прах» Центральные строфы «Стансов», как известно, парафраз этого фрагмента:
Оно – гигант, кругом себя бросая
Повсюду страх, и ноги из свинца,
Но ярче звезд горит глава златая
И дивный блеск от светлого лица.
Подавлен тот свинцовыми ногами,
Пред грозным кто от ужаса падет,
Но, озарен, блестит его огнями,
Кто смело взор на призрак возведет.
Нет надобности специально оговаривать, насколько важны для Тютчева эти идеи и настроения по меньшей мере с конца тридцатых годов, тем паче – в середине шестидесятых. В тютчевской пьесе 1865 года имеется еще одно место, напоминающее уже непосредственно о «Чернеце». В концовке восьмой главы поэмы читаем: «И горе было наслажденьем, Святым остатком прежних дней; Казалось мне, моим мученьем Я не совсем расстался с ней». Думается, эта строфа из исповеди Чернеца – непосредственный литературный предшественник – ив теме, и в образе, и в остроте психологического решения – пронзительных строк из тютчевской молитвы:
…Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней…
Между тем не только поздние фрагменты «денисьевского» цикла отмечены влиянием поэмы Козлова, но и его зачин. Пятая глава «Чернеца» завершается стихами:
Сбылося в ней мое мечтанье,
Весь тайный мир души моей, —
И я, любви ее созданье,
И я воскрес любовью к ней.
Эта строфа и темой, и просодией, и рифмовкой, и лексическим составом чрезвычайно напоминает первый катрен тютчевской пьесы 1851 года:
Не раз ты слышала признанье:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней…
Третий стих Тютчева вообще кажется зеркальным отражением третьего же стиха в четверостишии Козлова. Впрочем, перед нами – именно «зеркало»: Тютчев, обращаясь к тексту предшественника, по-своему «цитируя» его, одновременно решительно меняет смысл «цитаты». У Козлова герой ощущает себя «созданьем», то есть результатом прекрасной и жертвенной любви безымянной героини; у Тютчева, напротив, именно он, «герой», осознает себя создателем, творцом всепоглощающего женского чувства, демиургическая инициатива принадлежит именно ему, а не ей. (В этом плане крайне показательна форма обращения Денисьевой к Тютчеву: «Мой Божинька».) По воспоминаниям А. И. Георгиевского, увлечение Тютчева Денисьевой «вызвало с ее стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и все его существо…».[357]357
Литературное наследство. Т. 97, кн. 2. М., 1989. С. 108.
[Закрыть]
Таким образом, в рамках стихотворения «Не раз ты слышала признанье…» формируется реминисцентная структура, в которой сопрягаются мотивы двух наиболее заметных русских «байронических» поэм начала двадцатых годов XIX века – «Кавказского пленника» и «Чернеца». Обе поэмы, при всей несоизмеримости их художественного совершенства и степени влияния на развитие национальной традиции, каждая по-своему, разрабатывали остро-трагическую версию романтического чувства. Но если порождаемые пушкинскими аллюзиями ассоциации объективно ведут к укоренению в миниатюре христианского плана – Мадонна, склонившаяся над колыбелью, то отсылка к поэме Козлова, наоборот, актуализировала ассоциации иные, античные, ибо в самом сжатом виде воспроизводила в сознании читателя ситуацию мифа о Пигмалионе и Галатее. Последний же, как мы постараемся показать далее, играет немалую роль в становлении «денисьевского» цикла в целом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































