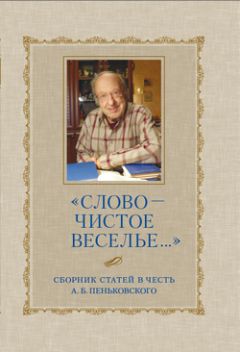
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 50 страниц)
Е. В. Красильникова
Природа, море, река
Материалы к словарю Н. А. Заболоцкого
Природа, море, река – эти три слова принадлежат к группе частотных в поэзии Н. А. Заболоцкого
Природа – 86
Море – 45
Река —37[168]168
Эти данные о частоте извлечены из алфавитного словоуказателя, составленного М. В. Найденовой по изданию: Н. А. Заболоцкий. Библиотека поэта. Большая серия. М.; Л., 1965. Подсчет текстов произведен нами. Красітъникова Е. В. Об устойчивом и изменчивом в языке поэзии Н. А. Заболоцкого // Язык русской поэзии XX века. М., 1989. С. 236.
[Закрыть]
Нам близка мысль А. Б. Пеньковского о том, что, изучая «тайны индивидуального творчества» поэтов, нужно приближаться к тому, чтобы стать «насколько возможно частью их мира» [Пеньковский 2005: 12].
Поэт[169]169
Мы сохраняем пунктуацию текстов Н. А. Заболоцкого по публикациям: ЗаболоцкиііН. Столбцы. Л., 1929; ЗаболоцкиііН. Столбцы и поэмы. Стихотворения. Т. 1. М., 1972.; ЗаболоцкиііН. А. Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1991.
[Закрыть] не однажды говорит о многообразии форм природы: моря – реки; моря – земля; моря – небо; река – небо; реки – горы; степи, деревья.
И вот — через моря и реки,
просторы, площади, снега;
Лишь здесь я познал превосходство морей
Над нашею тесной землей;
Только море, только сон,
Только неба синий тон.
Река, переливаясь под обрывом,
Все также привлекательна на вид,
И небо в сочетании счастливом,
Обняв её, ликует и горит.
Провозглашая славный век
Больших деревьев, длинных рек,
Прохладных гор, степей могучих
В поэме «Птицы» создана обширная картина.
Если бы воля моя уподобилась воле Природы,
если бы слово мое уподобилось вещему слову,
Если бы все, что я вижу — животные, птицы, деревья,
камни, реки, озера, – вполне однородным составом
чудного тела мне представлялись – тогда, без сомненья,
был бы я лучший творец…
Границы этой картины запечатлены в «Деревьях»:
А на краю природы,
На границе живого с мертвым,
умного с тупым
Цветут растений маленькие лица,
Растет трава, похожая на дым.
Природа как целое сравнивается с человеком. В этом уподоблении появляются части его тела.
И вся природа мертвыми руками
Простерлась к ним, но, брошенная вспять,
Горой отчаянья легла над берегами
И не посмела головы поднять
Заковывая холодом Природу,
Зима идет и руки тянет в воду.
Взгляд на природу меняется в разные периоды творчества Н. Заболоцкого. В «Торжестве земледелия», вначале в «Прологе», природа появляется в алогичном тексте: Тут природа вся валялась в страшно диком беспорядке. Далее сталкиваются разные сознания:
мужика:
Природа меня мучит,
Превращая в старика;
старика:
Ныне, братцы, вся природа
Как развалина какая!
пастуха:
Вся природа есть обитель.
Я ж природы конуру вместо дома изберу;
и солдата:
Уверяю вас, друзья:
Природа ничего не понимает
И ей довериться нельзя.
И далее солдат учит животных; в результате меняется их сознание: Смутные тела животных (бык, корова, конь) разговор вели свободный, Душой природы овладев.
В поэме возникает наиболее глубокое противоречие между солдатом и предками. По автору, «солдат председатель многополья и природы коновал». Для предков он «дитя рассудка». Предки прямо говорят ему: «Ты дурак, жена не дура, Но природы лишь сосуд».
Таким образом, «Торжество земледелия» представляет борьбу разных сознаний. Есть еще один образ – Хлебникова, который в то время вызывал глубокое поклонение поэта.
Так человек, отпав от века,
Зарытый в новгородский ил,
Прекрасный образ человека
В душе природы заронил.
В стихотворении «Все что было в душе» запечатлено диалектическое представление о живой связи природы и человека. Линия от «книги к природе» варьируется как отношение изображения, рисунка, чертежа к растению, цветку, кузнечику.
И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
Где на первой странице растения виден чертеж.
И черна и мертва протянулась от книги к природе
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.
«Мысли движенье» метафоризируется в жизни цветка:
И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье;
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось.
Завершается стихотворение торжественным апогеем:
И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.
Предикаты при слове природа в стихотворениях Н. Заболоцкого очеловечены:
И природа внезапно проснулась;
И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело;
Когда минует день и освещенье
Природа выбирает не сама;
И мы должны понять,
Что это есть значок,
который посылает нам природа,
вступившая в другое время года;
Не меч ты поднимешь сегодня, природа,
Но школьный звонок над щитом Кухулина;
Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня;
Печальный день! Природа вековая
Из тьмы лесов смотрела на меня;
Природа смотрит как бы с неохотой
На нас, неочарованных людей.
Природа – активная среда. Автор и герои общаются с ней, она выступает их собеседником, адресатом.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга;
Имею частые с природой разговоры;
Деревья, вас зовет природа.
Человек и в языке – ученик природы.
Живой язык, проснувшейся природы
Здесь учит нас основам языка.
Как писал сын поэта H. Н. Заболоцкий, тяжелым переживанием для Николая Алексеевича было осознание, что «в основе мироздания он обнаружил взаимное подавление, жестокость, смерть» [Заболоцкий 1984: 37]. Поэт в стихотворении «Прогулка» (1929) говорит: равномерное страдание – удел животных, речка то смеется, то рыдает, вся природа улыбнулась, как высокая тюрьма.
Трагическое, философское начало в понимании природы звучит в нескольких стихотворениях.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие;
Я не ищу гармонии в природе,
Разумной соразмерности начал;
И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело.
И не мила ей дикая природа,
Где от добра неотделимо зло.
Есть в расцвете природы моей
Кратковременный миг пресыщенья;
Лишь смертельного зноя пятно
Различит, замирая, природа;
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла;
Сказания народа,
Их мудрость темная, но милая вдвойне,
Как эта древняя могучая природа.
С младенчества запали в душу мне.
Субъективные переживания, ощущения автора выражены в текстах:
Но в яростном блеске природы
Мне снились московские рогци.
Казалось, в небо бросила природа
Всю ярость красок, собранную в ней.
И природа в болезненном мраке
Не похожа сама на себя.
Прощание
В холодных садах Ленинграда,
Забытая в траурном марше,
Огромных дубов колоннада
стояла, как будто на страже.
Казалось, высоко над нами
Природа сомкнулась рядами
И тихо рыдала и пела,
Узнав неподвижное тело.
Зимняя природа севера получает определение мертвая. Но главная постоянная характеристика её — жива.
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него;
(Седов)
И вся природа мертвыми руками
Простерлась к ним;
(Север)
Жива природа. Жив среди камней
И злак живой, и мертвый мой гербарий.
(Метаморфозы)
H. A. Заболоцкий очень дорожил впечатлениями, внушенными природой, у него есть замечательные пейзажи и зарисовки:
И все чудесное и милое растенье
Напоминало каждому из нас
Природы совершенное творенье
Для совершенных вытканное глаз.
Она горит, твоя звезда, природа,
И вместе с ней душа моя горит.
И в голоса нестройные природы
Уже вплетался первый стройный звук,
Когда крестьяне, созерцая
Природы стройные холмы…
Устойчивый эпитет стройный и его производные у поэта всегда несут положительную окраску.
«Первая попытка сопоставить психологическое состояние с явлениями внечеловеческой природы относится к 1936 году, когда было написано стихотворение "Засуха"» [Заболоцкий 1984: 55]. «Наиболее ярким проявлением этой тенденции к дифференциации душевной природы человека и окружающей его природы явилось одно из последних стихотворений Заболоцкого – "На закате". В этом стихотворении – совершенно необычное для Заболоцкого противопоставление двух миров – внутреннего, душевного мира человека и внешней природы, так сказать, среды обитания человека» [Там же: 86].
Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.
Обратимся теперь к слову море.
В названиях стихотворений слово море с его падежными формами и производными встречается четырежды: Море, Вопросы к морю, Над морем, Морские прогулки.
В первом стихотворении, кроме названия, оно появляется в строке: Чернело море в пароход, где речь идет о пространстве на воде, заслоненном пароходом.
Сквозные темы стихотворения — волны и шторм.
1. И волны на его дорожке,
как бы серебряные ложки, стучали.
Как слепые кошки,
мерцая около бортов,
бесились весело.
Из ртов,
из черных ртов у них стекал
поток горячего стекла.
Прожектор волны надавил, и, точно
каменные бабы, они ослепли.
Три сравнения здесь резко разнородны. Далее волны появляются только в конце стихотворения: На волнах шел румянец.
Слово шторм появляется в I и II строфах, в сочетании с антонимическими предикатами:
2. И шторм кружился в буйном вальсе;
Шторм упал.
В нескольких текстах перекликаются корни мор- и мир-.
И я стою – от света белый,
я в море черное гляжу,
и мир двоится предо мною
на два огромных сапога.
Я вижу – ты плывешь морями
граненым вздернутым копьем.
Где раньше бог клубился чадный
и мир шумел – ему свеча;
А мир, зажатый плоскими домами,
стоит, как море, перед нами,
Грохочут волны мостовые;
Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир;
И в одном случае звуковое сближение море – морда.
Море! Море! Морда гроба!
Вечной гибели закон!
Отметим метафорические генитивные словосочетания:
Разрезав моря каменную груду,
Флотилии огромных ледоколов
Необычайный вырубили путь;
Под великой одеждою моря,
Подражая движеньям людей,
Целый мир ликованья и горя
Жил диковинной жизнью своей.
и сравнение
где море поет,
подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде;
Об этих тропах см. [Кожевникова 1995: 37–38].
В стихотворении «Вопросы к морю» море может быть отнесено к родовому статусу [Падучева 1985: 97–98].
Хочу у моря я спросить:
Для чего оно кипит,
Пук травы зачем висит,
Между волн его сокрыт?
К этому статусу, на наш взгляд, приближается и слово следующего контекста: Он в море был явленьем смысла (он = электроход).
Море используется метафорически в сочетаниях море труб, море светляков, море радости:
Мир
Во всей его живой архитектуре —
Оргáн поющий, море труб, клавир;
Где море светляков горит над бездной ночи.
И волны в берег бьют, рыдая на лету;
Кратковременной радости море
Окружало любовников тут.
Только однажды в стихотворениях Заболоцкого встречается название моря: Эгейское. В сюжетах, связанных с местами, где бывал поэт, несколько названий
Блуждая над просторною Невою;
Качалась Невка у перил;
Вечер на Оке;
Нас ветер бил с, Амура и Аргуни;
На двух Арагвах пели соловьи;
Над Курою огромные звезды горят;
Струи Арагвы и Куры;
Имя реки в сочетании со сравнением появляется в стихотворении «Бегство в Египет».
И светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил;
Ср. в «Бродячих музыкантах».
Звук самодержавный,
Глухой, как шум Куры,
Роскошный, как мечта,
Пронесся…
Метонимично название реки употреблено в стихотворении «Черкешенка».
Но Терек мечется в груди,
Ревет в разорванные губы.
Кроме собственных имен – названий рек, к ведущим образам поэзии Заболоцкого принадлежит нарицательное река. Например, в стихотворении «Начало зимы», которое проникнуто метафорической темой умирания замерзающей реки: река чует «смертный час»; волн «предсмертные черты».
И если знаешь ты,
Как смотрят люди в день своей кончины,
Ты взгляд реки поймешь.
Уже до середины смертельно почерневшая вода.
И речка, вероятно, еле билась,
Затвердевая в каменном гробу.
В первом восьмистишии передано эмоциональное потрясение от неожиданного впечатления:
Речки страшный лик
Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.
Далее человек входит в состояние реки:
Река дрожит и, чуя смертный час,
Уже открыть не может томных глаз,
И все ее беспомощное тело
Вдруг страшно вытянулось и оцепенело.
И, еле двигая свинцового волной,
Теперь лежит и бьется головой.
Завершают второе восьмистишие слова, несущие философское осмысление происходящего:
Я наблюдал, как речка умирала,
Не день, не два, но только в этот миг,
Когда она от боли застонала
В ее сознанье, кажется, проник
В печальный час, когда исчезла сила,
Когда вокруг не стало никого,
Природа в речке нам изобразила
Скользящий мир сознанья своего.
И уходящий трепет размышленья
Я, кажется, прочел в глухом ее томленье.
Передано самосознание природы. Повторим: «Природа в речке нам изобразила скользящий мир сознанья своего». В концепции мира поэта появился новый аспект – мир сознания природы. Этот шаг должен быть осмыслен в системе его мировоззрения.
В 1928 г. написано стихотворение «Купальщики», в начале которого слово река стоит в прямом значении, но далее через отрицание поэт идет к истинной сущности, которая выражена метафорически: река — святая Парасковъя.
О, река, невеста, мамка,
всех вместившая на лоне,
ты – не девка и не самка,
но святая на иконе!
Ты – не девка и не мамка,
но святая Парасковья.
(Столбцы 1929 г.)
Позднее появилась замена: «Ты не девка – полигамка».
В раннем стихотворении «Сердце—пустырь» (1921–1922) с образом реки ассоциативно связаны метафоры трагических образов.
О, река, невеста мертвая,
Грозным покоем глубокая,
Венком твоим желтым
Осенью сохнет осока.
Я костер на твоем берегу
Разожгу красным кадилом,
Стылый образ твой сберегу,
Милая.
Прозрачней лунного камня
Стынь, сердце-пустырь.
Точно полог, звездами затканный,
Трепещет ширь.
О, река, невеста названная,
Смерть твою
Пою.
Слово река вступает в метафорические сочетания:
Там реки струилась прядка;
Вы слышите, как перед зеркалом речек,
Под листьями ивы, под лапами ели;
Оргáнам скал давал он вид забоев,
Оркестрам рек – железный бег турбин;
Грудью стылой лежит
Реки обнаженный бассейн;
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светла;
Связь образов речка-девочка появляется в стихотворении «Прогулка»:
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеется, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
В сравнениях и метафорах река встретилась в следующих текстах:
Вся она как будто тучка,
Платье вроде как река.
(Торжество земледелия)
Но перед сомкнутым народом
Иная движется река:
Один – сапог несет на блюде,
другой (…)
(Обводный канал)
Ты прошел по земле, как великий гладиатор мысли.
Ты – первый взрыв цепей!
Ты – река, породившая нас!
(Безумный волк)
Природа, море и река наделяются музыкальными характеристиками.
Природа пела. Лес, подняв лицо,
Пел вместе с лугом. Речка чистым телом
Звенела вся, как звонкое кольцо;
Где море поет, подперев небосклон;
И синее, синее море
У берега бешено пело;
И вдруг, утробным воем воя,
Все море вспыхнуло вдали;
Природа в стройном сарафане,
Главою в солнце упершись,
Весь день играет на органе.
Мы называем это: жизнь.
Как будто, пробуя лесные инструменты,
Вступал в природу новый дирижер;
И в голоса нестройные природы
Уже вплетался первый громкий звук;
Здесь море – дирижер, а резонатор – дали,
Концерт высоких волн здесь ясен наперед.
Закончу первой и последней строфой стихотворения «Вчера о смерти размышляя»:
Вчера о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
Из тьмы лесов смотрела на меня.
И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль её! Но зыбкий ум её!
Последние две строки содержат тему, которой нужно посвятить отдельное исследование.
Список литературыПеньковский 2005 — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря. Опыт филологической герменевтики. М.: Языки славянских культур, 2005.
Заболоцкий 1984 — Заболоцкий Н. Взаимоотношения человека и природы в поэзии
Н. А. Заболоцкого //Вопросы литературы. 1984. № 2. С. 31–52.
Кожевникова 1995 — Кожевникова Н. А. Очерки истории языка русской поэзии XX века.
Образные средства поэтического языка и их трансформация. Т. 4. М., 1995. С. 37–38.
Падучева 1985 —Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. С. 97–98.
II
Художественный текст: генезис, структура, поэтика
С. Г. Бочаров. Генетическая память литературы
Александру Борисовичу Пеньковскому, у которого мы учимся читать роман «Евгений Онегин» в оригинале, то есть на пушкинском языке[170]170
В отличие от пушкинистов, о которых писала Л Я. Гинзбург со ссылкой на «кого-то», но несомненно от себя: «Кто-то сказал: „Пушкинисты никогда не читают Пушкина в оригинале“» (Л. Гинзбург. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 148).
[Закрыть]
«Бывают странные сближенья» – это пушкинское и наш брат филолог может вспомнить при встречах с загадочными случаями в истории литературы. Это такие «странные сближенья» более или менее удаленных друг от друга в пространстве и времени произведений и текстов, сближения, какие невозможно или трудно объяснить прямым влиянием текста на текст и сознательной целью писателя. В этих случаях не работают такие привычные объяснения и понятия, как источники, влияния, традиция, цитата, и остается одно объяснение — совпадение. Теория начала присматриваться к этим случаям с 20-х годов XX века – одновременно у нас и на Западе Тынянов,[171]171
В статье «Литературная эволюция» (1927), рассматривая «вопрос о „влиянии“»: «Всего же поразительнее факт наличия внешних данных для заключения о влиянии – при отсутствии его (…) Перед нами факты конвергенции, совпадения» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М… 1977. С. 280).
[Закрыть] Юнг и Бем, а во второй половине века Бахтин, французский структурализм и наши недавние современники Панченко и Топоров.
А. М. Панченко моментальным броском через четыре века связал описание Куликовской битвы в «Сказании о Мамаевом побоище» с Бородинским полем в стихотворении Лермонтова. Там в татарском стане в ночь перед битвой шум, веселье и крики, в русском полку великая тихость. В «Бородине» у поэта, как все помнят, в такую же ночь француз ликовал до рассвета, но тих был наш бивак открытый… Прямое совпадение деталей удивительное, заключает Панченко, при том что заимствование исключено – древнерусского источника поэт XIX столетия еще как будто знать не мог.[172]172
Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 248. – Не учтенная А. М. Панченко поправка к этому утверждению: соответствующее место из описания битвы вошло в аппарат примечаний к V тому «Истории» Карамзина (примеч. 76): Карамзин H. М. История Государства Российского. T. V. М., 1993. С. 246. Конечно, Лермонтов читал Карамзина, но читал ли и помнил ли громоздкий обширнейший аппарат примечаний? Так или иначе, полагаем остроумную гипотезу Панченко о национальной топике как хранилище художественной и исторической памяти остающейся в силе.
[Закрыть] И притом, что в действительности, как реальную картину, это представить невероятно. Панченко называет это национальной топикой, а Бахтин, наверное, мог бы назвать своей знаменитой памятью жанра, русской воинской повести в этом случае. Враг хвастливый, заносчивый, гордый – наше воинство тихое, смиренное, готовое к жертве – так, наверное, можно определить нравственно-национальную идею топоса в этом случае. Еще десятилетия спустя после Лермонтова Блок скажет, что Куликовская битва принадлежит к символическим событиям нашей истории и «таким событиям суждено возвращение».[173]173
Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. М.; Л… 1960. С. 587.
[Закрыть] Но возвращение, получается, суждено и прямым подробностям их описания в литературе.
M. М. Бахтин для объяснения таких случаев ввел понятие культурно-исторической телепатии, «т. е. передачи и воспроизведения через пространства и времена очень сложных мыслительных и художественных комплексов… без всякого уследимого реального контакта».[174]174
Бахтин M. М. Собр. соч. Т. 6. М… 2002. С. 323.
[Закрыть] А В. Н. Топоров нашел другую метафору, другое уподобление из другого цикла наук (метафоры заимствуются из наук естественного цикла, как правило) – резонанс – и наметил картину литературы как резонантного пространства, эха по-пушкински.[175]175
Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. T. II. М., 2001. С. 125.
[Закрыть] Наконец, совсем недавно И. Б. Роднянская, комментируя эти собранные мною в опубликованной статье уподобления и метафоры, предложила еще одну – заговорила о единой кровеносной системе культуры, какая через десятилетия, а то и века по своим невидимым нашему исследовательскому глазу капиллярам переносит некие «логосы» и «гештальты» от одного творческого сознания к другому, что по философскому существу отлично как от позитивной компаративистики, так и от модных операций с интертекстуальностью.[176]176
Новый мир. 2007. № 6. С. 209.
[Закрыть]
Вот таким образом комментарий этот определяет действующих на теоретическом поле персонажей и сил, к которым надо присоединить еще из 20-х годов юнгианскую глубинную психологию и бемовскую идею литературного припоминания. В этой последней наша мистика странных сближений-совпадений возводится к общему основному понятию памяти, но памяти особого рода – здесь важно, как Бем формулирует и какое слово так удачно находит. Припоминание – не цитирование и не простое воспоминание, это платоновский термин. Именно этот оттенок значения хотят передать русские переводчики Платона, когда переводят его anamnesis как не просто воспоминание, а именно припоминание. Бем писал о Достоевском, что этот автор, «может быть, и сам того не сознавая», постоянно бывал «во власти литературных припоминаний».[177]177
Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 104.
[Закрыть] Он видел Достоевского в этом как бы сомнамбулическом состоянии спонтанного и полуосознанного припоминания, в том состоянии, в какое Сократ в диалогах Платона погружал своих собеседников, открывая им, что знание есть припоминание того, что душа уже знает, не сознавая того – как и Достоевский у Бема (может быть, и сам того не сознавая!). Достоевский бывал во власти таких состояний. Как поэтическую аналогию своей идее Бем вспоминал гоголевскую Катерину из «Страшной мести», у которой душа ее в сновидении знает то, чего не знает сама она.[178]178
Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 309.
[Закрыть]
У Бема много примеров из Достоевского в этом состоянии. Можно присоединить еще один – из «Великого инквизитора». Как все помнят, там инквизитор произносит свой монолог перед молчащим Христом. Он обращается к Спасителю как сеятелю свободы и демонстрирует исторический результат его проповеди свободы как полную неудачу: «Не ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас свободными". Но вот ты теперь увидел этих «свободных» людей». И дальше он говорит: «И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо».
Но все это было предсказано – предсказано текстуально, буквально – одним стихом из кишиневского пушкинского стихотворения 1823 г.: К чему стадам дары свободы? Два ключевые слова – «свобода» и «стадо» – будут так же работать в связке в будущем тексте.
Выходит, пустынный сеятель Пушкина заранее описал мир великого инквизитора, и обратно – инквизитор у Достоевского описал лирическую историю сеятеля у Пушкина: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы…» Разве не так пушкинский сеятель шел в мир с голыми руками – и что из этого вышло?
Означает ли это, что Достоевский скрыто Пушкина здесь цитировал? Наверное, нет, скорее, по своему обыкновению, он его творчески припоминал. Вспоминал ли стихотворение при создании «Инквизитора», мы не знаем, он известия нам не оставил. Но текст «Великого инквизитора» пушкинское стихотворение помнит. Текст Достоевского помнит, а помнил ли сам Достоевский, этого мы не знаем.
Припоминание получилось при этом парадоксальное. Ведь у Пушкина говорит герой Евангелия, с эпиграфом к стихотворению из Евангелия, – вернее, его alter ego в пушкинской современности, кто-то вроде его романтического апостола в современности. У Достоевского говорит его антагонист-узурпатор. Но аргументы пушкинского сеятеля он текстуально воспроизводит. Тоталитарный герой Достоевского текстуально совпадает с пушкинским сеятелем свободы. Сеятель же свободы евангельский у Достоевского молчит. В большом тексте русской литературы происходят такие сдвиги: лирический монолог пустынного сеятеля превращается в молчание Христа, риторическая же энергия его обличительной речи у Пушкина перешла в риторически изощренный монолог инквизитора.
Как лирическая строчка Пушкина перелетела в идейную конструкцию Достоевского? В кровеносной системе литературы по каким капиллярам передалась? Такие случаи и порождают гипотезу о сверхличной идейно-художественно– наследственной — генетической памяти литературы. Словно ее наследственный генетический код. В горько-озлобленном стихотворении молодого Пушкина открылась тема, которая продолжала работать, потаенно работать и развиваться в смысловом пространстве литературы, в ее резонантном, по Топорову, пространстве. Поэма об инквизиторе в этом общем литературном пространстве резонирует стихотворению Пушкина — резонирует скорее, чем его цитирует. Заложенная же в речь инквизитора память оказывается тем более глубокой, чем более скрытой. Никто ведь столь интересного сближения-совпадения за сто с лишним лет не заметил.
Теоретические подходы к интересующему нас явлению удивительно разнообразны, о чем говорит разнообразие находимых разными авторами метафор, но все отличает один акцент – акцент на том, что Бахтин называл засознателъным в творчестве.[179]179
Бахтин M. М. Собр. соч. Т. 5. М… 1996. С. 111.
[Закрыть] В 20-е годы Юнг выступил против примитивного психоанализа своего учителя Фрейда как объяснения литературного творчества и создал в этой полемике свою мощную философию художественного произведения, вырастающего не из психологии автора, или из нее только в малой мере, но главным образом из предпосылок более объективных, из мифологической памяти – наверное, так можно определить его идею. «Творческое начало, коренящееся в необозримости бессознательного» – действующая сила, герой его мысли.[180]180
Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 125.
[Закрыть] 40 лет спустя на смену этой философии произведения как живого существа, напитавшегося соками из кровеносной системы культуры или чего-то поглубже ее, – на смену ей пришла у французов механическая теория текста, тоже с акцентом на объективную, имперсональную силу, получившую прозвание интертекстуальности, а множественный безличный автор-субъект ее был назван по Евангелию, но отрицательно по Евангелию: «Текст же, в противоположность произведению, мог бы избрать своим девизом слова одержимого бесами: „Легион имя мне, потому что нас много“. Текст противостоит произведению своей множественной, бесовской текстурой…»[181]181
Барт Р. Избранные работы. М., 1989. С. 418.
[Закрыть] В этом программном тезисе Ролана Барта откровенно выговорен философский источник теоретического вдохновения, породившего идею «от произведения к тексту». Философия произведения Карла Густава Юнга имела другой источник.
Двух этих движений мысли XX века мы касаемся, разумеется, совершенно поверхностно, лишь поскольку оба имеют широкое отношение к нашей теме.
Для проверки же интертекстуальной теории годится одна строка из русской поэзии. Строка из поэта, у которого еще и другая строка послужила широкому, опять же, обоснованию нашей идеи об особого рода литературной памяти. В. Н. Топоров свое резонантное пространство формулировал с опорой на строку поэта; это явление в литературе, по Топорову, заложено в структуре человеческого существования вообще: «существованья ткань сквозная по самой своей идеерезонантна и порождает повторения-подобия… Потому и соотносимые с этой основой бытия тексты, сами являющиеся подобиями… тоже резонантны, т. е. способны не только воспроизводить, но и усиливать смысл, преодолевать энтропическую тенденцию».
Существованья ткань сквозная как та основа бытия, в какой заложено преодоление энтропической тенденции, преодоление энтропии.
Так вот – строка поэта, строка известная:…и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе. На пире Платона во время чумы.
Первое исследование этого безумного наворота было предпринято уже довольно давно Еленой Рабинович, и наворот был назван, естественно, совпадением: «Такого рода совпадения не единичны в истории литературы, но их причины лежат в неисследованных еще областях психологии творчества и теории жанров».[182]182
Античность и современность. М., 1972. С. 470.
[Закрыть] Это указание на неисследованные еще области было тогда, в 1972-м, безусловно верным. Далее в статье Марии Виролайнен (1998), шла также речь о «гениальном совпадении с архетипом» – пушкинского пира с платоновским: «в экстремально-экзистенциальных условиях на диспуте-пире решался вечный вопрос „Федона“».[183]183
Виролайнен М. Речь и молчание. СПб., 2003. С. 291, 310.
[Закрыть] Но ведь не просто совпадение перед нами, а именно головокружительный наворот.
Осенью 1930 г. поэт Пастернак увидел себя в вековом прототипе, к которому подключился ровно через сто лет после пушкинского к нему подключения через две тысячи с лишком лет. Сто лет и две тысячи лет. Применительно же к теоретическому вопросу, каким мы сейчас задаемся, можно сказать, что гигантская резонантная волна прокатилась и словно застыла в этой строке. Времена совместились, и точка этого совмещения, совпадения – роковой 1930-й — засознателъно для самого поэта, для которого лично это было лишь любовным поворотом жизни, насытилась историческим содержанием времени, и, видимо, прав Е. Абдуллаев, автор недавней весьма интересной статьи на тему стихотворения, что совпадение это в 30-м не было у Пастернака простым каламбуром или словесной игрой[184]184
Вопросы литературы. 2007. № 2. С. 208.
[Закрыть] (а при ином взгляде можно так и решить: так, современный поэт А. Пурин в пастернаковском навороте увидел просто свалку, «свалку культуры»[185]185
Там же. С. 190.
[Закрыть]).
Ирпень – это память о людях и лете… Всего лишь осенняя память о лете в первой строке, а в дальнейших строках на нее наворачивается и прессуется большая культурная память, в которой словно снимается время и совмещаются времена. Гигантская резонантная волна застывает в одной строке, и счастливое любовное стихотворение в год коллективизации и гибели Маяковского пишется в самом деле «во время чумы».
Поминавшийся Юнг смотрел на творческий акт как на «весть, обращенную к современникам», но прибавлял: «Опасно говорить о собственной эпохе, ибо слишком велик размах сил, вступивших сегодня в игру», уточняя в примечании, что это писано в 1929 г.,[186]186
Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 141–142.
[Закрыть] т. е. точно тогда, когда возникло стихотворение Пастернака, – накануне фашизма в Европе и в год, который будет назван годом великого перелома у нас. Упомянутая статья интересна тем, что вскрывает этот размах сил, вступивших в игру и в строках поэта присутствующих неявно. Уже у Платона были в сцеплении идеи «пира» и «государства», две платоновские идеи, и это сцепление передавалось далее через века, вольная анархия «пира» и ей наперекор репрессивная идея социальная, и вот эта чистая лирика читается на политическом фоне.
Ну, а интертекстуальность? Это словно показательно интертекстуальная строка — На пире Платона во время чумы. Но два совпадающих мира здесь – и третий, их обнимающий и в котором они совпадают, – они отчетливо сознаются в своей отдельности и в своей разграниченности – в чем именно и состоит эффект такого синтеза, наворота, – личные имена двух поэтов присутствуют, прямо одно, незримо другое, и дистанция сохраняется остро в этой словно бы в самом деле показательно интертекстуальной строке. Платон, Пушкин и Пастернак не теряют себя в интертексте. И мы также не в интертексте, мы в вековом прототипе – а это разница; и пастернаковская строка есть резонантное пространство огромной темы всей европейской литературы в предельном сокращении.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































