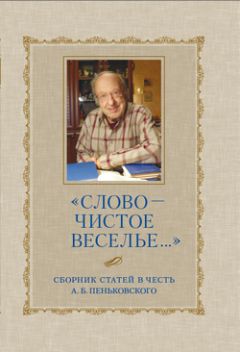
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 50 страниц)
Аванесов 1984 —Аванесов P. II. Русское литературное произношение. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1984.
Бошродицкий 1935 —Богородицкий II. А. Общий курс русской грамматики. М.; Л., 1935.
Борковский, Кузнецов 1965 —Борковский В. II, Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 1965.
Борунова 1996 —Борунова С. П. Воспоминания об учителе – В. И. Сидорове // ИАН СЛЯ. Т. 55. 1996. № 2.
Борунова 2004 — Борунова С. П. Еще о Владимире Николаевиче Сидорове // Отцы и дети Московской лингвистической школы. Памяти Владимира Николаевича Сидорова. М., 2004.
Будде 1908 — Будде Е. Ф. Очерк истории современного литературного языка (XVII–XIX век) // Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1908. Вып. 12.
Булаховский 1954 — Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., 1954.
Бурова 1975 — Бурова Е. Г. К вопросу о сочетании чн в русских говорах // Русские говоры. М., 1975".
Бурова 1986 — Бурова Е. Г. Карты 83–85 // Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. 1. Вступит, статьи. Справочные мат-лы. Фонетика. М., 1986.
Винокур 1948 —Винокур Г. О. Русское сценическое произношение. М., 1948.
Винокур 1959 — Винокур Г. О. К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII века (Словарь Академии Российской 1789–1794) //Избр. работы по русскому языку. М., 1959.
Виноградов 1938 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1938.
Востоков 1831 —Востоков А. X. Русская грамматика. СПб., 1831.
Горбачевич 2002 — Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения. СПб., 2002.
Греч 1827 —Греч H. II. Практическая русская грамматика. СПб., 1827.
Грот 1876 —Грот Я. К. Филологические разыскания. Т. 2. СПб., 1876.
Грот 1888 —Грот Я. К. Русское правописание. СПб., 1888.
Ильинская, Сидоров 1955 —Ильинская И. С., Сидоров В. П. О сценическом произношении в московских театрах (по материалам сезона 1951/52 г) // Вопр. культуры речи. М. 1955. Вып. 1.
Корш 1902 —Корш Ф. Е. Орусском правописании//Изв. ОРЯС. СПб., 1902. Т. 7. Кн. 1.
Ломоносов 1757 —Ломоносов M. В. Российская грамматика. СПб., 1757.
Матусевич 1953 —МатусевичM. П. Русское литературное произношение. Л., 1953.
Обнорский 1951 — Обнорский С. П. [Рец. на: ] P. И. Аванесов. Русское литературное произношение // Русский язык в школе. 1951. № 1.
Обнорский 1956 — Обнорский С. П. [Рец. на: ] Русское литературное ударение и произношение: Опыт словаря-справочника / Под ред. Р. И. Аванесова, С. И. Ожегова. М., 1955 // Русский язык в школе. 1956. № 5.
Обнорский 1960 — Обнорский С. П. Пушкин и нормы русского литературного языка // Избранные работы по русскому языку. М., 1960.
Обнорский 1960 — Обнорский С. П. Ломоносов и русский литературный язык // Избранные работы по русскому языку. М., 1960.
Обнорский 1960 — Обнорский С. П. Сочетание чн в русском языке // Избранные работы по русскому языку. М., 1960.
Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы / С. И. Борунова, В. Л. Воронцова, И. А. Еськова; Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1989.
Панов 1990 — Панов М. В. История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М., 1990.
Реформатский 1950 — Реформатский А. А. Методические указания и руководство по современному русскому языку для студентов-заочников. М., 1950.
Реформатский 1964 — Реформатский А. А. Из истории нормализации русского литературного произношения //Вопросы культуры речи. Вып. 5. М., 1964.
Русский язык. Энциклопедия. М., 1979.
Сидоров 1969 — Сидоров В. Н. О времени перехода города Москвы к аканью // Из русской исторической фонетики. М., 1969.
Чернышев 1915 — Чернышев В. II. Законы и правила русского произношения. Иг., 1915.
Чернышев 1970 — Чернышев В. II. Как говорят в Петербурге // Чернышев В. И. Избранные труды. Том 2. М., 1970.
Шапиро 1951 —Шапиро А. Б. [Рец. на: ] P. И. Аванесов. Русское литературное произношение // Русский язык в школе. 1951. № 1.
Шахматов 1931 — Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. 2-е изд. М.; Л., 1931.
Тредиаковский 1748 — Тредиаковский В. К. Разговор между Чужестранным человеком и Российским об Ортографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи. СПб., 1748.
Успенский 1994 — Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
И. И. Исаев
Простые люди
Одно из самых важных открытий диалектолога – обнаруженная в экспедициях новая единица или даже система единиц. Когда удается понять принцип работы и развития одного из звеньев диалектной системы – получаешь истинное наслаждение. Но одно из самых дорогих приобретений для души – те замечательные люди, которые живут в сложных условиях, далеко от городского комфорта; это те замечательные отношения малого мира деревни, особый менталитет тесного коллектива, где все – свои и всякий – свой, где каждый достойный поступок и недостойное поведение – на виду. Каждый раз изумляешься тому, что в совершенной глуши живут изумительные добрые люди. Таких историй много. Вот одна из них. В 2004 году мы с Ольгой Геннадьевной Ровновой, старшим научным сотрудником отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, работали в Сямженском районе Вологодской области. В один из дней наш путь лежал в деревню Малинник, расположенную достаточно далеко от нашей базы. Транспорта не предвиделось, да он бы нам и не помог: деревня находилась в петле реки Кубены, которая в период полной воды поднимала понтонный мост, и он оказывался подвешенным в середине реки. Деревня в это время оказывается на несколько месяцев недоступной для транспорта. После долгой ходьбы нам предстояло добраться вброд от берега до понтона, затем взобраться на него, пройти десяток метров, аккуратно сползти вновь в воду и двигаться по грудь в воде до другого берега. Разгоряченное тело в холодной воде быстро сменило наш бравый рабочий настрой на жалобный. Это было особенно заметно, как только мы оказались в воде выше колен, настроение падало с каждым сантиметром погружения. Не меняло настроения даже то, что переправа стала нештатной ситуацией, небольшим приключением.
Оказалось, что деревня Малинник расположена в поле на возвышенности. Мы – жалкие и мокрые – вышли из густого перелеска, в котором Кубена прячет свои огромные петли, и оказались на просторе: сосущее глаз небо, низкие северные облака, ползущие по холму, по деревьям, по крышам. Подниматься на холм предстоит долго: примерно километр проселочной дороги отделяет нас от его вершины. Там, вверху, пригнувшись под тяжестью облаков, на дороге, стоят две стариковские фигурки – мужская и женская. Мужчина приложил руку ко лбу козырьком и смотрит в нашу сторону. Ближе – я разглядел лица. Улыбаются. «Обознались, – думаю, – ждут своих, разочаруются, жаль…» Ближе – улыбаются. Еще ближе – протягивают навстречу руки. Мы издали приветствуем стариков, подходим. Нас берут за плечи, ведут в дом, расспрашивают.
Уже позже, за столом с ушицей и домашней водкой, хозяева сняли наше недоумение: «Мы тут чужой собаке рады дак! А здесь – вы! Ведь люди же! Ну а как иначе-то!» Наше недо-настроение улетучилось, через 2–3 часа беседы мы с Ольгой Геннадьевной воспринимали стариков вполне родными людьми. Именно нас они встречали, стоя на холме. Именно к ним шли и мы сами.
На лекциях по диалектологии, в вводном разделе, я каждый год рассказываю студентам эту и некоторые другие истории из экспедиций. Завершаю фрагмент лекции вопросом: «А вы представляете себе такую ситуацию в городе?»
* * *
Каждый год я бываю в трех экспедициях, всегда встречаю удивительных людей. В 2007 году мы с Натальей Сницаренко, студенткой 5-го курса филологического факультета МГУ, записали рассказ Николая Евгеньевича Процерова о его отце. Николай Евгеньевич родился в 1935 г. в селе Палищи Гусь-Хрустального района Владимирской области. Он принадлежит большому старинному роду священнослужителей, живших и служивших в XX в. в этом селе (прежде – Палищенская волость Касимовского уезда Рязанской губернии). Его рассказ был подготовленным, записанным предварительно на листе школьной тетради в клетку.
Об отцеНаш род Процеровых довольно-таки древний, правда самые пра-пра нам не известны. Примерно в 20-х годах позапрошлого столетия жила-была поповна Прасковья Яковлевна Процерова. Эту фамилию ее уже предку, нам не известному, дали в Рязанском духовном училище при его поступлении в него за его якобы длинный, долговязый рост. В те времена при присвоении фамилии духовным лицам практиковалось использование латинского языка. В данном случае предполагается, что было использовано слово procerus «длинный, рослый». Но есть и другая версия. В основе нашей фамилии было название мышцы, сдвигающей брови человека, когда он сердит. Прасковья Яковлевна стала женой пономаря, жившего в селе (ныне город) Спас-Клепики, который не имел фамилии, и ему Святейшим Синодом была присвоена фамилия жены, то есть Прасковьи Яковлевны. Звали его Никита Яковлевич.

В семье Процерова Никиты Яковлевича было по меньшей мере три сына: Василий Никитович, Иван Никитович и Афанасий Никитович. Василий Никитович является моим прадедом. Василий Никитович проживал в селе Палищи и был священником в местной Ильинской церкви. В той же церкви был священником и сын Василия Никитовича – Григорий Васильевич Процеров. Это наш дед. Семья моих прародителей приехала в село Палищи из села Топтыково Рязанской губернии (ныне Зарайский район Рязанской области) в начале XX века. Дом, в котором поселилась семья Процерова Василия Никитовича, был построен ВІ905 году.
После смерти Григория Васильевича Процерова в 1922 году дом был поделен на три части по количеству сыновей Григория Васильевича. Старшим сыном Григория Васильевича Процерова и Веры Алексеевны Процеровой (до замужества Вранковской, имевшей дворянское происхождение) был мой отец – Процеров Евгений Григорьевич. В семье моего деда было 10 детей: семь дочерей и три сына. Отец мой родился 24 января 1889 года в селе Топтыково Рязанской губернии. В 1909 году он закончил Рязанскую духовную семинарию, но священником работать не стал, а выбрал путь военного. В 1910 году он становится Кремлевским курсантом (школа прапорщиков). Будучи военным, наш отец принимал участие в первой мировой войне и дослужился в период войны до звания подпоручика. В основном его армейская служба протекала на передовой. В 1922 году после смерти Григория Васильевича, моего деда, встал вопрос о его преемнике на посту священника Палищенской церкви. Так как наш отец был старшим из сыновей, то он должен был принять сан священника. Но он отказывается от сана, считая, что будучи военным после окончания духовной семинарии, он не имеет этого права. И тогда сан священника в церкви села Палищи занимает средний брат отца – Василий Григорьевич Процеров, который, так же как и наш отец, окончил Рязанскую духовную семинарию. В 1927 году в возрасте 38 лет мой отец женился на дочери дьякона Ильинской церкви села Палищи – Харьковой Марии Николаевне. В семье Харьковых было шесть детей – три сына и три дочери. Примечательно, что все три сестры Харьковы после замужества стали Процеровыми. Отец наш, исключая время нахождения на фронтах Великой отечественной войны, работал учителем в ближайших к селу Палищи школах. А с образованием колхозов по совместительству работал счетоводом в местном колхозе.
В 1941 году началась Великая отечественная война. Не обошла стороной она и нашу семью. В начале июля 1941 года нашего отца в возрасте 52-х лет забирают на фронт. И сразу же он попадет на передовую. Во время войны его служба проходила в основном в армейских штабах. Как штабного работника армейское начальство его очень ценило за обязательность, грамотность и добросовестность. Несколько раз наш отец просил разрешения у высшего штабного начальства сменить штабную работу на передовую, но всегда получал отказ с ссылкой на то, что он больше ценен как штабной работник.
Большой памятью для всей нашей семьи являются письма, присланные папой с фронта. Кроме писем маме, сохранились письма, адресованные старшему брату Вячеславу 1933 года рождения. Всего нас в семье было четверо: старшая сестра Галина 30-го года рождения, Вячеслав 33-го года рождения, Николай 35-го года рождения и Всеволод 1937 года рождения.
Приведу одно из писем, адресованное к Вячеславу.
22 июля 43-го года.
«Здравствуй, милый, дорогой Славенька! Поздравляю тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе хорошего здоровья, успехов в школе и благополучия во всех твоих добрых начинаниях. Всех окружающих близких твоих поздравляю с днем семейного торжества. По принятому у нас в семье обычаю виновнику торжества преподносятся подарки. Я этого не могу сделать сейчас, а прошу считать за мной в долгу хорошую книжку. Приеду домой – сниму с себя долги!
Славенька, я давно не получал от тебя письма, прошу написать.
В одном из своих писем к тебе я просил, чтобы ты написал мне, как провел лето. Я жду. В школе – я более, чем уверен – вам учитель должен дать задание написать сочинение на эту тему.
Моя жизнь идет все так же благополучно, как и ранее. В последние дни у нас царит большое оживление. Чем кончится – сказать затрудняюсь: день и ночь чувствуется борьба. И борьба очень большая заметна нам, живущим вдали и в лесу. А на месте борьбу трудно представить себе.
Буду счастлив, если вы будете жить, возмужать в то время, когда будет отмирать слово война. Надеюсь, что такое время настанет.
Ну, дорогой мой Славенька, будь счастлив, весел, благополучен. Люби хорошую книгу. Крепко целую тебя. Остаюсь крепко любящий тебя твой папа.
1943 год, августа 22 дня. 18 часов. Действующая армия».
Война для нашего отца закончилась в Иране. В начале 1944 года их часть была направлена в город Казвин в 100 километрах от Тегерана. В Иране отец пробыл до осени 1944 года, он был демобилизован по состоянию здоровья.
После демобилизации отец наш работал учителем физики в Часлицкой семилетней школе и по совместительству продолжал трудиться счетоводом в местном колхозе.
Война подорвала здоровье нашего отца, умер он 2 декабря 1950 года. В год смерти отца я с старшим братом Вячеславом поступил в Егорьевское педагогическое училище Московской области. Мы с братом выполнили последнюю волю отца нашего – получить профессию учителя. Помню его слова: «Сынки, будьте учителями! В школе воровать не научитесь!» Честь и совесть отец считал главными ценностями в жизни человека. Получая приказ старшего по званию в царской армии, подпоручик Процеров отвечал: «Честь имею!» Этому девизу отец наш был верен всю свою многотрудную жизнь.
VI
Приложение ИП
Отклики на 1-е и 2-е издания книги А. Б. Пеньковского «Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении». М.: Индрик, 1999, 2003
Мысль включить в эту книгу-подношение Александру Борисовичу Пеньковскому рецензии и отклики, появившиеся вскоре после выхода обоих изданий «Нины», возникла в связи с публикацией в составе этого сборника ее развернутого аналитического разбора, предложенного Н. В. Перцовым, кстати сделанного, в основном, тогда же, по выходе первого издания. Случай действительно нестандартный: «Нина» вызвала более 20 отзывов, многие из которых были опубликованы ведущими литературными и научными журналами, у нас и за рубежом, не говоря уже об откликах на страницах писем, адресованных автору. В предлагаемую подборку включены опубликованные рецензии и критические обзоры, а также наиболее развернутые отзывы в письмах хорошо известных филологов, авторов статей в этом сборнике. Все они в совокупности свидетельствуют о том, что книга А. Б. Пеньковского взволновала филологический мир, возбудила интерес как у тех, кто восторженно принял ее, так и у ее строгих и въедливых критиков. Думается, что републикакция этих отзывов в единой подборке даст живую картину вхождения «Нины» в филологическую науку.
В. Н. Топоров – автору книги[447]447
Впервые: Вместо предисловия // Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. 2-е изд., испр. и доп. М.: Индрик, 2003. С. 17–18.
[Закрыть]
15. XII.2000
Многоуважаемый Александр Борисович, узнав Ваш адрес от Вардана Айрапетяна, я решаюсь писать Вам, то есть делаю то, что и хотел сделать по горячим следам, прочитав Вашу книгу. Не сделал этого раньше только потому, что не мог получить Вашего адреса в «Индрике», где он не был найден.
О Вашей книге я узнал еще до ее выхода в свет. Собственно, узнал я только ее название, и уже одно оно сказало мне многое. Эта моя заинтересованность объяснялась тем, что уже лет 30, если не более, я занимался, как мне сначала казалось, некиим подобием игры в бирюльки – прослеживанием имен – как женских, так и мужских – в русской литературе, начиная особенно с эпохи сентиментализма и захватывая пушкинскую эпоху, а в ряде случаев и более позднее время. Спустя годы я понял, что сначала подсознательно, а потом и сознательно я выстраивал линии частных номиналистических мифов, удовлетворяя некую потребность в пересмотре отношений между «номинализмом» и «реализмом» в средневековом понимании этих категорий. Знакомство с платоновской и особенно древнеиндийской номиналистической традицией было для меня серьезной поддержкой. И со временем совпадение определенных имен у разных авторов одной или разных эпох стало для меня некиим важным указанием, и проблемой стало отделение случайного и немотивированного от сущностного и мотивированного.
Теперь Вы поймете мое состояние, когда, взяв Вашу книгу, которая в руках моих буквально вибрировала, звенела, издавала какую-то созвучную мне радиацию (лучших слов не нахожу), я перелистывал ее и, думаю, с первых же минут понял, что это – именно то, что есть, а если есть, то значит и хорошо, как всякое подлинное творение (ср. начало «Книги бытия»…).
Ваша книга произвела на меня самое сильное впечатление. Я бы сказал, что она прекрасна, но, понимая, что в оценках можно ошибаться, скажу скромнее – она мне безусловно и сразу понравилась. Во многом она ставила для меня точку, закрывала проблему, в решении которой я совпадал с Вами. Может быть, еще полезнее для меня было найти в Вашей книге то, до чего я не дошел, о чем не догадывался. Конечно, при чтении я припоминал кое-какие примеры и аргументы, которые могли бы еще более подтвердить Вашу точку зрения. К сожалению, я не фиксировал детали – Ваша книга была для меня тем пространством, в котором для меня более всего был важен сам этот простор, обеспечивающий цельноедин– ство всего, что попадает в него.
Тема Нины обдумывалась и мною, но после появления Вашей книги «мое» полностью, утонув, растворилось в «Вашем». Правда, я в таких случаях предпочитаю говорить о соответствующем «тексте» (не в расплывчатом, а во вполне строгом терминологическом смысле) – «текст Лизы», «текст Нины», «текст Татьяны» и т. п., но сам «текст», собственно говоря, и есть миф, который творят, идя навстречу друг другу, литература в лице ее контекстов («именных») и читатель, исследователь, обладающие «номиналистическим» слухом или вкусом.
И еще одно соображение, о котором я бы хотел Вам сказать. Вы упоминаете имя и образ Нины у M. Н. Муравьева. Сейчас можно говорить о целом (хотя и компактном) «Нинином» цикле стихотворений поэта (отчасти остающихся в рукописях). Тема «Нины» (имя определенно условное) для Муравьева была жизненно важной – первая любовь с ее радостями, восторгами, но и огорчениями, подозрениями в неверности. Кое-что опубликовано в стихотворениях Муравьева 1967 г. (Большая серия «Библиотеки поэта»). Об этом отчасти будет написано во 2-м томе моей большой работы о Муравьеве (1-й том должен выйти в январе, 2-й – к лету). Бумаги не хватило написать всё, что и как я думаю.
Всего Вам доброго, Александр Борисович.
А. Либерман[448]448
Впервые: Новый Журнал-New Review. Нью-Йорк. 2000. Кн. 219. Июнь. С. 327–331.
[Закрыть]
В «Маскараде» гость с подчеркнуто нелермонтовской фамилией Петров (его даже нет в списке действующих лиц) сообщает: «Настасья Павловна споет нам что-нибудь». Но почему Настасья Павловна, когда жену Арбенина зовут Ниной? С ответа на этот вопрос, заданного не впервые, но впервые получившего серьезное разрешение, начинается «Нина», книга, которой, как всему неординарному и вызывающе прекрасному, предстоит трудная жизнь. Загадочный Петров вводит нас в антропонимическое (то есть именное) пространство «Маскарада». Не так и проницаемо это пространство: все-таки Арбенин, Казарин, Шприх и светящие ложным светом Звездич и Штраль, а не Правдин и Вральман. Один за другим исследуются характеры персонажей и раскрывается миф о Нине, великосветской львице, разбивающей сердца и гибнущей в разгаре своей охоты на мужчин. Нина Боратынского и Нина Воронская в «Евгении Онегине» – лишь самые знаменитые экспонаты в этом музее страстей XIX века. Лермонтовской Нине навязанная ей роль (маска) не подходит, и, надев ее (ибо женой Арбенина может быть только Нина, а не Настасья Павловна), она обрекает себя на катастрофу. На стыке двух начал – belle Nina и belle Tatiana – возникает в книге Пеньковского сюжет о жизни Онегина и предлагается совершенно новое прочтение пушкинского романа как самого знаменитого произведения русской литературы и как величайшего языкового памятника пушкинской эпохи. Наталкиваясь в старых стихах на какой-нибудь тюрлюрлю атласный, мы по необходимости заглядываем в примечания. И Лондон щепетильным вызывает наше удивление, но в остальном редко кто задумывается над значением общеизвестных слов. Перешагнув радищевско-державинский порог, мы чувствуем себя, как дома. И как глубоко мы заблуждаемся!
Пеньковский – замечательный филолог: языкознание и литературоведение одинаково близки ему, и его книга едва ли не на треть состоит из этюдов о смысле слов в «Евгении Онегине». Эти этюды не вкрапления, в важнейшая часть анализа. Лишь овладев словарем Пушкина, то есть переведя роман на современный язык (задача не из самых тривиальных), можно понять пушкинские стихи. Никто ведь не рискнет открыть «Слово о полку Игореве», не овладев древнерусским языком. Пусть не начав так издалека, но столь же подготовленным должен быть и читатель «Евгения Онегина». Особая трудность состоит в том, что знакомые слова, например, дева, досада, скука, тоска, зевота, желчь, страсть и т. п. вызывали тогда примерно те же ассоциации, что и сейчас, но кое-что изменилось, и эти не очень существенные, на первый взгляд, изменения, накапливаясь, приводят к деформации в нашем сознании пушкинской мысли. Словарь языка Пушкина – в гораздо большей степени исторический словарь, чем думает даже искушенньй читатель.
Кроме того, настоящий мастер всегда вырабатывает свой стиль, а стиль – это не только излюбленные приемы, но и некая замкнутость в себе, отчего слова приобретают индивидуальные смысловые опенки, незаметные при быстром чтении. Например, у Тютчева полдень обычно мглистый, а ночь лазурная. Поэтому в словаре Тютчева недостаточно сказать, что полдень – это 12 часов дня, а полночь – 12 часов ночи. Оба слова несут нагрузку, которой они лишены у других поэтов, и неудивительно, что у Тютчева в полдень мир обычно спит, а в полночь бодрствует, всё видит, чего-то страшится и слышит сокровенные шумы. Книга Пеньковского – это, помимо всего прочего, фундамент, на котором должен покоиться неформальный словарь языка Пушкина. Не странно ли, что целомудренный Ленский вдруг вступил в разговор с Онегиным о похорошевших плечах Ольги? Вроде бы неуместно и нескромно. И в ответ на наше недоумение Пеньковский предлагает этюд, из которого мы узнаём, какие эмоции возбуждали оголенные плечи в те поры, когда безмятежно расцветал Пушкин, что значили женские плечи для Ленского и что – для Онегина и почему в последней главе Онегин счастлив, если накинет Татьяне «боа пушистый на плечо» – именно на плечо, а не на плечи. И таких этюдов множество, один интереснее другого.
Лингвистические разыскания Пеньковского, как бы глубоки они ни были, не самоцель, а средство к раскрытию потаенного сюжета «Евгения Онегина». Этот сюжет собирается по кусочкам из разбросанных по роману сигнальных слов вроде тоска, из как бы невзначай брошенных фраз (например, «Один, в расчеты погруженный, /Тупым кием вооруженный, / Он на бильярде в два шара /Играет с самого утра…»: почему кий тупой, почему в два шара и в какие расчеты погружен Онегин? Пеньковский убежден, что в романе нет ни одного случайно брошенного слова и что план целого был с предельной ясностью продуман с самого начала, по черновикам и исключенным строфам. И вырисовывается следующее. Почти мальчиком, едва ли достигнув шестнадцатилетнего возраста, Онегин стал жертвой испепеляющей и испепелившей его страсти. Несчастная любовь погрузила его в неистребимую тоску (не скуку, тоску). Сцены из прошлого преследовали его, как наваждение. Невинная фраза Ленского о плечах Ольги вызывает у Евгения бурю воспоминаний. На именинах Татьяны ему мерещатся иные картины, иные лица (и плечи!). Отсюда же: нелепое поведение и ссора, стоившая Ленскому жизни. У всепоглощающей онегинской тоски было, говорит Пеньковский, вполне определенное имя – Нина.
По возвращении в свет Онегин вновь встречает эту Нину, Клеопатру Невы, которую теперь без малейшего усилия затмила Татьяна. «Евгений Онегин» оказывается романом не о пресловутом лишнем человеке, а о сломанной жизни героя, о его недолгом, кажущемся возрождении и духовной гибели. За этим следует разбор характера героини, которая, как разъясняет Пеньковский, соединила в себе страстную напористость Нины («То воля неба: я твоя») и благородные добродетели Татьяны (оба имени употреблены здесь в их мифологическом смысле). И такой же оказывается муза Пушкина (вернее Муза с прописной буквы). В «Евгении Онегине» скрытый сюжет о Нине – это, пользуясь метафорой Пеньковского, «могучий подводный хребет, который пересекает океан от берега до берега и, лишь изредка своими вершинами поднимаясь из пучины, достигает поверхности и проступает в виде островков, отмелей и рифов или дает о себе знать водоворотами и завихрениями». Когда Татьяна окончательно побеждает Нину, роман трагически заканчивается и для героя, и для героини.
Подобно языковеду, восстанавливающему давно умолкнувшие звуки по следам, оставленным ими в современной речи (вспомним подзаголовок книги) Пеньковский восстанавливает внутреннюю логику действий героев и предысторию Онегина и находит в ней почти невидимый глазу центр – Нину, живую женщину, и Нину, героиню мощного культурного мифа золотого века русское литературы. Но язык – реальность, а Онегин – литературный персонаж, и с нем как будто не положено знать больше, чем сообщает нам в окончательной редакции своего произведения автор. Даже и черновики не допускаются в качестве свидетельских показаний. В высшей степени вероятно, что реконструкции Пеньковского соответствует первоначальному замыслу Пушкина. Однако в романе не всегда сходятся концы с концами. Пеньковский, как и многие до него спрашивает, например, откуда у Татьяны такое блестящее владение французским. Онегин по-французски совершенно мог изъясняться и писал, но Татьяна, выросшая в обществе няни, не слишком утонченной матери и дунь, пищавших: «Приди в чертог ко мне златой…»? Когда князь Андрей стал ходить к Ростовым, его умиляло в Наташе всё, в том числе и ее ошибки во французском. А ведь Ростовы не Ларины. Правда, Толстой был почти на тридцать лет моложе Пушкина. Пеньковский полагает, что безупречный французский Татьяны – это черта Нины в ней. Миф начинает жить собственной жизнью и приобретает способность обучать героиню языкам.
Нас, воспринимающих «Евгения Онегина» как данность, почти как явление природы, не слишком заботит его сюжет. Завороженные единственными в мире стихами, мы не задумываемся, как Татьяна научилась французскому, почему в отличие от самого Пушкина не овладела русским и как робкая и чуть жеманная, по мнению кузин, провинциалка утеснительного сана манеры скоро приняла. Не поражаемся мы и тому, что Онегин не выстрелил в воздух: мы ведь с детства знаем, что Ленский будет убит. Даже роковой вопрос русской литературы, почему Татьяна не ушла к Онегину, отступает для нас на второй план: прочитавший Восьмую главу попадает под власть такой поэзии, что заниматься разбором сюжетных неувязок просто глупо. Но современники Пушкина, придя за редкими исключениями в восторг от стихов, усомнились в закономерности развязки и абсолютной правде характеров.
Возможна ли кощунственная мысль, что, переделывая, переписывая, скрывая то, что мучительно хотелось, но невыносимо было рассказать всему свету, Пушкин порой обрывал нити и некоторые поступки героев оказались немотивированными? Оглядываясь назад, понимаешь, почему Татьяна не бросила мужа. «Евгений Онегин» находится в русле той традиции, в которой герою не суждено быть счастливым. Но ведь ссыпкой на литературную традицию не объяснишь решение Татьяны. Не помогает здесь и миф о Нине. О настрое Пушкина перед женитьбой я не говорю сознательно. Пеньковский напоминает нам, что Ольга была обручена с Ленским, так что и Татьяна как бы породнилась с ним, и страшно было бы стать возлюбленной ли, женой ли убийцы брата. К тому же и князь представляет Татьяне Онегина как родню и друга. Что это за родство, о котором мы ничего не знаем? В любом случае адюльтер или брак с Онегиным оказался бы кровосмесительным союзом. И в этом все дело? Ужели слово найдено? Прочитал ли кто-нибудь из современников Пушкина его роман так, как это удалось Пеньковскому? Или всё обнаруженное им тогда было ясно любому, как бы разумелось само собой, отчего вскоре и забылось? А если и тогда не удалось проникнуть в тайну Онегина, то для кого же написан роман? Лермонтов, давший своему герою имя Печорин, объявил о своей связи с Пушкиным (Онегин – Печорин), и эта связь была сразу угадана Белинским, легко проникшим в «антропонимическое пространство» лермонтовского романа. Понял ли Лермонтов, автор «Маскарада», что «Евгений Онегин» – роман о Нине? По «Герою нашего времени» это как будто не чувствуется. И главное: насколько корректна сама по себе процедура дешифровки «Евгения Онегина» и обнаружения в нем подводного хребта?
В реконструкции не всегда возможно отличить истинный след от ложного. «Евгений / в Татьяну, как дитя, влюблен», – говорит Пушкин. Пеньковский обращает внимание на незначительную вроде бы фразу как дитя, ибо предполагает, что Нина возникла в жизни совсем еще юного Онегина. Действительно ли в языке романа все увязано столь жестко? Дитя – любимое слово Пушкина ("То, как зверь, она завоет, / То заплачет, как дитя», «… весь день сидит, как дитя глупое», «Что я? царь или дитя?» и прочее). В каждом ли своем употреблении как дитя – это нечто большее, чем формула?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































