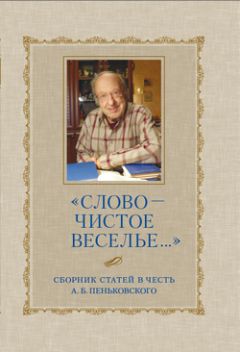
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 50 страниц)
Агван Доржиев родился и до 18 лет жил в Забайкальской области Российской империи. Затем он стал монахом и уехал на учебу в Тибет, Монголию и Китай; в Тибете в возрасте 35 лет выдержал экзамены, получил ученую степень лхарамбы и стал одним из учителей тогда еще двенадцатилетнего Далай-ламы XIII Тубдена– Чжамцо. При дворе Далай-ламы он стал занимать высокое положение и играть видную роль во внешней политике Тибета, оставаясь подданным России. В качестве дипломатического представителя Далай-ламы XIII А. Доржиев в 1898–1899 гг. посетил Россию (в 1899 г. он обосновался для постоянного жительства в Петербурге), Францию, Англию, Австрию и Италию. А. Доржиев был доволен тем, как его в 1898 г. принимали в Париже. С ним, среди прочих, встречался Ж. Клемансо.
Ж. Деникер так вспоминает о своей первой встрече с А. Доржиевым:
One day of June, 1898, I received a visit from a Mongolian Buriat, who presented letters of introduction from one of my Russian friends, and asked if I would like to make the acquaintance of a Tibetan priest attached to the Dalai-Lama. An hour later Agwan DordЛ was at my Paris house. He was in European dress, a man of about forty, short and stocky. His bronzed face was of the keen Mongolian type, and he appeared intelligent and kindly. In the course of the conversation [in Russian. – A. K.] I questioned him about Bouddhism; and then, in his turn, he began to question me, wishing to know if there were many Buddhists in Paris. I told him that the number of his coreligionists in my country was very small, but that many French scholars were interested in the doctrine of Buddha, and that in the Mus?e Guimet there was a collection of many objects of the Buddhist cult. A few days later I took him to see the museum. He was very much pleased with his reception (…) [Deniker 1904: 73].
А. Доржиев осмотрел музей Гиме и откликнулся на просьбу Э. Гиме (и других) провести там богослужение, с тем чтобы парижане смогли составить себе представление о буддийском культе. Как пишет Ж. Деникер, «permission was given him to celebrate a Buddhist mass [заметим появление этого словосочетания – «буддийская месса». —А. К] in the library of the museum. This took place June 27, 1898, in the presence of a numerous company, including some actual Buddhists» [Deniker 1904: 73]. А. Доржиев с удовольствием провел хурал-богослужение в честь Будды Шакьямуни и других будд, которое должно было способствовать пробуждению у всех существ любви и милосердия.
Э. Гиме, поставившей целью изучение религий и культов, постарался на этот раз придать буддийской церемонии более научный характер. А. Доржиев начал с лекции об истории буддизма, которую читал на монгольском языке, причем его тут же переводил на русский Б. Р. Рабданов (1853–1925), а затем другой переводчик с русского на французский (скорее всего, этим переводчиком был Жозеф (Иосиф Егорович) Деникер (J. Deniker, 1852, Астрахань – 1918, Париж), известный французский антрополог [Boussemart 2001: 106]). По завершении богослужения А. Доржиев воссел на трон и погрузился в столь безучастное состояние, что изумил присутствующих, причем особое впечатление на всех производил его взгляд,[324]324
В романе Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье» (1973), описывающем жизнь бурят в конце XIX – начале XX в., фигурирует эпизодический персонаж Туван-хамбо, прототипом которого стал Агван Доржиев. Романист так описывает его и, как характерную черту, его взгляд: «Семилетний Булад (…) с нетерпением ждал, когда появится живой бог. Словно в ответ на его желание из дверей храма вышло шестеро лам. Они несли самого Туван-хамбу в желтом паланкине, покрытом шелком и украшенном золочеными узорами.
Над толпой пронесся шум, подобный протяжному стону. В мгновение ока люди сдернули шапки и низко склонились. Когда же они подняли головы, Туван-хамбо сидел уже на десяти олбоках [“маленькие тюфячки, обшитые дорогой тканью”. – Сноска Д. О. Батожабая] и медленно перебирал янтарные четки. На голове его была остроконечная желтая шапка, на плечах – пурпурный орхимжо [“полоса материи, которую буддийские монахи надевают на плечи”. – Сноска Д. О. Батожабая]. Его лицо, словно отлитое из бронзы, было неподвижно, глаза устремлены вдаль, поверх толпы. (…)
Паломники еще раз застыли в поклоне, а когда подняли головы, впереди Туван-хамбы уже возвышался большой медный котел с двумя ручками. (…)
Туван-хамбо сидел на олбоках, плотно сжав тонкие губы. Он ждал, когда молящиеся после третьего поклона подойдут к нему для благословения.
Много лет назад, еще до возведения в сан хамбо-ламы, он был настоятелем этого дацана [буддийского храма. – А. К.], затем отправился в Тибет, в монастырь Брайбан, где изучал языки и богословие. Наконец после десятилетнего обучения он получил звание лхарамбо [ «доктор философии». – Сноска Д. О. Батожабая]. Когда эта весть дошла до Бурятии, во всех дацанах отслужили большие молебствия… А потом Туван-хамбо стал учителем самого Далай-ламы.
Ламы уже растолковали паломникам, что приехал он по весьма важному делу – отстаивать желтую веру перед русским царем. Попы-миссионеры и чиновники прибегали к обману и насилию, чтобы склонить бурят к христианству, и забайкальские ламы послали жалобу Далай-ламе. Далай-лама Тринадцатый обратился со специальным посланием к генерал-губернатору. Тут-то и прибыл в Забайкалье Туван-хамбо. Миссию свою он исполнил, добившись разрешения на постройку новых дацанов на далекой окраине России.
Сейчас, когда Туван-хамбо собирался в обратный путь, прибывший из Петербурга генераладъютант барон Корф вызвался сопровождать его. Такая честь Туван-хамбе была оказана неспроста. Царскому правительству не выгодно было ссориться с ламами, держащими в повиновении большинство людей. Конечно, простые араты не вникали в эти тонкости, они знали одно: Туван-хамбо защитил желтую веру, добился разрешения на постройку новых дацанов. Вот почему собралось много народу, почему люди с усердием клали поклоны и перед святым Туван-хамбой, и перед генерал-адъютантом Корфом…» [Батобажай 1982: 6–8].
[Закрыть] исполненный кротости и такого горячего молитвенного усердия, что дамы были покорены, перестали болтать и, наконец, осознали, что они находятся в храме. Однако более всего на присутствующих произвели впечатление сами молитвы, – по свидетельству одного из приглашенных, «странно музыкальные, с воркованием (bourdonnement) отдалённых гонгов, они были похожи на восходящую и нисходящую песнь колоколов широких долин в час богородичной молитвы (ang?lus)» (цит. по [Boussemart 2001: 106]).[325]325
Ср. наблюдения В. Н. Топорова о фонике «чужого» (восточного) слова и об «азийской фоносфере» [Тименчик 1978].
[Закрыть] А. Доржиев впоследствии писал, что «не могло не произойти, чтобы во время этой церемонии некоторые устремления (aspirations) не нашли отклика в душе присутствующих и чтобы это не оставило [там своего] благодатного кармического отпечатка» [Ibid.] (наш перевод с французского, который был сделан с английского, оригинал на тибетском. Русский перевод этой же фразы непосредственно с тибетского см. ниже).
А. Буссемар обратил внимание на свидетельство А. Доржиева о присутствии не менее 400 человек; однако, по мнению этого французского исследователя, хорошо знающего помещения музея Гиме, более здравая оценка, с учетом размеров помещения библиотеки, заставляет принять более умеренную цифру, приводимую одним из присутствовавших на церемонии, – около 200 человек. Основными категориями лиц, посетивших богослужение, были ученые, дворянство и прекрасные дамы в утренних туалетах (по поводу последних А. Доржиев заметил впоследствии в беседе с Ж. Деникером: «На Западе, если вы хотите иметь друзей, вам следует иметь влияние на женщин» [Deniker 1904: 74]). Присутствовал, как и прежде, Ж. Клемансо. А. Буссемар предполагает, что среди приглашенных была А. Давид-Неэль, и замечает, что, судя по сохранившемуся изображению этого собрания, в толпе находился даже некий католический священник. Откликов в прессе на этот раз было очень мало – едва ли наберется дюжина коротких заметок. Общественное мнение было занято делом Дрейфуса и войной между Испанией и США.[326]326
По возвращении из Европы А. Доржиев «был возведен в звание старшего Хамбо с правом голоса во всех делах политики и веры» [Раднаев 1998: 82], был назначен министром финансов. Став, таким образом, первым лицом в правительстве Далай-ламы XIII, он вел переговоры с Россией в качестве дипломатического представителя Тибета. Англичане обещали за его голову 10 000 рупий, ибо видели в его пророссийской позиции угрозу политике Великобритании в Азии.
Доржиев много ездил по Восточной Сибири, Забайкалью, Центральной России и Калмыкии, занимался созданием религиозных центров, распространением буддизма и восточной медицины. Он предпринял попытку реформы монгольской письменности для бурят (разработанный им новый алфавит был издан в Петербурге в 1906 г. (См. [Доржиев 1994: 11]). Много времени А. Доржиев уделял созданному тогда же издательству «Наран» («Солнце»), им написаны и изданы, в том числе на новом алфавите, популярные работы по буддизму, филологии, истории (наиболее полно они отражены в [Сазыкин 2001], см. по указателю).
Одним из главных дел А. Доржиева было создание буддийского храма в Петербурге, строительство которого длилось с 1909 по 1915 г., а первое богослужение в котором состоялось 21 февраля 1913 г. в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых. По мысли Доржиева, этот храм, первый в Европе, «был задуман не только как молельня, но и как музей, а также центр индотибетской духовности и культуры Центральной Азии в Европейской России» [Раднаев 1998: 83]. Возможно, пребывание в Музее Гиме, устроившем в своих стенах буддийский храм, подсказало ему мысль создать храм, включающий в себя музей, в России. Однако осенью 1919 г. храм был занят красноармейцами. При этом из него был изгнан живший там в целях охраны памятника академик Ф. И. Щербатский, а затем храм «(…) подвергся страшному разгрому и осквернению.
Похищены были практически все предметы, имевшие какую-либо ценность, вплоть до металлических дверных ручек и гвоздей, – медные, бронзовые и позолоченные статуэтки-«бурханы», серебряные жертвенные сосуды, драпировки из китайской парчи, посуда и мебель, меха и материи.
У статуи большого Будды погромщики отбили голову и проломили отверстие в груди, надеясь найти спрятанные внутри драгоценности; варварски уничтожили храмовую библиотеку, состоявшую в основном из монгольских и тибетских книг. Бесследно исчезла собранная Доржиевым коллекция ценнейших документов, относящихся к его многолетней дипломатической деятельности и освещавших характер взаимоотношений с Тибетом в 1890–1910 годах трех соперничающих держав – России, Англии и Китая» [Андреев 2004: 101]. Ламы, врачи и востоковеды продолжали жить в отремонтированном затем храме до 1937 г., однако потом были репрессированы. Сам А. Доржиев в начале 1937 г. навсегда покинул Ленинград и вернулся на родину, где вскоре был арестован и умер в тюрьме в Улан-Удэ 29 февраля 1938 г. Реабилитирован посмертно 14 мая 1990 г. В 1994 г. в честь А. Доржиева на его родине был установлен монумент. В 1990 г. петербургский буддийский храм возвращен верующим.
[Закрыть]
Третье буддийское богослужение нашло отражение в текстах самого А. Доржиева.
Уже в советское время, в 1921 г., по просьбе петроградских профессоров и представителей буддийского духовенства он написал свою автобиографию в стихах на монгольском языке. Ее рукопись (Q339, инв. № 3699) хранится в собрании монгольского фонда Рукописного отдела Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. Там же находится еще один экземпляр этой рукописи (Q2563, инв. № 5923) и ее литографированное издание (С531, инв. № 967) (см. [Сазыкин 2001, т. 1]). До последнего времени ее содержание было известно лишь по краткому пересказу (1991) и по переложениям на современный монгольский (1992) и бурятский (1994) языки [Доржиев 2003: 11]. Лишь в 2003 г. текст с русским переводом был издан в серии «Памятники письменности Востока» (том 133) и стал доступен широкому кругу исследователей.
В этой автобиографии А. Доржиев описывает, как в 1898 г. он прибыл в Петербург, как получил аудиенцию у Николая II, с которым говорил об отношениях между Россией, Тибетом и Англией. Письменное донесение об этом он вручил У. М. Норзунову для доставки в Тибет.
Сам же в это время отправился
в государство Францию,
в прекрасный город Париж.
Когда я достиг этой страны,
претворились [мои] прежние заслуги.
Ко мне обратились с просьбой сотворить молитву
обладающий совершенной мудростью Клемансо и многие другие.
Они желали Высшему спасителю
поднести святые жертвоприношения,
испросить [у него] милость, защиту
и покровительство для их живых душ.
«Лишь услышав имя Высшей драгоценности,
мы – те, кто собрались здесь, —
приложим свои благие усилия
и встретимся с религией [Будды]», —
об этом, как умел, я вознес молитву-благопожелание.
[Затем] я долго и бездумно странствовал
по стране Англии, [городу] Лондону,
по Австрии, по Италии, [городам] Риму,
далекому Неаполю и другим местам.
Когда я, низкородный, достиг
калмыков, [обитавших] на реке Едзил [Волга. —А. А".],
(…)
они встретили меня с большой радостью и интересом.
Поднесли мне скот и вещи (…)
Забрав подношения калмыков,
я вскоре достиг Тибета [Доржиев 2003: 50–51].
В 1923 г. А. Доржиев составил свою более подробную автобиографию в прозе на тибетском языке. Она стала известна исследователям в английском (1990), монгольском (1992), бурятском (1993, 1994) и русском (1994) переводах [Доржиев 1994: 4]. Полное ее заглавие довольно пространно: «Сочинение, составленное нищим в монашеском одеянии, лишенным богатства священной дхармы, подверженным восьми земным дхармам, бесцельно блуждавшим по странам этого мира». Заслуживающий доверия русский перевод, появившийся в Улан-Удэ, выполнен Ц. П. Пурбуевой и Д. И. Бураевым и опубликован Бурятским институтом общественных наук Сибирского отделения РАН [Доржиев 1994].
В этом сочинении парижское богослужение А. Доржиева описано следующим образом.
Позже я побывал в Да-Фа-Гуе, иначе известном как Париж, великом городе Франции, очень красивом, но слишком перенаселенном. Там была группа примерно из четырех сотен человек, которые с большим уважением относились к буддийскому учению, среди них были Клемансо и одна женщина, по имени Александра, которая хотя и родилась женщиной, приобрела большую ученость. Было очень интересно наблюдать, слушать и знать, как они выражали свое почтение к Трем Драгоценностям и к тому, что они называли «декламирование». Я совершил богослужение перед изображением Будды и немного помолился во имя Трех Драгоценностей. Даже то немногое, что было сделано, могло зародить стремление взрастить семена хорошей кармы [Доржиев 1994: 17].
Далее в тексте идет речь о несостоявшейся встрече с принцем Орлеанским, с которым А. Доржиев познакомился в Тибете в 1890 г.[327]327
В 1898–1890 гг. принц Генрих Орлеанский путешествовал в Тибет (однако в центральную часть страны его не пустили) с целью предупредить тибетцев о намерениях англичан и побудить их к поиску французской и русской поддержки [Доржиев 1994: 44]. С ним разговаривали, надо полагать, достаточно любезно, ибо на запрос к оракулу о целесообразности его приема пришло ответное сообщение о том, что «принц» («rgyal-spas», это слово переводится также как «сын будды») является воплощением бодисатвы, «находится на севере и востоке» и что «существует поговорка о том, что даже собачий жир может сгодиться для смазывания раны» [Там же: 15]. К оракулу Нечунгу (Gnas-chung), который дал подобный ответ на запрос о принце Орлеанском, обращались по всем важным государственным делам, и его ответы носили характер официальных заявлений.
[Закрыть]
Упоминаемая А. Доржиевым Александра (A-lig-san-da-ra) – это, по мнению комментаторов, исследовательница тибетского буддизма и путешественница Александра Давид-Неэль (A. David-N?el, 1868–1969), знаменитая впоследствии путешественница и исследовательница Востока, известная, в частности, тем, что ей удалось получить аудиенцию у Далай-ламы XIII, когда тот находился в Индии.
Менее вероятно, но все же вероятно, что за именем Александра может скрываться жившая в Париже русская эмигрантка Александра Голыптейн (1850–1937). Она была буддисткой.[328]328
См.: [Письма… 1991: 159; Купченко 2002: 102; Волошин 1999: 354].
Ср. также признание А. В. Голыптейн о ее выходе из православия в ее письме В. П. Вернадскому от 9 июля 1925 г. с характеристикой П. Б. Струве: «Петр – "немец с русской душой". (…)
А рядом со всем этим православие, кот[орое] он не может чувствовать, как можем мы. хотя давно из него вышедшие» ([История… 1995: 407]; подчеркнуто нами. – А. К.).
[Закрыть] М. А. Волошин познакомился с ней в начале апреля 1901 г., когда у Голыптейн находилась некая Т. М. Фарафонтова, «фольклористка из Забайкалья» [Купченко 2002: 86]. А. В. Голыптейн, в свою очередь, познакомила Волошина с О. Редоном [Там же: 87], именно у А. В. Голыптейн М. Волошин познакомился в сентябре 1902 г. с А. Доржиевым,[329]329
Весьма возможно, что именно А. В. Гольштейн была той «русской леди», с которой сфотографировался А. Доржиев; этот фотоснимок шокировал тибетцев, когда Доржиев показал его в Тибете в 1900 г. Он был вынужден уничтожить привезенное с собой фотооборудование, так как фотографирование в Тибете в то время было запрещено, «фотоаппараты считались шпионскими орудиями» [Доржиев 1994: 47]. Как пишет Ж. Деникер, консервативно настроенное ламаистское духовенство было скандализировано наличием фотографии женщины и фотоаппаратуры и обвинило А. Доржиева в крайнем либерализме. Имя русской дамы (Russian lady), с которой он сфотографировался, Доржиев не раскрыл, но в ответе на обвинения заявил: «I would not have wished to displease this Russian lady, who is already a fervent admirer of our religion» [Deniker 1904: 74].
[Закрыть] она же дала поэту рекомендательные письма к хамбо-ламе буддийского духовенства Восточной Сибири Ирелтуеву и Б. Р. Рабданову. Волошин писал об этом из Парижа 14 декабря 1902 г. в письме к А. М. Петровой: «Я решил оставить теперь Париж и осенью поеду сперва на Байкал, где у меня будут письма в некоторые буддийские монастыри, а потом в Японию – учиться рисовать» [Письма… 1991: 159].[330]330
Более полную картину эпизодов 1902–1910 гг., связанных с намерением М. А. Волошина поехать на Восток, можно проследить по летописи его жизни и творчества, составленной В. П. Купченко [Купченко 2002], а также по дневнику поэта [Волошин 1999] и по его письмам к А. В. Голльдштейн [Письма… 1998]. Обстоятельства не позволили М. А. Волошину в свое время осуществить поездку на Восток: разразилась русско-японская война, началось сотрудничество поэта с периодической печатью, М. А. Волошин вступил в масонскую ложу, подпал под влияние экзальтированной теософки А. Р. Минцловой и, наконец, женился.
[Закрыть] А. Доржиев запомнил Волошина, о чем свидетельствует фрагмент записи диалога в волошинском дневнике от 10 августа 1905 г.: «– Вы знаете, что меня знают и ждут на Гусином озере [один из центров буддизма]? Когда я был в Петербурге у С. Ольденбурга, я встретил у него двух бурят из Гусино-Озерских дацанов, и они узнали меня и сказали, что уже слышали обо мне от Ламы [А. Доржиева]» [Волошин 1999: 146].
В комментариях к опубликованной прозаической автобиографии Доржиева дата проведения буддийского богослужения указывается лишь предположительно, со ссылкой на Ж. Деникера: «Эта буддийская служба, очевидно, была проведена в библиотеке музея Guimet 27 июля 1898 г., «в присутствии большого количества народа, включая и настоящих буддистов» (См.: Deniker. A leader, 73)» [Доржиев 1994: 47]. В ряде помещенных в интернете сообщений (данные на середину апреля 2007 г., поисковая система «Рамблер»), посвященных А. Доржиеву, очень эскизных и поверхностных, бездоказательно и без каких-либо ссылок на источники вскользь упоминается присутствие И. Анненского на этой третьей буддийской церемонии. Следует заметить, что сообщения эти, вместе с тем, сами по себе зачастую неверны фактически (например, утверждение, что А. Доржиев был первым буддистом, служившим во Франции, что Клемансо был президентом Франции и т. п.) и не содержат точной даты этого события (Г. В. Петрова, вслед за А. В. Орловым, датирует посещение Анненским музея Гиме июлем-сентябрем 1901 г. [Петрова 2005: 100]). Точную дату сообщает А. И. Андреев в недавно изданной книге «Храм Будды в Северной столице» [Андреев 2004: 10]. Он же без ссылок на документы отмечает присутствие на богослужении И. Анненского [Там же: 27].
Наше обращение к публикации Ж. Деникера, подкрепленной работой А. Буссемара (а вслед за ним и А. И. Андреева), позволяет считать дату 27 июля 1898 г. точно установленной.
Таким образом, если данный факт биографии И. Анненского и известен историкам буддизма, то не привлекает к себе их внимание, они проходят мимо него довольно равнодушно. Литературоведам же этот факт, как представляется, до последнего времени известен не был (см. [Петрова 2005]), хотя о поездке И. Анненского в Париж в 1898 г. (скорее всего, летом, когда были каникулы) писал В. Кривич [Лавров 1983: 106]. Он же – и это существенно – вспоминал, что сестра И. Анненского безвыездно жила в Париже со времени своего замужества, что ее супругом был не кто иной, как Ж. Деникер, и что И. Анненский в то лето сблизился в Париже с литературным содружеством «La Décade», в которое входили его племянники-французы (младший из них, Николай (Nicolas Deniker), впоследствии стал ближайшим литературным соратником Г. Аполлинера и присылал Анненскому свои французские стихи) [Там же: 106, 114]. Таким образом, биографические данные (место, время, пребывание в Париже в семье Деникера, литературное общение) делают присутствие И. Анненского на «мессе» более чем вероятным. На наш взгляд, косвенным указанием на присутствие Анненского является также отсутствие в его бумагах информации об этом богослужении (на нее давно бы обратили внимание его биографы). Действительно, если бы Анненский не был на буддийской церемонии, то ему написали бы об этом оригинальном событии участвовавшие в нем парижские родственники; в реальности, очевидно, имел место устный обмен мнениями и впечатлениями сразу же по завершении богослужения.
С другой стороны, обращение к тексту «Буддийской мессы в Париже» также позволяет утверждать, что И. Анненский явно был очевидцем данного события (и не мог почерпнуть сведения о ней из публикаций периодической печати, которых, как указывает А. Буссемар, было мало). Ряд моментов чисто изобразительного плана указывает на то, что И. Анненский был среди присутствующих на буддийском богослужении в Париже 27 июня 1898 г. Эти же моменты более или менее прослеживаются в публикации А. Буссемара, реконструировавшего все три буддийских церемонии в Париже и опиравшегося на английский перевод прозаической автобиографии А. Доржиева, а также, в основном, на свидетельства французской прессы того времени.
Проследим некоторые детали и очевидные совпадения.
1. В стихотворении И. Анненского прямо указывается на то, что воссозданная им сцена является его личным воспоминанием: «Колонны (…) и платья (…) и ритмы (…) слов (…) – Вы в памяти моей сегодня оживете». К тому же удивительная конкретность деталей (например, упоминается запах: «струистые смолы», «экзотические ароматы», «дышал… волнами кадил») не позволяет отнести этот текст к вымышленному.
2. Упоминается, как и у А. Буссемара, созданный в библиотеке музея храм: «В капризно созданном среди музея храме».
3. Упоминается конкретно монгол, а не японец: «Священнодействовал базальтовый [т. е. темнолицый] монгол», «Монгол с улыбкою цветы нам раздавал».
4. Упоминаются дамы как характерная часть аудитории: «И дамы черными играли веерами».
5. Конкретны многочисленные цветовые обозначения: «И платья pêche и mauve в немного яркой раме», «…в осенней позолоте», черные веера, ирис, «мой взор рассеянный шелков ласкали пятна».
6. Упоминается перевод текста: «Лишь переводчикам внимали строго мисс», «И было стыдно мне пособий бледной прозы Для той мистической и музыкальной грезы».
7. Упоминается разнообразный состав аудитории: «дамы», «переводчики», «певцы», «дипломаты», среди них повествователь.
8. Акцентируется непонимание текста на чужом языке: «И ритмы странные тысячелетних слов», «И таял медленно таинственный глагол», дамы были чужды тайне буддийского текста, который подобен «мистической… грезе», «А в воздухе жила непонятая фраза». Эти же молитвы в оценке свидетеля-француза: «étrangement musicales», «un bourdonnement de gongs lointains», [elles] «semblent la chanson montant et descendant des cloches des vastes plaines» (цит. по [Boussemart 2001: 106]). В чуждости молитв убеждали не только звуки, но и письменный текст, ибо каждому была дана книжечка с текстом (livret), чтобы при желании псалмодировать в униссон [Ibid.].
9. Подчеркиваются особые качества буддийских текстов, их музыкальность, их ритмы, их медленность: «И таял медленно таинственный глагол», «Мне в таинстве была лишь музыка понятна, Но тем внимательней созвучья я ловил, Я ритмами дышал, как волнами кадил», «И стыдно было мне пособий бледной прозы Для той мистической и музыкальной грезы».
10. Подчас неподобающее поведение публики; «играли веерами», в то время как «священнодействовал базальтовый монгол».
11. Среди присутствовавших были певцы. А. Буссемар отмечает присутствие А. Давид-Неэль, оперной певицы, чья музыкальная карьера длилась с 1888 по 1900 г. (сведения Ф. Третье; по другим данным, до 1911 г. [Лещенко-Сухомлина 1991: 3]).
Подобного рода детали и ситуации нельзя придумать, они слишком конкретны, чтобы быть выдуманными, сообщить о них может только наблюдавший их очевидец (особенно о запавших в память запахах – см. [Тименчик 2005: 66–68]). И лишь поэт может оценить особую высокую музыкальность буддийских текстов (напомним, что, по сведениям А. В. Федорова, И. Анненский знал 14 языков; по свидетельству В. Кривича – 12, кроме русского [Лавров 1983: 101]): «И ритмы странные тысячелетних слов», «Я ритмами дышал…», «…мистической и музыкальной грезы», «…непонятая фраза, Рожденная душой в мучении экстаза, Чтоб чистые сердца в ней пили благодать».
Лишь поэта может шокировать («И странно было мне, и жутко увидать»), очевидно, естественный для толпы парижан переход от таинственности музыки буддийских текстов к противопоставляемой ей пошлости «Маскотты» и «Кармен».
Мотив непонимания толпой (недаром «Буддийская месса в Париже» входит в «Трилистник толпы») высокого слова буддийских молитв как близкого Анненскому противопоставления обыденного и возвышенного, толпы и поэта до сих пор, кажется, не обращал на себя внимание исследователей. Между тем, преклонение перед поэтическим словом, противопоставляемым слову обыденно-вульгарному, пошлому, особенно ярко и наглядно представлено в рассматриваемом стихотворении. Толпа не понимает поэтического слова, в то время как поэт воспринимает его, даже не понимая слов, а лишь внемля его музыке и ритмам.
В статьях с многообещающими заглавиями «Функция контакта в эстетических взглядах И. Ф. Анненского» (Г. М. Пономарева, см. [Пономарева 1988]) и «Среди людей, которые не слышат…» (А. Кушнер, см. [Кушнер 1997]), как ни странно, стихотворение «Буддийская месса в Париже» не рассматривается.
Между тем, текст «Буддийской мессы в Париже» – один из наиболее аксиологически напряженных у И. Анненского, он наглядно выражает дисгармонию между пошлой будничностью толпы и миром высокой духовности поэта. С одной стороны – поэзия: «Ритмы странные тысячелетних слов», священнодействие, «таинственный глагол», понятная музыка таинства, ритмы, которыми дышит поэт, «мистическая и музыкальная греза», «непонятая фраза», рожденная душой в экстазе, в ней благодать. Поэзии уподобляются «нежные цветы богов». Выражает эту поэзию монгол-буддист, который раздает цветы после богослужения. С другой – чуждые тайне дамы и прочая публика, толпа. Люди сначала метонимически обозначаются их платьями,[331]331
В использовании метонимий при описании парижской великосветской толпы в стихотворении «Красавицы (раздумье на открытии Grand Op?ra)» (1929) Маяковский, очевидно, следовал за Анненским. Ср. перечисление частей тела, относящихся к разным людям, а также тканей и деталей различных одежд как обозначения отдельных выхваченных из толпы людей, группы людей и толпы в целом: «Талии», «Ногти», «губки», «ретушь – у глаза», «Спины из газа цвета лососиньего», «пол метут шлейфы» (шлейфы в 1929 г.?), «уши», «на грудинке / ряд жемчужин / обнажают / шеншиля», «Платье – / пухом. / Не дыши. / Аж на старом / на морже / только фай / да крепдешин, / только / облако жоржет», «Брошки – блещут… / на тебе! – / с платья полуголого. / Эх, / к такому платью бы / да еще бы… / голову».
[Закрыть] затем называются конкретно: дамы, певцы, дипломаты. Тоже с улыбкой, но совсем другою, эти дамы «роняют» ненужные им цветы, розданные буддистом. И это страшно было видеть поэту.
Лишь поэт мог использовать экзотическую ситуацию буддийского богослужения в столице Франции для создания образа, выражающего собственную систему ценностей, и в какой-то мере для автохарактеристики. Отождествление себя в этом плане с монголом в Париже, возможно, показывает, с какой горечью И. Анненский осознавал свою непризнанность и непонимание в России.

Первое буддийское богослужение в Париже (21 февраля 1891 г.). Гравюра на дереве. Источник: [L. M. 1891: 265]

Регамей Ф. Третье буддийское богослужение в Париже (27 июня 1898 г.). Пастель, 1898 г. Музей Гиме, Париж. На троне восседает Агван Доржиев, на переднем плане справа Ж. Клемансо. В руках у некоторых присутствующих цветы. Слева от Доржиева дымящаяся курильница, у стены видны полки с книгами. Пастель выполнена в бежевых, желтых и оранжевых тонах. Цветовая гамма пастели похожа на цветовую гамму бурятской буддийской иконы Цзонкапа (XVIII в., см.: Ганевская Э. Из глубин бурятской истории //Творчество. 1971. № 4. С. 19). Источник: [Boussemart 2001: 105].

Агван Доржиев в церемониальном облачении. Журнальная иллюстрация, выполненная по фотографии.

Агван Доржиев. Фрагмент фотографии. Источник: [Андреев 2004: 72].

Ж. Деникер. Фрагмент фотографии. Источник: [Лавров 1983:106].

Редон О. Будда (фрагмент). Пастель, ок. 1905 г. 90 × 73 см. Музей д’Орсэ, Париж. Лицо Будды несколько напоминает лицо Агвана Доржиева времени его пребывания в Париже. Цветовое решение пастели построено на растяжке от голубого через лиловый и серый к охристому и лимонному. Одежду Будды моделируют коричневые, красные, желтые и голубые акценты. Источник: [Vialla 2001: 163].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































