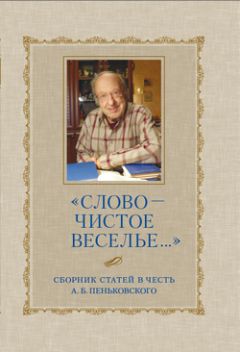
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 50 страниц)
…Пусть кто-то спасается бегством,
Другие кивают из ниш,
Стихи эти были с подтекстом
Таким, что как в бездну глядишь.
А бездна та манит и тянет,
И ввек не доищешься дна,
И ввек говорить не устанет
Пустая ее тишина.
(II, кн. 2. 47)
Усиленное использование Ахматовой фрагментарного письма сказалось и в том, что она часто стилизовала свой текст под отрывок «случайного» диалога или «продиктованные кем-то» строчки, выплывшие из памяти, превращая такого рода «неотделанность», по слову Ю. Тынянова, в «эстетический факт».[310]310
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. С. 48.
[Закрыть] Вследствие этого в ахматовском тексте порой стирается разница между черновым наброском, оставшимся в рукописи, и окончательным текстом, что порой осложняет положение исследователей. То, что она называла «бродячими строчками», смысл которых ей самой казался «темным и странным», вполне может претендовать на статус фрагмента. Видимо, этим можно объяснить то обстоятельство, что Ахматову, по свидетельству В. Г. Адмони, «пугало» существование в ее лаборатории стихов, которые так и останутся «фрагментами».[311]311
Адмони В. Г. Лаконичность лирики Ахматовой // Царственное слово. Ахматовские чтения. Вып. 1.М… 1992. С. 38.
[Закрыть] Вероятно, фрагмент был для нее в известной мере предметом выделки и мастерства, хотя по поводу многих ахматовских набросков, считающихся «черновыми» строчками, хочется сказать ее же словами, обращенными к пушкинским незаконченным повестям: «Да отрывок ли это? Все, в сущности, сказано…»
H. A. Фатеева
Минуты счастья: о некоторых композиционных особенностях организации прозы А. Пушкина И В. Набокова
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Б. Пастернак
Особое внимание Набокова к прозе Пушкина отмечалась многими исследователями. Герой романа Набокова «Дар» (1937) Федор Годунов-Чердынцев в поисках образца для оттачивания своего мастерства не раз обращается к прозаическим произведениям Пушкина, однако остается в недоумении, почему в его повести «Метель» в нескольких близлежащих строках 5 раз встречается слово поминутно [3, 229].[312]312
Цит. по изданию только с указанием тома и страницы: Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1990.
[Закрыть] Неужели Пушкин сам не замечал такой стилистической погрешности? Наша статья как раз является объяснением того, почему наречие «поминутно» становится столь композиционно значимым в этом тексте Пушкина и как затем пушкинская «минута» откроет счет «мгновениям счастья» героев Набокова.
Первым обратил внимание на особую роль слов с корнем минут- в «Метели» С. Давыдов в своей классической статье «Звук и тема в прозе Пушкина».[313]313
Давыдов С. Звук и тема в прозе Пушкина // Пушкин и поэтический язык XX века. М., 1999.
[Закрыть] Исследуя звуковую организацию этого текста, ученый обнаружил, что ключевые его слова метель, буря и ветер отнюдь не доминируют в тексте (они встречаются соответственно 8, 2 и 3 раза), а особую частотность получают слова минута (11) и производное от него поминутно (8). Итак, всего слова с корнем минут- встречаются в повести 19 раз. К толкованию Давыдовым этого явления мы вернемся немного позже, сейчас же обратимся к самому тексту повести, а именно обратим внимание на то, как автор членит свой текст на абзацы.[314]314
Как известно, существуют две единицы членения целостного текста – абзац и сверхфразовое единство (СФЕ). Абзац – это формальная единица членения текста, заданная автором. Само членение текста имеет двоякую основу: раздельно представить читателю некоторые фрагменты для того, чтобы облегчить восприятие некоторого сообщения, и для того, чтобы автор мог задать определенную установку для восприятия этого сообщения, т. е. подчеркнуть определенные временные, пространственные, логические или образные связи и зависимости или, наоборот, их фрагментировать, прервать, переакцентировать или дистанцировать. И если СФЕ является единицей объективного членения текста, которое зависит от его функциональной перспективы, то членение на абзацы – результат субъективного решения автора. В результате одно СФЕ может члениться на несколько абзацев, а в одном абзаце может заключаться несколько СФЕ (См. Левковская Н. А. В чем различие между сверхфразовым единством и абзацем? // Филологические науки. НДВШ. 1980. № 1).
[Закрыть]
Если мы вспомним пушкинское стихотворение «Бесы» (1830), написанное незадолго до повести, то увидим, что в нем образ кружащейся метели «закодирован» иконически – в самом строении стиха несколько раз рефреном повторяются строки, воспроизводящие волнообразное движение стихии: Мчатся тучи, вьются тучи; / Невидимкою луна / Освещает снег летучий; / Мутно небо, ночь мутна [1, 475].[315]315
Цит. по изданию только с указанием тома и страницы: Пушкин А. С. Сочинения: В 3 т. М, 1985.
[Закрыть] В повести же «Метель» точно так же подано движение незадачливого Владимира, который так и не попал на венчание со своей возлюбленной. Описание движения этого героя в метели делится Пушкиным на отдельные абзацы, т. е. подается дискретно, и само это разделение как бы затрудняет и задерживает движение путника. Владимир все время стремится к цели, на что указывает начинающее несколько абзацев наречие наконец, однако затем следуют абзацы, в начале которых стоит противительный союз но, отрицающий ее достижение. Беспорядочное движение Владимира задается и все время повторяющимся наречием поминутно, которое соединяет разрозненные абзацы.
Интересно, что абзац, непосредственно предшествующий описанию этого странствия Владимира в метели, завершается констатацией, что до церкви можно добраться за 20 минут: «Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут» [3, 61]. Получается, что в тексте не хватает всего одного упоминания о «минуте», чтобы время в дороге развивалось в правильном направлении. Где же прячется эта минута и какую функцию в тексте она выполняет?
Заметим, что первый же абзац о метели начинается с противительного «но», и как раз сообщается, что в «одну минуту дорогу занесло». Ср.:
Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже npotwio более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу [3, 61–62].
Если же мы будем восстанавливать в этом абзаце цепочку связей близкозвучных слов, то получим следующую последовательность: метель-минуту-мутной-поминутно-поминутно-минут-метель-поминутно.
Вспомним, что в стихотворении «Бесы» слово метель вовсе не упоминается, а о ней нам напоминается только метонимически при помощи ключевых слов «мутна» и «мутной». В «Метели» же звуковая аллюзия более очевидна, и она как раз задается через «мглу» и «минуту», следующее же за сочетанием «во мгле мутной» поминутно лишь усиливает заданную тему трехкратным повтором. Однако в абзаце обнаруживаются еще закольцовывающие его элементы: это операторы отрицания «но» и «не», которые вовлекают в звуковой круговорот и слово «небо», которое для Владимира все время «мутно»: но-ничего не взвидел-небо-только не потерять-но-не доезжал-не видать-не утихала-небо не прояснялось. Вся же цепочка целиком как раз развивает тему «мутного неба» «Бесов». Если же мы будем следить за отсчетом времени, то с точки зрения Владимира за время развертывания первого абзаца «пути» прошло около 40 минут.
Какое же значение в этом абзаце приобретает слово поминутно? Если мы обратимся к Словарю языка Пушкина, то там представлены следующие толкования этого наречия: «Часто, постоянно, все время» и «С минуты на минуту».[316]316
Словарь языка Пушкина. М.: Азбуковник, 2000. Т. 3. С. 556.
[Закрыть] Ни одно из них не является актуальным в нашем контексте. Попутно заметим, что по данным словаря, это слово достаточно часто употребляется у Пушкина – 94 раза (в поэзии, прозе, письмах, публицистике), и немного странно, что оно так однообразно и скупо в нем проиллюстрировано. Согласно подсчетам С. Давыдова, только в пушкинской прозе оно встречается 36 раз, значит, его частотность в «Метели» доходит до 0,25 всех употреблений, что не может быть случайностью.[317]317
Давыдов С. Указ. соч. С. 15.
[Закрыть] Конечно, смысл «постоянно» представлен в данном контексте, тем более что поминутно 3 раза повторяется, делая этот смысл иконичным; но также не менее явным становится смысл «каждую минуту», который благодаря звуку соединяется и с темой «помутнения» и почти бессознательно с темой «поминовения» (ср. помянуть).
Далее также каждый новый абзац открывается надеждой на изменение положения дел, однако тут же вмешиваются уже заведенные операторы «но» и «не», выводящие на поверхность ошибку в направлении движения:
Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время іило; Владимир начинал сильно беспокоиться [3, 62].
И далее все идет по той же заведенной схеме, когда соотносимое с чудесным выходом «наконец» получает разрешение лишь в выражении «не было конца». Ср.:
Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.
Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира [3,62].
В результате, когда Владимир достигает наконец цели, проходят отнюдь не «свистящие у виска» минуты, а целая ночь, которая роковым образом поворачивает его судьбу, а именно по направлению к смерти. Недаром в конце пути он оказывается «недвижим, как человек, приговоренный к смерти» [3, 63], а для того чтобы узнать свою судьбу, он не может ждать ни минуты: «Не прошло минуты, он опять начал стучаться» [3, 63].
Объясняя художественную этимологию имени Владимир в «Метели», Давыдов начинает соотносить ее уже не с понятием "міръ (вселенная), а омонимичным «мир» «покой» и вычленяет в нем корень «умирания» (именно умирающим видит его невеста Марья Гавриловна во сне).[318]318
Давыдов С. Указ. соч. С. 15.
[Закрыть]
Однако, как мы знаем, повесть завершается счастливым концом и имеет чудесное разрешение. А возникает оно потому, что звуковым сочетание м-р связаны не только имена Марьи и Владимира, но и Бурмина, ее истинного суженого, которого «конем не объедешь». Посмотрим в связи с этим, как по контрасту с описанием движения Владимира в метели дан в повести рассказ Бурмина, обращенный к Марье Гавриловне. Обнаруживаем, что рассказ о той же метели и о невероятных событиях, последовавших за путешествием Бурмина, укладывается в один абзац и подан в форме прямой речи. Фактически такое не дискретное, а континуальное строение текста[319]319
В этом смысле релевантным оказывается очень важное наблюдение Ю. В. Шатина о противоположности статуса «события» и «чуда» в художественном тексте: событие всегда дискретно, чудо континуально (Шатин Ю. В. Событие и чудо // Дискурс. 1996. № 2).
[Закрыть] объясняет, почему Бурмин не успел даже остановиться и опомниться, как стал «мужем» еще неизвестной ему тогда девушки.
Важно при этом, что перед объяснением Бурмина три раза повторяется слово минута. А именно, Марья Гавриловна «приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения», ей казалось, что «решительная минута» уже близка, и наконец Бурмин «потребовал минуты внимания» [3, 66–67].
В самом же рассказе судьбоносная метель превращается у Бурмина в «бурю»:
– В начале 1812 года, – сказал Бурмин, – я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» – закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? – сказал мне кто-то, – невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, – сказала эта, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» – «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна– Непонятная, непростительная ветреность… Я стал подле нее перед аналоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», – сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать… Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» [3, 68].
Так, получается, что в фамилии Бурмина оказывается закодированной та минута, которая позволила ему совпасть «по ветру» с движением метели (Бурмин = буря + минута) и которая чудесным образом соединила его с Марьей Гавриловной, которую «чуть не уморили». Само слово «невеста» в тексте также связывается с «непонятной, непростительной ветреностью».
Попробуем ответить, в каком пространстве существует эта минута, которая разрешила судьбы героев таким случайным образом? Она существует в образно– композиционном пространстве текста, который «поминутно» стремится к своей развязке. Однако задается эта чудесная развязка уже самим выбором имен героев. Таким образом, истинный смысл произведения заключается в самом автореферентном существовании художественного текста, в котором знаки разных языковых уровней обнаруживают свою иконичность. Материализует же эту иконичность именно звуковая организация текста, которая, по мысли Бродского, и является «колоссальным ускорителем сознания, мышления, мироощущения».[320]320
БродскийII. Нобелевская лекция НБродскийII. Набережная неисцелимых. М., 1992. С. 193.
[Закрыть]
Обратимся теперь к прозе самого Набокова, в рассказе которого с символическим названием «Рождество» (1930) находим еще одну чудесную развязку событий. И она тоже задается особым членением текста на абзацы.
Отец с «говорящей» фамилией Слепцов приезжает под Рождество в свое имение, чтобы похоронить там сына. Он в отчаянии. Отец перебирает вещи умершего сына и вдруг находит коробку с бабочками и их куколками, которые ловил и собирал сын летом. Слепцов приносит эту коробку в комнату, и неожиданно в рождественскую ночь находится разрешение его отчаянного состояния – происходит чудо. Неожиданность и найденное решение «жить дальше» задается Набоковым именно необычным разделением текста на абзацы, которое мы наблюдаем после одиноко поставленного предложения: «—…Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение» [1, 324].
Но вскоре Слепцов неожиданно прозревает (ср. оксюморон: Слепцов открыл глаза), и к нему возвращается потерянное ощущение «счастья жизни». Но это происходит не сразу, а постепенно, по мере того как внутри длинного серединного абзаца «медленно и чудесно» раскрываются крылья бабочки, оживающей в тепле:
Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь — горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес…
И в то же мгновение щелкнуло что-то, тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит порванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось от того, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, что напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые, еще влажные — все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши, – громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.
И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья [1, 324–325].
Если мы внимательно посмотрим на этот фрагмент, то увидим, что членение на абзацы проходит как раз в тех точках, где появляется соединительный союз «И», и оно призвано делать неожиданным заданное природой изначально. Заметим также, что сама «бабочка» сначала именуется в тексте как «существо» среднего рода, некоторое «оно», подобное чувству Слепцова, и только после слов о «пределе, положенном Богом», возникает образ «громадной ночной бабочки», подобной счастью. Иконическими оказываются в этом тексте и тире, как бы дублирующие слово «крылья» и помогающие им набрать силу. В самой же строке, где крылья разворачиваются до предела, «положенного Богом», неожиданно находим анаграмму слова «Рождество»: ВСЕ пРОДОлЖали РаСТи.
Таким образом, чудесные превращения создаются самой тканью текста, которая есть материализация образного замысла художника слова. И в тексте возникает то «поэтическое» начало, которое существует вне рамок определенной формы словесного выражения. Наиболее точное определение ему дал сам Набоков в своей работе о Гоголе: «Под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи».[321]321
Набоков В. В. Николай Гоголь // Новый мир. 1987. № 4. С. 194.
[Закрыть]
А. А. Ковзун
Несколько комментариев к «Буддийской мессе в Париже» И. Анненского
Стихотворение И. Ф. Анненского «Буддийская месса в Париже» входит в «Трилистник толпы» из его сборника «Кипарисовый ларец» (1910).
Буддийская месса в Париже
Ф. Фр. Зелинскому
1
Колонны, желтыми увитые шелками,
И платья pêche и mauve в немного яркой раме
Среди струистых смол и лепета звонков,
И ритмы странные тысячелетних слов,
Слегка смягченные в осенней позолоте, —
Вы в памяти моей сегодня оживете.
2
Священнодействовал базальтовый монгол,
И таял медленно таинственный глагол
В капризно созданном среди музея храме,
Чтоб дамы черными играли веерами
И, тайне чуждые, как свежий их ирис,
Лишь переводчикам внимали строго мисс.
3
Мой взор рассеянный шелков ласкали пятна,
Мне в таинстве была лишь музыка понятна,
Но тем внимательней созвучья я ловил,
Я ритмами дышал, как волнами кадил,
И было стыдно мне пособий бедной прозы
Для той мистической и музыкальной грезы.
4
Обедня кончилась, и сразу ожил зал,
Монгол с улыбкою цветы нам раздавал,
И, экзотичные вдыхая ароматы,
Спешили к выходу певцы, и дипломаты,
И дамы, бережно поддерживая трен, —
Чтоб слушать вечером Маскотту иль Кармен.
5
А в воздухе жила непонятая фраза,
Рожденная душой в мучении экстаза,
Чтоб чистые сердца в ней пили благодать…
И странно было мне, и жутко увидать,
Как над улыбками спускалися вуали
И пальцы нежные цветы богов роняли.
[Анненский 1990б: 127–128].
Это стихотворение относится к тем произведениям И. Ф. Анненского, которые требуют реального комментария, проясняющего не только круг первичных образов, но и стоящие за ними смыслы. Вместе с тем, в различных изданиях И. Анненского это произведение почти не комментируется или комментируется мало. Если сравнить комментарий различных отечественных изданий текстов поэта, то окажется, что к данному стихотворению читателям предлагается следующая дополнительная информация (в различных комбинациях):
1. Указывается, где и когда впервые был опубликован текст («Северная речь», 1906), где находится автограф и списки (ЦГАЛИ) – [Анненский 1959; 1979; 1987а; 1988; 1990а; 19906].
2. Поясняется, кому посвящено стихотворение (Ф. Ф. Зелинскому): «Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) – профессор кафедры классической филологии Петербургского университета, переводчик античных авторов» – [Анненский 1959; 1979; 1987а; 19876; 1988; 1990а; 19906; 1998; Анненский, Кузмин 2000].
3. Поясняется слово «трен»: «конец длинного женского платья, тянущийся наподобие шлейфа» [Анненский 19906; Анненский, Кузмин 2000].
4. Поясняется «Маскотта»: «"Маленькая Маскотта" (1880) – оперетта французского композитора Эдмона Одрана» [Анненский 1959; 1979; 1987а; 19876; 1988; 1990а; 19906; 1998; Анненский, Кузмин 2000].
5. Поясняется «Кармен»: «Кармен – опера Ж. Визе» [Анненский, Кузмин 2000].
6. Дается перевод французских слов «p?che» («желтый, цвета персика») и «mauve» («лиловато-розовый») – во всех изданиях.
7. К строке «В капризно созданном среди музея храме» приводятся дублирующие друг друга от издания к изданию комментарии (когда они есть), не вносящие, однако, ясности в понимание текста [Анненский 1979; 1988; 19906; Анненский, Кузмин 2000]. Впервые этот стих был прокомментирован А. В. Лавровым в издании И. Анненского 1979 г.: «Имеется в виду посвященный религиям Востока музей Гиме в Париже» [Анненский 1979: 345]. При этом пояснялось: «Стихотворение относится, по-видимому, ко времени заграничной поездки Анненского летом и осенью 1901 года (данные выяснены А. В. Орловым)» [Там же]. Тот же комментатор практически повторил свой комментарий, чуть смягчив его, в издании И. Анненского 1988 г.: «Вероятно, имеется в виду посвященный религиям Востока музей Гиме в Париже» [Анненский 1988: 675]. Этот комментарий без изменений вошел и в издание И. Анненского 1990 г. [Анненский 19906: 573]; над буквой «е» в названии музея появился знак ударения). Н. А. Богомолов в издании И. Анненского 1990 г. эту строку не комментирует вообще, однако в издании стихотворений И. Анненского и М. Кузмина 2000 г. замечает: «…по предположению А. В. Федорова, имеется в виду музей Гиме в Париже» [Анненский, Кузмин 2000: 605].
У читателя, да и у исследователя, не может не остаться чувства неудовлетворенности подобными комментариями к столь загадочному и вместе с тем яркому и наглядному стихотворению, как «Буддийская месса в Париже». Комментарии такого объема явно недостаточны для адекватного понимания текста и даже могут ввести в заблуждение, в том числе и исследователя-литературоведа [Петрова 2005]. Поэтому неудивительно, что даже ведущий исследователь творчества И. Анненского А. В. Федоров не понял, как нам представляется, этого глубоко трагичного стихотворения, охарактеризовав включающий его в себя «Трилистник толпы» как «более мажорный» (по сравнению с трилистниками «В парке» и «Из старой тетради»), как «оптимистический по своему началу ("Я жизни не боюсь…" – первый стих открывающей его "Прелюдии") и ярко-красочный по завершению, каким является "Буддийская месса в Париже"» [Федоров 1984: 160].
Неудивительно, что это стихотворение мало исследовано, хотя тематически («толпа») оно уже важно, хотя бы потому, во-первых, что «будничное, обиходно– разговорное», «прозаическое» в поэзии Анненского требует к себе столь большого внимания (…) по важности выполняемой им функции как средства характеристики (можно бы сказать – автохарактеристики) лирического героя» [Там же: 128; 124–130]. Во-вторых, тема музыки, столь важная в лирике Анненского, также представлена в «Трилистнике толпы» и в «Буддийской мессе в Париже». В-третьих, в этом стихотворении показана характерная для Анненского, говоря словами J1. Я. Гинзбург, «связь между душевными процессами и явлениями внешнего мира» [Гинзбург 1974: 314], специфика отношений «лирической личности с внешним миром, враждебно и крепко с ней сцепленным, мучительным и прекрасным в своих вещных проявлениях» [Там же: 320].
Как представляется, исследователи не обращают в должной мере внимания на «Буддийскую мессу в Париже» именно по причине отсутствия элементарной первичной «бытовой дешифровки» этого текста. Как отмечают А. В. Лавров и Р. Д. Тименчик, «такие «дешифровки», безусловно, оказались бы необходимым комментарием, конкретизирующим смысл того или иного стихотворения. Поиски реальной, «бытовой» основы стихотворений Анненского, видимо, должны стать одним из направлений в исследовании его поэзии, столь подчеркнуто обращенной, вразрез с устремлениями других современников-символистов, к «будничности», к «вещному миру», предопределяя и стимулируя деятельность последующего поэтического поколения» [Кушнер 1997: 68, 122]. Достаточно в этой связи напомнить о пояснениях В. Кривича к «Лире часов».
Вместе с тем, в случае с «Буддийской мессой в Париже» обращение к историческим источникам, странным образом не попавшим в поле зрения литературоведов, позволяет установить, что в стихотворении идет речь о реальном, а не вымышленном событии, очевидцем которого был Анненский. Речь идет о конкретной буддийской церемонии в парижском музее Гиме.
* * *
В последнем десятилетии XIX в. по инициативе Эмиля Гиме (Е. Guimet, 1836–1918) в Париже, в созданном им в 1879 г. Музее восточных культур было организовано три буддийских богослужения.[322]322
Настоящее сообщение во многом опирается на статью французского япониста А. Буссемара [Boussemart 2001], посвященную истории этих богослужений. Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность этому исследователю за некоторые пояснения в личной переписке и за дружески– благожелательное участие.
[Закрыть] Впервые в истории в Европе публично практиковался культ, о котором подавляющее большинство европейцев (за исключением, быть может, любопытствующих путешественников и военных, как участников вооруженных конфликтов на Дальнем Востоке) не имело никакого представления.
I. Первая буддийская церемония имела место 21 февраля 1891 г.[323]323
На это событие, несомненно, обратил свое внимание Вл. Соловьев, ибо в 1892 г. в июльском номере «Северного вестника» появилась написанная им статья «Враг с Востока», в начале которой автор утверждал, что «(…) дальняя Азия, столько раз высылавшая опустошительные полчища своих кочевников на христианский мир, готовится в последний раз против него выступить с совершенно другой стороны: она собирается одолеть нас своими культурными и духовными силами, сосредоточенными в китайском государстве и буддийской религии» [Соловьев 1892: 253]. Вл. Соловьев напоминает о «прежних монгольских разорителях» и предостерегает против «будущих индийских и тибетских просветителей» [Там же].
[Закрыть] в библиотеке музея Гиме, превращенной ради сего случая во временный буддийский храм. Интерьер для этого устраивался необыкновенно тщательно, со стремлением к максимальной подлинности, так что о Париже в нем напоминал лишь лежащий на полу современный французский ковер, взамен традиционных татами.
Богослужение вели два японских монаха-буддиста, члены секты Шинран, – Коицуми Риотаи (Ko-Idsumi-Tai, или Koizumi Ryotai) и Йошицура Хоген (Yochitsura Kogen, или Yochitsura Hogen). Моление происходило перед статуей будды Амиды и изображением Шинрана – святого, в XIII в. основавшего их секту.
Бонзы прибыли во Францию на борту двух японских крейсеров, где они служили капелланами. Они и не предполагали, что будут проводить в Париже столь важное для их секты богослужение Hoonko. Монахи высадились в Марселе 29 января 1891 г. и на следующий день поездом отбыли в Париж, где уже 1–2 февраля осмотрели музей Гиме, а затем были представлены его директору Э. Гиме. Монахи находились под столь сильным впечатлением от музея, что сами попросили позволения провести в нем богослужение, ибо после отплытия с Цейлона такой возможности у них не было.
Возбужденное ими любопытство парижан было столь велико, что на церемонии присутствовал, как говорится, «весь Париж». Среди прочих были представитель президента Республики, большое число сопровождающих его министров, многочисленные члены зарубежных представительств, политики (Жюль Ферри, J. Ferry, 1832–1893), ученые, художники (Э. Дега, Е. Degas, 1834–1917), скульпторы (П. А. Бартоломе, P. A. Bartholomé, 1848–1928), литераторы и все, кто интересовался японской культурой. Среди приглашенных выделялась фигура Ж. Клемансо (G. Clemanceau, 1841–1929), будущего главы французского правительства.
Отклики в прессе на это сенсационное богослужение были на редкость обильными. Это вполне объяснимо существовавшими в то время особенностями отношений между властями светской Французской республики и Католической церковью. Про Клемансо, ярого сторонника светского государства, писали, что человек, который, как полагали, никогда не войдет в католический храм, присутствовал, тем не менее, на буддийской церемонии. На что он с парижским остроумием отвечал: «Что поделаешь, я буддист!»
За несколько дней появилось около 140 статей в изданиях не только Парижа, но и Амстердама, Алжира, Бухареста, Нью-Йорка, а также в газетах провинциальных городов – Лилля, Бреста, Монпелье, Страсбурга, Буржа и др. Пресса писала, что лишь «немногим избранным» выпала удача присутствовать на этой большой «премьере»; журналисты, в частности, упоминали (обратим на это внимание) «ласкающее кудахтанье» («gloussements caressants») буддийских песнопений.
II. Второе буддийское богослужение имело место в музее Гиме 13 ноября 1893 г. Провел его настоятель японского монастыря Митанидзи (Mitani-dЛ) монах школы Шингон (Singon) Токи Хориу (Toki Horyu), прибывший в Париж осенью 1893 г. по пути на родину после участия в Конгрессе религий в Чикаго. Он также был поражен богатством коллекций музея, который он посещал каждый день. Э. Гиме не мог упустить такой счастливой возможности и попросил японца провести службу. Это было редкое богослужение в честь всех будд и бодхисатв (Gohoraku). Оно имело место на первом этаже музея Гиме и длилось около часа.
Среди приглашенных были представители прессы, политики (Ж. Клемансо; Л. Буржуа, L. Bourgeois, 1851–1925), ученые (Л. Пастер, L. Pasteur, 1822–1895), люди творческих профессий, представители деловых кругов, ориенталисты, этнографы, специалисты по Японии (Леон де Росни, L. de Rosny, 1837–1914).
Отклики в прессе вписывались в общую проблематику статей того времени о роли религии в обществе и были как благожелательными, так и резко враждебными. Одни католические газеты возмущались, что если для проведения одного из разрешенных Государством богослужений (католического) требуется выполнить столько формальностей, то для «подобной китайщины» («pareilles chinoiseries») не требуется ничего, причем это имеет место в публичном здании, в самом сердце Парижа и даже не во время карнавала. Другие выражали сожаления по поводу присутствовавшей на буддийской церемонии публики, которая проявила любовь к развлечениям и обнаружила свое замешательство (désarroi) и развращенность (corruption). Эта «несчастная толпа неверующих оставлена на произвол своих извращенных потребностей. Не зная более, где истина, она питается скандалами» (цит. по [Boussemart 2001: 104]).
Отмечалось странное впечатление от экзотической буддийской службы, писалось о «душе этой огромной Азии», о том, что «Восток отныне являет с Парижем единое целое». Токи Хориу в частном письме констатировал, что факт буддийского богослужения в музее, в сердце Парижа и Франции, является не чем иным, как «знаком успеха распространения буддизма в Париже и во Франции» (цит. по [Ibid.]).
III. Третье буддийское богослужение состоялось 27 июня 1898 г. в библиотеке музея Гиме. Его провел известный Агван Доржиев (1854–1938), прибывший во Францию (и затем посетивший другие страны Европы) из Тибета в качестве дипломатического посланника Далай-ламы XIII. Фигура эта настолько значительна и любопытна, что приходится удивляться, почему она столь длительный период не попадала в поле зрения литературоведов (возможно, из-за запрета писать о репрессированных).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































