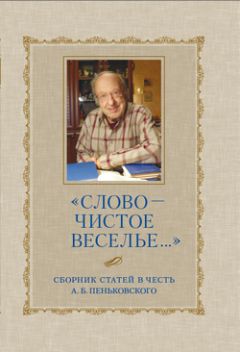
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
И. В. Фоменко
К определению понятия «художественный текст»
Как ни парадоксально, но то, что не составляет труда для интуиции (читатель даже по фрагменту легко определяет, где художественный текст, а где нет), достаточно трудно поддается аналитике. Во многом это зависит от того, что литературоведу чрезвычайно сложно определить и природу художественности, и ее конкретное проявление в литературной практике, а лингвисту не менее сложно проделать то же самое, основываясь на понятии «язык художественной литературы».
Для того чтобы попробовать все-таки установить базовое отличие вербального художественного текста от нехудожественного, удобнее занять позицию нейтральную по отношению и к литературоведению и к лингвистике. В данном случае такую исходную позицию предлагает один из тезисов филологической герменевтики: в любом высказывании достатоточно отчетливо разграничиваются два уровня: содержание (совокупность значений языковых единиц) и смыслы (понимание и оценка говоримого / сказанного).[187]187
Богин Г. II. Филологическая герменевтика. Калинин, 1982.
[Закрыть] Этот тезис позволяет рассмотреть текст как «способ производства смысла»[188]188
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. Зенкина. М., 2001. С. 28.
[Закрыть] (смыслопорождающий механизм) и предположить, что художественный и нехудожественный тексты отличаются друг от друга разным соотношением содержания и смыслов. В нехудожественном тексте доминирует содержание, в художественном – смыслы.
В нехудожественном высказывании (сузим его до высказывания на литературном языке) содержание и смыслы сбалансированы, потому что основная функция литературного языка – быть средством коммуникации для максимально широкого круга людей, то есть быть общепонятным. Для того чтобы быть общепонятным, литературный язык должен быть нормативным. Нормативность обеспечивается тем, что слова употребляются, как правило, в основных словарных значениях, а синтаксис строго регламентирован. Этим определяются две основные особенности литературного языка. Во-первых, информация оказывается заключенной в непосредственном содержании сообщения (совокупности значений языковых единиц), а смыслы порождаются отношением к содержанию, его оценкой. Во-вторых, так как литературный язык оперирует преимущественно понятиями, он аналитичен, и это позволяет адекватно объяснить и описать мироустройство. Иными словами, литературный язык – это язык, объясняющий мир.[189]189
Шапир M. II. Язык поэтический // Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины: Учеб. пос. / Под ред. Л. В. Чернец. М., 1999.
[Закрыть]
Художественная литература не объясняет и не анализирует мир, а создает эстетическую реальность из небытия. Становление художественного мира – это попытка закрепить в слове индивидуально-неповторимый целостный образ бытия, который существует только в авторском воображении. Для того чтобы такой образ мира (эпос, драма) или чувства (лирика) воплотить в слове, нужен язык, ориентированный не на анализ, а на синтез, не на содержание сообщения, но на смыслы, «опредмечиваемые» в тексте. Короче говоря, язык художественного текста – это язык, в котором доминирует не содержание, но смыслы.
Этим, вероятно, и определяются (с точки зрения смыслообразования) две основные особенности языка художественной литературы: источником смыслопорождения становятся уровни структуры, иррелевантные для любого другого высказывания,[190]190
Гиндин С. II. Текст // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 436.
[Закрыть] а значения слов определяются контекстом (в отличие от текстов на литературном языке, где, наоборот, контекст определяется совокупностью значений слов).
Разумеется, речь идет не о том, что каждый уровень структуры непременно актуализирует каждый читатель, но о потенциальной смыслопорождающей способности каждого элемента художественного текста,[191]191
Ср.: «Стихотворение – сложно построенный смысл. Все его элементы – суть элементы смысла…» (ЛотманЮ. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 48).
[Закрыть] начиная с его визуального облика.[192]192
Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста. Челябинск, 2006.
[Закрыть] Самый очевидный пример – фигурные стихи и проза, где визуальный компонент обнажен как способ порождения дополнительных смыслов (классический пример – стихи в виде хвоста мыши в «Алисе в стране чудес» Л Кэрролла). Если в визуальный стандарт введен иконический знак, он участвует в смыслообразовании не в меньшей степени, чем вербальный элемент. В «Песнях Невинности и Опыта» У Блейка (он сам гравировал и набирал книгу) образ текста складывается из визуального облика не только страницы, но разворота: полей, гравюр и стихотворного текста. В «Маленьком принце» А. де Сент-Экзюпери стилизованные рисунки продолжают вербальный текст и, в свою очередь, порождают его, создавая ощущение не только игры, но и простоты философии.
Но это случаи достаточно редкие. Обычно визуальный облик текста складывается из плотности заполнения страницы; размера шрифта и игры шрифтами; размера абзацев и пробелов в начале и конце абзаца, между отдельными фрагментами текста; соотношения горизонтально и вертикально организованных строк, когда в прозу включаются стихи; расположения стихотворений на отдельных страницах или «в подбор» и т. д.
Так, строфический пробел становится смысловой доминантой в стихотворении Ф. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..».[193]193
Фоменко И. В. Семантика «пустого места» // Анализ одного стихотворения. «О чем ты воешь, ветр ночной?..» Ф. И. Тютчева. Тверь, 2001.
[Закрыть] Двойные пробелы между абзацами и соразмерность самих абзацев в романе Л Добычина «Город Эн» создают визуальный облик строфической композиции стихотворного текста. Двойные пробелы между фрагментами, заполненные многоточиями у А. Белого и маркированные звездочками у А. Ремизова, сдвинутые строки с дополнительными тире у того же Ремизова и А. Веселого становятся пластическим выражением ощущения фрагментарности жизни или ее взвихренности, калейдоскопичности. А отсутствие абзацного отступа перед последним авторским отступлением в «Мертвых душах» Н. Гоголя не противопоставляет, как все мы учили в школе, сюжетную ситуацию (отъезд Чичикова, изгнанного из города) с пафосом декламации о Руси– тройке, а «сращивает» их.[194]194
Кстати, герой одного из рассказов В. Шукшина добивался прямого ответа у школьного учителя: так что, Русь-тройка вперед несется, а на ней Чичиков скачет, он же тоже любил быструю езду, и его тоже тройка из города везла?
[Закрыть]
Маленькая рамка в конце письма, в которую героиня «Поединка»[195]195
Куприн А. II. Поединок // Куприн А. II. Соч.: В 3 т. Т. 2. М… 1954. С. 175.
[Закрыть] А. Куприна вписала «Я / здесь / поцеловала» становится одним из приемов психологического анализа.
Графики в «Москве – Петушках» Вен. Ерофеева пародируют советскую жизнь, а карты и схемы у М. Павича порождают ситуацию игровой достоверности.
Рисованные буквы в начале текста создают ощущение праздничности, торжественности или колорита эпохи, иноязычный шрифт маркирует «чужое» слово, и так далее.
На вербальном уровне особенности орфоэпики, словоупотребления, синтаксических конструкций в прямой речи становятся одним из важных способов создания индивидуальности персонажа. Принципиально важную роль играют тропы и (особенно в лирике) иносказание в широком значении этого слова, то есть речевая ситуация, когда вместо понятия автор дает некое описание, деталь, не называющие, но передающие состояние. Это представляет трудность для читателя, ощущающего содержание, но не смыслы. А без порождаемых тропами и иносказаниями смыслов, ради которых они и созданы, хрестоматийно известное двустишие А. Ахматовой «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки» ничем не отличается от хрестоматийно же известных строк К. Чуковского «Вместо шапки на ходу / Он надел сковороду».
Смыслообразующими в художественном тексте становятся служебные слова.[196]196
ФоменкоII. В. Практическая поэтика: Учеб. пособие. М., 2006.
[Закрыть] В нехудожественном тексте, где доминирует содержание, они играют роль «упаковочного материала» (Л В. Щерба), связывая значимые элементы и обеспечивая тем самым нормативность высказывания. В тексте художественном они, кроме этого, еще и участвуют в смыслообразовании. Если исходить из того, что автор употребляет служебные слова неосознанно, а структура предложения есть «материализация» структуры авторского мышления, то служебные слова можно рассматривать как слова структурные, закрепляющие («материализующие») авторское ощущение отношений в мире, т. е. структуры мира. Самый простой пример – мношсоюзие и бессоюзие, создающие образ единства или калейдоскопического события. Достаточно велик диапазон смыслообразующих возможностей и одиночных служебных слов. Они могут быть основой смысловой вариативности (такова, например, роль указательной частицы «вот» в стих. Н. Гумилева «Вот девушка с газельими глазами…»), структурообразования (стихотворения Пушкина, построенные по модели «А но Б»),[197]197
ЧумаковЮ. П. Принцип «перводеления» в лирических композициях Тютчева // Studia metrika et poetica. Памяти П. А. Руднева. СПб., 1999.
[Закрыть] играть роль агентов экспрессии (один из примеров – стихотворение Б. Пастернака «Петербург») и даже одной из смысловых доминант (например, в стихотворении А. Ахматовой «Он любил…»).
На уровне фоники принципиально важному, эмоционально наполненному слову может предшествовать особая «звуковая подготовка», готовящая «смысловой взрыв», концентрирующий в слове-понятии семантические поля предшествующих аллитерирующих слов. Так, в XXX строфе 6 главы «Евгения Онегина», где описана дуэль, драматизм достигает высшей точки в словах «Онегин выстрелил…». И в 10 стихах, предшествующих этим словам, как бы готовя слово «выстрелил», звукосочетания «CT-Л», «B…CT-Л» повторяются почти в 5 раз чаще (одно «СТ» на 9.3 слога), чем во всех остальных строфах (одно «СТ» на 44 слога).[198]198
Салямон Л. С. Заметки о поэтической звукописи Пушкина // ПАН СЛЯ. Т. 56. 1997. № 5.
[Закрыть]
Имя собственное в нехудожественном тексте, прежде всего, информативно. В тексте художественном оно участвует в смыслообразовании на разных уровнях структуры. Прежде всего, имя или именование персонажа не случайно, а мотивировано и потому являет собой в «свернутом виде» сущность персонажа.[199]199
См. об этом подр.: Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999.
[Закрыть] Особенности именования автором героев и персонажами друг друга устанавливают не только их пол и возраст, но социальный и культурный статус.
Разные именования одного и того же персонажа другими моделируют систему их отношений, а логика изменений в именовании одного героя может маркировать изменения в судьбе (сменяющие друг друга именования поэта Бездомного в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова:[200]200
БулгаковМ. А. Мастер и Маргарита //БулгаковМ. А. Соч.: В 3 т. Т. 2. СПб., 1998.
[Закрыть] Иван Николаевич Бездомный – Иванушка – Иван Николаевич Понырев).
Серьезную роль в смыслообразовании играет и система имен. Она возникает за счет того, что в ономастическом пространстве текста формируются ономастические зоны,[201]201
Топоров В. П. О палийской топономастике // Ономастика Востока. М., 1969; Пеньковский А. Б. Ономастическое пространство русского былевого эпоса как модель его художественного мира // Язык русского фольклора. Петрозаводск. 1988.
[Закрыть] пересекающиеся друг с другом. Центр ономастической зоны – имя любого персонажа, а ее наполненность определяется количеством и разнообразием имен, употребленных этим персонажем или автором в связи с этим персонажем.
Каждая ономастическая зона становится источником дополнительных смыслов, никак не явленных в содержании. Так, в «ершалаимском» тексте «Мастера и Маргариты» самая простая и ограниченная зона формируется вокруг Иуды. Его мир ограничен возлюбленной (Низа), родственниками, к которым он должен был пойти на трапезу, убийцами (человек спереди, который «поймал Иуду на свой нож», второй человек, который «преградил ему путь»), и (опосредованно) человеком в капюшоне. Зато в ономастической зоне Афрания имена представляют не только разные, но все возможные социальные слои: Пилат, Низа, Иуда, Кайфа, Иешуа, Варравван, караульные солдаты, коновод, пятнадцать человек в серых плащах, Левий Матвей, первый и второй человек, убившие Иуду, Толмай, прохожие и всадники. Если помнить, что роман писался в 30-е годы XX века, дополнительные смыслы неизбежны.
В литературе XX века важную роль в художественном тексте начинает играть разностильность. Разрушая текст на литературном языке, в художественном тексте она становится одной из возможностей создания целостного образа («Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки». А. Платонов. «Сокровенный человек»[202]202
Платонов А. Сокровенный человек // Платонов А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1978. С. 305.
[Закрыть]).
Разумеется, бессмысленно пытаться перечислить все возможные механизмы смыслообразования, основанные на актуализации тех элементов и уровней структуры, которые иррелевантны для текстов на литературном языке. Но даже если ограничиться теми, о которых шла речь, можно предположить, что степень художественности каждого данного текста во многом определяется количеством смыслообразующих механизмов на всех уровнях его структуры.
Кроме того, актуализация нейтральных для литературного текста элементов и уровней структуры приводит к принципиальному изменению роли контекста. Если в тексте на литературном языке контекст формируется совокупностью значений языковых единиц, то в тексте художественном, наоборот, контекст определяет значение составляющих его единиц. Конечно, у разных писателей и в разные эпохи это проявляется менее или более очевидно, играет меньшую или большую роль, но неизменно именно контекст формирует значения слов, его составляющих. Для того, чтобы убедиться, что это именно так, достаточно вспомнить не только (и даже не столько) о В. Хлебникове или А. Блоке,[203]203
Когда, напр., в стихах Блока «Над бездонным провалом в вечность, / Задыхаясь, летит рысак» вряд ли кому-нибудь удастся сложить контекст из совокупного значения языковых единиц: «провал» – категория пространства, «вечность» – времени, рысак «летит», но летит «задыхаясь». Если «летит» означает «очень быстро бежит», то неясно, как он может бежать над «провалом», тем более что это пространственный провал во время (даже в отсутствие времени), если летит над провалом, как Пегас, то непонятно, почему он задыхается.
[Закрыть] но и, скажем, об А. Чехове.
Его рассказ «Смерть чиновника» начинается фразой: «В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитрич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на "Корневильские колокола"».[204]204
Чехов А. П. Смерть чиновника // Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М… 1960. С. 28.
[Закрыть]
Для того чтобы передать содержание этой фразы на литературном языке, можно было бы сказать примерно так: «Однажды Иван Дмитрич Червяков был в театре». Информация этого сообщения (кто был, где был), вербализованная в понятиях, естественно, обременяется смыслами: именование персонажа по имени и отчеству позволяет предположить, что человек это взрослый и отнюдь не аристократ («Дмитрич»), а что до фамилии, то никакая она не «говорящая»: фамилия известной княжны – Тараканова – ничуть не благозвучнее Червякова. Одновременно фраза избавилась от шумов в канале связи: в первой и второй синтагмах от нелепого словосочетания «менее прекрасный», избыточного слова «вечер» (и без него не вызывает сомнений, что герой был не на утреннике), сопоставления по степени качества двух разнородных явлений (экзекутор не менее прекрасный, чем вечер). Соответственно, содержание освободилось и от «темных мест». Непонятно, скажем, как попал мелкий чиновник во второй ряд кресел. Кроме того, читатель, воспитанный в сочувствии к «маленькому человеку», знает, что если сидит чиновник во втором ряду кресел, значит, не ел, не пил, копил деньги, чтоб пойти не просто в театр, а именно на этот спектакль. Но если герой театрал, то почему он из второго ряда кресел «глядел в бинокль», да еще «на "Корневильские колокола"»? «Корневильские колокола» – название спектакля. Никаких предметных колоколов на сцене нет. Значит ли это, что он бессмысленно глядит на сцену, пытаясь изобразить театрала или отыскивая несуществующие колокола?
Таким образом, с точки зрения литературного языка чеховское предложение на редкость неудачно.
Но эта фраза принадлежит тому самому А. П. Чехову, который стремился писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно (т. е. максимальное количество смыслов при минимальном объеме содержания). Поэтому, по крайней мере с его точки зрения, именно такое предложение необходимо и достаточно для того сообщения, которое он передал на языке художественной литературы, где не контекст формируется значением слов, а значения слов определяются контекстом. Точнее, не контекстом, а совокупностью малых и больших контекстов.
Установка на понимание этой фразы создается предшествующим ей заглавием – «Смерть чиновника». В контексте литературы 80-х годов, когда был написан этот рассказ, заглавие соотносило «Смерть чиновника» прежде всего с традицией драматического существования «маленького человека» и неизбежно формировало ожидание очередной драматической и трогательной истоНа фоне такого предпонимания история и начинается предложением: «В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитрич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на "Корневильские колокола"».
Начало предложения («В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор… ») не только осознанная банальность (ср. с «Мороз крепчал…» из «Ионыча»), но и соотнесение несоотносимых явлений: вечера и чиновника. При их сравнении («экзекутор прекрасный, как вечер») возник бы иронический образ чиновника, а результатом сопоставления становится ирония как выражение отношения повествователя к описываемому. (Если читатель увидит в слове «экзекутор» производное от «экзекуции», ирония приобретет еще и зловещий характер). В результате смыслы, порождаемые сверхмалым контекстом начала фразы, формируются по вектору: ирония, определяющая отношение и к персонажу, и к ситуации, и к самой теме «маленького человека». Они могут и усложняться, потому что за словом «экзекутор» кроется нечто большее, чем «мелкий чиновник». Читатель может увидеть здесь реминисценцию (контекст русской литературы): отсылку к «Женитьбе» и «Носу» Н. Гоголя (незадачливому жениху с «говорящей» фамилией Яичница и трагикомическому майору Ковалеву, приключения которого начались, когда он приехал в Петербург искать места экзекутора). Кроме того, экзекутор (контекст культуры) – это должность чиновника, служащего по интендантскому ведомству, не закрепленная в табели о рангах за определенным классом. Социальный вес экзекутора определялся тем местом, где он служил. Герой чеховского рассказа занимает, по-видимому, место не такое уж низкое, но и не столь высокое: с одной стороны, он именуется полно (по имени, отчеству и фамилии), а с другой – отчество дано в просторечном варианте («Дмитрич»), Так появляются основания для формирования смысла с вектором: «маленький человек» – это не социальный, а культурный статус, и, видимо, во все времена служащие по интендантскому ведомству занимали в России особое положение, и, по крайней мере, спокойно могли сидеть во втором ряду кресел.
Контексты творчества Чехова и культуры актуализируют и предлог «на» («…на "Корневильские колокола"»), превращая его из ошибки в смыслопорождающий механизм. «Корневильские колокола» – оперетта Н. Планкета, которая пользовалась специфическим успехом в Москве в сезон 1883 г., когда и был написан рассказ. Чехов не раз помянул «Корневильские колокола» как воплощение пошлости. «За обедом, когда я услаждаю себя щами и гусем с капустой, жена сидит за пианино и играет для меня из… "Корневильских колоколов", а теща и свояченица пляшут вокруг стола качучу» (Мой домострой). «В ноябре Лентовский отчаянно стукнул кулаком по столу… и взялся за добрые старые „Корневильские колокола“… „Смотрите здесь, смотрите там…“ (рефрен канкана. – И. Ф.) дало милейшие результаты. И сбор полон, и публика довольна». (Осколки московской жизни). Так что Ивану Дмитричу Червякову было на что глядеть в бинокль из второго ряда кресел.
Таким образом, художественный текст с точки зрения смыслообразования можно определить как возможность бытования авторского высказывания о мире и человеке на языке художественной литературы, то есть на языке, в котором доминируют смыслы. Он ориентирован на определенный круг читателей, чувствующих нормы языка художественной литературы данной эпохи, направления и/или идиостиля писателя, и потому умеющих в большей или меньшей степени «распредмечивать» авторские смыслы.
А. А. Добрицын
Восточные притчи П. А. Вяземского и их французские источники
В начале XVIII века во французскую литературу в изобилии хлынули «восточные» темы и мотивы, привычной стала «восточная» манера повествования, сложился жанр «восточной сказки» [Perrin 2004/2005]; при этом ориентальный стиль охватил не только прозаические, но и стихотворные жанры (сказка, басня, краткий аполог). Во второй половине века восточный вкус в его французском изводе проникает в русскую литературу [Кубачева 1962] и продолжает оказывать на нее влияние вплоть до начала XIX века. Одним из поэтов, отдавших дань стихотворной восточной басне в 1810—1820-х годах, был П. А. Вяземский. Посредниками ему могли служить как французские, так и польские авторы, причем последние опирались, в свою очередь, на французские обработки восточных апологов. В настоящей заметке приводятся вероятные источники шести стихотворений Вяземского.
1. В 1810 г. в «Вестнике Европы» было напечатано несколько переводных эпиграмм Вяземского; вот надпись «К портрету Меныцикова»:
Какъ волны, нам дары Фортуны ненадежны,
Счастливец, не гордись!
Царевы милости съ погибелию смежны!
Взгляни на образ сей… и счастия страшись.
[Вяземский 1958, 51; 1880, III: 14]
Оригинал – Вольтерова «Надпись на немилость Джафара Бармесида» («Inscription sur la disgrace de Giafer le Barmécide»):
Mortel, foible mortel, à qui le sort prospere
Fait goûter de ses dons les charmes dangéreux;
Connois quelle est des rois la fâveur passagere,
Contemple Barmécide, & tremble d’être heureux.
[EPF 1769, IV: 5; AM 1771: 32; FA 1787, II: 27; PEP 1804, III: 194]
Перевод: Смертный, слабый смертный, которому благоприятный жребий // Дал вкусить опасной прелести своих даров, // Знай, какова преходящая милость царей, // Взгляни на Бармесида и страшись быть счастливым.
В «Надписи» Вольтера содержится аллюзия на историю возвышения и падения Бармесидов в царствование Гаруна ар-Рашида, рассказанную в «Хронике» Та– бари. Вероятно, французский поэт нашел этот сюжет в приложении к «Гюлистану» Саади в издании д" Алсгра («Augmentations aux Rois et Kaliphes, de Saadi, Tirées des Auteurs Arabes, Persans, et Turcs»), где изложено четверостишие некоего персидского поэта, современника событий:
Nourrisson de la fortune, qui succez pendant quelque jours le laict de la prospérité qui coule de ses mamelles empoisonnées, ne te vante pas trop du bonheur de ton état pendant que tu es encore dans le berceau suspendu d’une vie toujours en mouvement.
Souviens-toi du temps où tu as vû la grandeur des Barmecides.
"Младенец фортуны, сосущий (лишь) несколько дней молоко благоденствия, текущее из ее отравленных сосцов, не хвались чрезмерно счастием твоего положения, пока ты находишься еще в подвешенной колыбели вечно качающейся жизни. Вспомни о времени, когда ты видел величие Бармесидов" [Saadi 1704: 227–228].
Вяземский несколько раз удачно находил новое применение французским эпиграммам «на лица». Таковы его эпиграммы на Боброва («Быль в преисподней», по оригиналу Вольтера, направленному против д" Оба, см. [РЭ: 725]), на Хвостова («Твой список послужной и оды…», по оригиналу Рюльера, направленному против маркиза де Пезе, см. [РЭ: 725]) и др.; такова и надпись «К портрету Меньшикова», чей восточный колорит оказался почти полностью стерт последовательными обработками Вольтера и Вяземского.
2. Басня «Капля» (в оглавлении с подзаголовком: «Восточный аполог») была опубликована в 1823 г. в «Новостях литературы»:
Съ лазурныхъ нивъ упала капля въ море.
Къ кому пристать? сироткѣ бѣдной горе!
Но на нее взглянулъ дня свѣтлый богъ
И взглядъ его былъ ей надеждъ залогъ,
Ее сокрылъ онъ въ раковинѣ скудной
И съ каплею свершился жребiй чудный:
Богатый перлъ, дождавшись лучшихъ дней,
Блеститъ она въ вѣнцѣ Царя-царей!
Умѣй терпѣть! Придетъ награды время:
Въ смиренiи величья зрѣетъ сѣмя.
[Вяземский 1880,111:201]
Сюжет восходит к апологу из «Бустана» Саади. Это произведение пользовалось во Франции меньшей известностью, чем «Гюлистан» (первое вольное и фрагментарное переложение с немецкого появилось в 1762 г., а полноценный перевод только в 1869), однако аполог о капле был хорошо знаком читающей публике. Уже в начале XVIII века с ним можно было ознакомиться по переводу английского «Зрителя» [Spectateur 1718: 305–306]. В 1766 г. аполог был переведен с анонимной немецкой версии, напечатанной в Германии за два года до того [Huber 1766, II: 317–318]. Еще одно переложение было выполнено известным ориенталистом Ланглесом (Louis Mathieu Langlès, 1763–1824):):
Une Goutte d’Eau tomba des nuages et fut couverte de confusion en contemplant la vaste étendue des mers. «Où suis-je, dit-elle? Qu’est-ce que la mer? Et que suis-je moimême? Si tout cela existe, est-il bien vrai que j’existe aussi»? Tandis qu’elle s’examinait avec dedain, une coquille à perle la prit et la conserva. Le destin voulut que cette faible goute d’Eau devint le plus précieux joyau des Rois. Elle trouva son élévation dans son abaissement, et elle passa du néant à la lumière
"Капля воды упала с облаков п вся смутилась, увидев обширные пространства морей. «Где я? – сказала она. – Что есть море? И что такое я? Если все это существует, правда ли, что я тоже существую?» В то время как она рассматривала себя с отвращением, жемчужная раковина проглотила ее и сохранила. Судьба захотела, чтобы эта слабая Капля воды стала драгоценнейшим сокровищем Царей. Она нашла свое возвышение в своем уничижении и перешла от ничтожества к свету" [Langlès 1778: 36].
В конце XVIII века появился еще один французский перевод с персидского [Lukman 1799: 20].[205]205
Une goutte de pluie s’écoulant d’un nuage tomba un jour dans la mer. Honteuse et confuse en se voyant dans cet espace immense, elle dit: Que suis-je en comparaison de ce vaste océan, certes mon existence est moins que rien au milieu de cet abyme sans bornes. Tandis qu’elle parlait d’elle-même avec tant de dédain et de mépris, une coquille de nacre la reçut dans son sein, et la fortune l’y favorisa tellement, qu’elle devint une perle précieuse et magnifique, digne d’orner la tête des rois: ainsi elle trouva dans son abaissement même la cause de son élévation, et la source de son illustration fut l’obscurité même où elle avait était plongée.
[Закрыть] Ни два первых, ни последний перевод «Капли» в библиографии Массе не указаны [Massé 1919].
Притчу о капле рассказывает также Ян Потоцкий в своем «Путешествии в Турцию и Египет, совершенном в 1784 году» (1787, второе доп. французское издание в 1789 г., в том же году Ю. Нимцевич сделал с него польский перевод; см. [Потоцкий 1985: 59–60]):
Une goutte d’eau échappée à la nue, tomba un jour dans la mer. Effrayée d’abord de l’immensité de l’élément dans lequel le sort l’avoit jétée, elle perdit l’usage de ses facultés; mais une coquille la reçut dans son sein, la nourrit, la protégea, & cette goutte d’eau est devenue dans la suite la perle qui orne le diadême de ta Hautesse
"Капля, отделившаяся от тучи, упала однажды в море. Устрашенная поначалу обширностью стихии, в которую ее бросила судьба, она совсем растерялась; но раковина приняла ее в свое лоно, вскормила, защитила ее, и эта капля стала потом жемчужиной, которая украшает корону твоего Высочества" [Potocki 2004, I: 33].
Из французских поэтов этот сюжет обрабатывал Мансини-Нивернэ («La Goutte d’eau» [Mancini-Nivemois 1796, I: 63–64]); его многословная басня (25 стихов) во многих деталях отклоняется от первоисточника. Более лаконичную стихотворную версию «Капли» («La Goutte d’Eau») мы находим у Дютрамбле (Antoine Pierre Dutramblay, 1745–1819); первое издание его апологов вышло в свет в 1806 г., еще одно – в 1822 г., незадолго до публикации басни Вяземского:
Au fond des mers s’engloutissant,
La Goutte d’Eau disait: je ne suis rien au monde!
Souverain directeur de la machine ronde,
Pourquoi me sortir du néant?
Dans ce moment
Une huître baille:
Au beau milieu de son écaille
Elle reçoit la Goutte d’Eau,
Qui s’y durcit, et devient perle fine.
Le Ciel tire souvent ce qu’on voit de plus beau,
De la plus obscure origine.
[Dutramblay 1822: 22]
Перевод: Погружаясь в глубину морей, // Капля говорила: в мире я ничто! // Верховный правитель сферического космоса, // Зачем (было) извлекать меня из небытия? // В этот момент // Устрица открывает зев; // В самую сердцевину своей раковины // Она принимает Каплю, // Которая там твердеет и становится прекрасной жемчужиной. /// Небо часто извлекает самое прекрасное, что мы видим, //Из самого низменного источника.
В этой версии отсутствует мотив, имеющийся как в персидском оригинале, так и у Вяземского: превращенная в жемчужину капля становится украшением короны.
Еще одна обработка сюжета принадлежит Крёзе де Jleccepy [Creuzé de Lesser 1825: 24], одноименный аполог которого завершается совсем иной моралью, а именно призывом найти «свою раковину».
Французским авторам сюжет был известен, вероятно, по латинской версии Дебийона (François-Joseph Terrasse Des Billons, Desbillons, 1711–1789), чьи басни пользовались широкой популярностью и только с французским переводом en regard издавались трижды (два издания в 1779 г. и одно в 1809 г.). «Капля, море и устрица» Дебийона («Gutta, Pontus et Ostreum», IX. 12) довольно близка к оригинальному тексту Саади [Desbillons 1779, II: 214–217].
3. Притча «Вспыльчивость доброд?тельнаго. (Восточный апологъ)», была напечатана в «Славянине» в 1827 г.:
Царь добродѣтельный, но вспыльчивый и дикой,
Невинному рабу велѣлъ главу отсѣчь:
«Не страшенъ для меня блестящiй смертью мечъ», —
Съ рѣшимостью сказалъ невольникъ предъ владыкой
«Меня злосчастнѣе мой лютый судiя;
«Ты с жизнью мнѣ прервешь мгновенной казни муку,
Но съ смертiю моей начнется казнь твоя!» —
И Царь къ нему простеръ спасительную руку.
[Вяземский 1880, III: 435].
Притчу с тем же сюжетом, озаглавленную «Деспот» («Despote»), можно найти в «Восточных баснях» Сен-Ламбера:
Un Roi vertueux, dans un moment de colère, alloit faire périr un innocent. O Roi, lui dit-il, mon supplice va finir avec ma vie; mais le tient va commencer. Le Roi fit grace
"Добродетельный Царь в момент гнева собирался уже погубить невинного. «О Царь, – сказал ему тот, – моя мука (буквально: казнь) закончится с моей жизнью, но твоя тут же начнется»" [Saint-Lambert 1769: 334].
Крёзе де Лессер придал апологу Сен-Ламбера стихотворную форму, изложив сюжет в катрене «Спасенный невинный» («L’Innocent sauvé»):
Un innocent prêt à périr,
Du sultan bravant la menace,
Dit: Mon supplice va finir,
Le tien commence. Il eut sa grace.
[Creuzé de Lesser 1825: 117]
Перевод: Невинный, готовый умереть, // Не боясь угроз султана, // Сказал: «Моя казнь сейчас закончится, // Твоя начнется». Он получил помилование.
Сюжет заимствован из первой главы «Бустана» Саади. Жестокий Хаджадж видит во сне невинно казненного, который говорит ему: «Моя казнь длилась лишь мгновение, но тот, кто ее совершил, будет терпеть кару до Судного дня» (см., например, [Saadi 1880: 52–53]).
4. Басня «Дервиш и Ученик» была напечатана в 1819 г. в «Сыне отечества» (ч. 58):
Ученый мужъ, Дервишъ, въ часъ утра и обѣда
Святую воду пилъ въ колодцѣ Магомеда.
Подмѣтилъ то его нелѣпый ученикъ,
И на день бѣгалъ пить разъ двадцать на родникъ.
Какой же онъ имѣлъ успѣхъ съ своей догадки?
Остался неученъ и слегъ отъ лихорадки.
[Вяземский 1880, III: 173]
Непосредственным источником была, как известно, одноименная басня Красицкого («Derwisz i Uczeń», см. [Николаев 2004: 22]). Красицкий же опирался, вероятно, на один из прозаических «Восточных апологов» Бийардона де Совиньи (Louis-Edme Billardon de Sauvigny, 1736? —1812). Притча Бийардона называется «Ученик, желающий превзойти учителя» («Le Disciple qui veut surpasser son Maître»):
Abdalla, l’homme le plus sçavant de son siècle & le plus laborieux, attribuoit sa sçience à l’eau du puit de la Mecque, qu’il buvoit avec une très-grande dévotion; un de ses Disciples, croyant faire mieux que lui, renonça aux livres, & ne s’occupa qu’à boire l’eau du puits sacré; il vouloit devenir sçavant, il devint hydropique.
" Абдалла, самый ученый и трудолоюбивый человек своего времени, приписывал свою ученость воде из колодца в Мекке, которую он пил с большим благочестием; один из его Учеников, думая поступать лучше него, забросил книги и занимался лишь тем, что пил воду из священного колодца; он хотел сделаться ученым, а сделался больным водянкой" [Billardon de Sauvigny 1764: 19].
Этот аполог был переложен в стихи Крёзе де Лессером, озаглавившим его «Учитель и ученик» («Le Maître et l’Écolier»):
A l’eau du puits sacré je dois tout mon savoir,
Disait un musulman, des lois sage interprète.
Il en buvait souvent, et, malgré son pouvoir,
Par l’étude, matin et soir,
Il secondait les bontés du prophète.
Un jeune homme charmé d’un exemple si beau
Le comprit assez mal, bien qu’assez il s’explique:
Il n’étudia plus, but toujours de cette eau,
Crut devenir savant, et devint hydropique.
[Creuzé de Lesser 1825: 37]









































