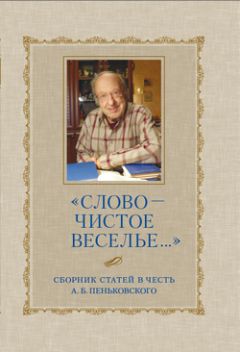
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 50 страниц)
Вторая часть книги А. Б. Пеньковского, ее смысловое ядро – это глава «Скрытый сюжет "Евгения Онегина"». Увы, читая ее, понимаешь, что А. Б. Пеньковский принадлежит к сонму исследователей, главный методологический принцип которых заключен в словах Достоевского о том, что «Пушкин (…) бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну»[466]466
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30-ти т. Т. 26. Л., 1984. С. 149.
[Закрыть], и поэтому считающих своим священным долгом эту тайну разгадывать. Как только встречаешь выражения «тайные смыслы» (с. 149), «тайный пушкинский шифр» (с. 279) – сразу становится скучно. Зачем эрудированному исследователю приносить свой талант и знания в жертву одной чрезвычайно сомнительной гипотезе, под которую затем будет подгоняться фактический материал?.. Подражая автору «Евгения Онегина», оставлю в своем тексте хоть одну загадку – не буду пересказывать, в чем, по мнению А. Б. Пеньковского, состоит этот «тайный сюжет».
В конце концов, трактовка автора разбираемой книги не выходит за рамки цивилизованного отношения к пушкинскому тексту, а воспринимать ли ее всерьез? Не знаю… Афинские софисты могли сколь угодно убедительно доказывать, что пущенная из лука стрела никогда не упадет на землю, а Ахиллес никогда не догонит черепаху. Но даже жадно внимавшие им любопытные скифы вряд ли этому верили.
…Когда переворачиваешь последнюю страницу книги А. Б. Пеньковского, в душе остается двойственное чувство. С одной стороны, автор изучил огромный пласт исторических источников и современной исследовательской литературы, он наблюдателен, многие из его соображений и замечаний поразительно верны, и мимо них не смогут пройти будущие комментаторы Пушкина и Лермонтова. С другой – получилось исследование, едва-едва скрепленное более чем сомнительной идеей и полное противоречий и передержек. Думается, весь вошедший в книгу материал интереснее смотрелся бы в виде цикла небольших заметок под условным названием «Лингвист читает Пушкина», а все суждения по поводу «тайного сюжета» уместнее было бы оформить в виде небольшого эссе, которое прочитывается за один присест. Еще бы не помешал указатель пушкинских произведений и анализируемой лексики. Но это уже на правах несбыточной мечты…
В заключение не могу не поделиться удивлением от разброса цен на эту книгу в магазинах Петербурга. Мне удалось ее купить в «Гуманитарной академии» за 240 рублей, в магазине филфака университета она стоит 340 рублей, а в Доме военной книги на Невском – аж 564 рубля!
Сергей Бочаров
P. S. к рецензии Алексея Балакина[467]467
От редакции. Автор рецензии на «Нину», еще до представления ее к печати, показал ее текст Сергею Георгиевичу Бочарову, интересуясь его оценкой. Свое мнение С. Г. Бочаров высказал автору устно, а затем сформулировал в виде краткого постскриптума к отзыву А. Ю. Балакина. Отдел критики счел небесполезным опубликовать эти замечания, поскольку, не оспаривая частных суждений нашего рецензента, присоединяется все же к положительному мнению о труде А. Б. Пеньковского.
От себя мы могли бы добавить, что при педантическом подходе А. Ю. Балакина к слову не слишком корректно вкладывать непосредственно в уста Пушкина афоризмы столь неоднозначного персонажа, как Мефистофель («Сцена из Фауста»).
[Закрыть]
Этот текст привел на память одно размышление Андрея Битова – писателя и филолога. Размышление о научной работе, которая, «не содержа ни одной фактической ошибки… узаконивает и впоследствии предписывает всем скудость и нищету понимания». Настоящая рецензия в доброй части своей состоит в достаточно мелочной регистрации фактических ошибок или неточностей, и жаль, что рецензент не мог быть корректором разбираемой книги – потому что, если он встретил в ней такую цитату, как «некому руку пожать», и предался благородному негодованию по поводу «культуры цитирования», так неужто он подумал, что прекрасный филолог А. Б. Пеньковский так цитировал? В подражание дотошному рецензенту и в порядке встречной придирки приходится и ему заметить, что «афинские софисты» с Ахиллесом и черепахой – не совсем афинские не совсем софисты и что если никто и впрямь не подумал поверить в быстроногую черепаху, то эвристическая ценность знаменитого парадокса человечеству пригодилась весьма. Когда-то В. Розанов задавался вопросом: может ли позитивист заплакать? Мы же спросим: может ли он ошибиться? Хочется надеяться, что нашей грешной человеческой природе не чужд и он. Между тем, неточность выразительная – ведь она говорит об отношении принципиального позитивиста к досужему умозрению как к «софистике».
Так вот – насчет эвристической ценности филологических фантазий. Рецензент объявил, что хочет разобраться в причинах отношения к книге, например, такого читателя, как В. Н. Топоров, рассказавшего, с каким не просто интересом – с волнением читал книгу, и оценившего в ней – «простор» созерцания. Но разбираться в «причинах» рецензент не стал, как и ничем не подтвердил дежурные заключительные слова о том, что многие замечания автора «поразительно верны и мимо них не смогут пройти…». Вообще рецензия поражает полным отсутствием рассмотрения положительного созерцания замечательно интересной книги. Можно принять совет рецензента точнее определить хронологическую границу, отделившую нас от пушкинского языка. Но граница эта есть, и если преувеличивать «разрыв языков» и не стоит, то и сгладить его для нашего чтения Пушкина небезвредно. M. Л Гаспраов по этому случаю заметил, что язык Пушкина надо филологу учить как чужой язык, как английский или китайский. Это сказано по-гаспаровски, и за чистую монету мы это не примем, но проблему это высвечивает. Прав автор книги «Нина»: мы читаем Онегина, и нам кажется, что мы его понимаем, проходя мимо множества исторических сдвигов значений знакомых слов. «Кто б смел искать девчонки нежной / В сей величавой, в сей небрежной / Законодательнице зал!» Небрежной – нашего ли языка это слово? Иная аура, семантический ореол, как называл это Ю. Тынянов. Ореол и сдвиг значения, делающий простое слово сегодня нам не совсем понятным. И «дева» пушкинская, равно как и бенедиктовская, – уже старинное слово. Да и «скука» – не совсем наша нынешняя, что и сам рецензент подтверждает. В языковое сознание пушкинское переселиться мы не можем, но тем и ценна книга «Нина», что помогает читать и слышать «Онегина» ближе «к оригиналу» (Лидия Гинзбург: «Пушкинисты никогда не читают Пушкина в оригинале»). Что же до «Нины» как культурного мифа («текста Нины», по В. Н. Топорову), то рецензент имеет право быть скептичным, только вряд ли главное здесь – количественный подсчет, статистика демонических Нин, важнее случаи знаковые и сильные, достаточно блестящей Нины Воронской рядом с Татьяной, а между тем ее-то как ненужного для его возражения случая рецензент и не замечает.
Эта реплика к рецензии – странный жанр – прошу поверить, не в защиту фактических ошибок; это, смею думать, реакция на несправедливость. Несправедливость, однако, что интересно и что и заслуживает реакции, по-своему концептуальная. Алексей Балакин – серьезный и скрупулезный филолог, но фактические ошибки застилают ему горизонт. А в этом случае, не в обиду ему, возвратимся к фразе Андрея Битова в полном ее объеме.
H. Дзуцева
«Что в имени тебе моем?»[468]468
Впервые: Знамя. 2005. № 2. С. 120–122.
[Закрыть]
Сколько нужно жизни, даже в чисто физическом ее измерении, чтобы обследовать недра книгохранилищ, архивов, частных и государственных собраний, извлекая редкую информацию? А главное – ради чего? Кому все это нужно?
В первом же издании монография А. Б. Пеньковского вошла в широкий круг отечественной и мировой пушкинистики, но выделялась в нем не только интригующим названием. Ее обаяние кроется в особом характере «научности» проведенного исследования – кавычки в данном случае призваны подчеркнуть непривычно– подкупающий стиль изложения, благодаря которому книга имеет широкий адрес: читателем «Нины» может стать и «академик, и герой, и мореплаватель, и плотник»… Строгости и глубины научного анализа, гипернасыщенности текстового поля, своеобразия исследовательского почерка это не отменяет.
Имя автора книги, выдающегося филолога-лингвиста, хорошо известно всем, кто так или иначе соприкасался с проблемами языковых исследований теоретического, поэтического и общекультурного порядка. Работы А. Б. Пеньковского, опубликованные как в отечественных научных изданиях, так и в коллективных исследовательских проектах Европы и Америки, могли бы составить солидный том многоаспектной исследовательской деятельности ученого. Тем не менее «Нина» занимает в ней особое место.
Научная эрудиция автора, его погруженность в неохватную толщу литературного потока, наполнявшего эпоху как шедеврами поэтической элиты, так и планктонным литературным слоем (чрезвычайно важным, кстати сказать, для воссоздания исторической картины языковой среды), вызывают ощущение соприсутствия в «золотом веке» русской литературы вместе с «героями» исследования. Невольно забываешь о профессиональной прагматике, превращаясь в неслучайного свидетеля исторически значимой повседневности, «литературного быта» эпохи (Ю. Тынянов), наполненного слухами, сплетнями, «чужими» письмами наравне с «дней минувших анекдотами» и подробностями известных и неизвестных биографий. Все это тщательным образом снабжено тем подробным библиографическим инвентарем, который принято называть научным аппаратом. В книге он разместился на двадцати страницах мелкоубористого текста.
Удивительно, что научное исследование высшей пробы каким-то чудесным образом лишено специфической установки на «научность»: авторское живое присутствие, его разнообразно интонированная, эмоционально подвижная речевая манера, остроумно выстроенная разбивка текста на отдельные небольшие периоды с обозначенной проблемой в заглавии – все это составляющие основного корпуса книги. И как легко дышится в этом насыщенном, сгущенном филологическом воздухе!
Стратегическая задача, ставшая отправной точкой и стержневым интеллектуальным сюжетом монографии, – разработка теории художественной антропонимии: смысловая загадка имени, семантика его власти и власть его семантики, его игровая функция и природа переименования – это все то, что сделало возможным открытие и реконструкцию сложившегося в русском культурном сознании «мифа о Нине». Вот как об этом пишет сам автор: «Этот сложный культурно-языковой комплекс, в котором соединены имя героини, ее детально разработанный образ и четко определенный сюжет ее жизни, обнаруживает все признаки мифа нового времени, черпающего свое содержание как из текстов литературы и искусства, так и из живой жизни, и в то же время задающего ей жизнетворческую модель и образец. Нина этого мифа – роковая женщина, которая, соединяя в себе рай и ад, небо и землю, ангела и демона, Мадонну и Содом, живет высокими, сжигающими ее страстями. (…) Неся гибель своим избранникам, эта новая Клеопатра готова погибнуть и сама (…)».
Сквозь призму этого мифа открываются новые пласты в давно отработанных и, казалось бы, закрытых для новых смыслов зонах художественно-культурного сознания. Так, по-новому прочитывается трагический смысл лермонтовского «Маскарада», открывается «потаенный» сюжет «Онегина», проясняется горький любовный опыт самого Пушкина, связанный с явлением «Нины» в его жизненной и творческой судьбе…
Вот, к примеру, название второй части: «Скрытый сюжет "Евгения Онегина"». Это общая кардинальная линия, полемически-новаторская, открывающая неожиданный, сюжетно не проявленный пласт романа. По мере развертывания пушкинской «тайнописи» в авторском повествовании постоянно возникает маленькая рубрика «Загадки пушкинского текста и словаря, или Как читать Пушкина». Словарь, язык, имя – это ключи к непрочитанному «Онегину»: роман и его герои, обросшие вековыми оперными декорациями плохого вкуса и речевыми пошлостями либретто, хрестоматийно-учительной корой и отработанными скучными смыслами, с помощью антропонимических и лингвистических ключей открываются заново. Действительно, задумывались ли вы о том, что Татьяна Онегина – это изначальная невозможность (главка «Евгений и… Татьяна? Эффект обманутого читательского ожидания»)? А что вы знаете о роковой юношеской любви Онегина («Утаенная» или утаиваемая любовь Онегина. Снятые строфы четвертой главы – «неназванная Она и ее комплекс»)? И наконец, новое узнавание героя: Онегин – знакомый и незнакомый («Русская хандра» и литературоведческий миф о «скучающем Онегине»).
Так, открывая загадки словаря пушкинской эпохи, мы попадаем в новое пространство текста, не задумываясь о том, что оно дано нам в «лингвистическом аспекте». Мы просто убеждаемся, что за клишированными знаками романтического джентльменского набора, за архаичными для нашего слуха и глаза «девами», «страстями», «хандрой», «клятвами», «моленьями», «угрозами» и т. п. скрывается живая жизнь живых людей, и похожих, и не похожих на нас, нынешних. Идущий вслед за словом автор монографии посвящен в тайный ход этого художественного бытия, вырастающего из исторически точного лингвистического измерения эпохи, и читателю открывается новая реальная и художественная логика этой жизни.
Как все это напоминает давний рассказ Андрея Битова, где герой-филолог из какого-то немыслимо фантастического пространства послан в качестве «командированного» в пушкинский Петербург: он рядом с Пушкиным, он видит его во всей умопомрачительной реальности, но он не может помешать роковой дуэли, зная, что она уже свершилась… Вот и здесь, в новом прочтении «Онегина», судьбы героев остаются неизменными – но как меняется фон, портрет, психологические нюансы, распределение светотени… Удивительно и то, что авторская «апологетика» героя, казалось бы малоуместная в исследовательском тексте, не только не мешает строгости и убедительности общей концепции, а работает на нее: «Нет, Онегин, каким его создал Пушкин, – не герой всеобъемлющей Скуки, а герой всепоглощающей Тоски, которая в соответствии с двойственной языковой нормой этого времени могла быть, как мы видели (а мы действительно это видели! – Н. Д.), названа и сниженным словом «скука». И душа его отнюдь не пуста, как это виделось Киреевскому и даже Баратынскому, но опустошена, а это (…) «дьявольская разница»».
Кем опустошена и отчего? Вот здесь-то и возникает роковое имя, давшее название книге в целом. Оно испепелило душу не одного Онегина. Мы едва ли не впервые по-настоящему убеждаемся, что жизнь героини лермонтовского «Маскарада» унес не яд, подсыпанный в мороженое, а ее «светский» псевдоним, перечеркнувший подлинное имя Настасьи Павловны и по закону языкового парадокса фатально обратившийся в часть ее фамилии – Арбе-Нина.
В развернутой перед нами системе историко-филологических реалий становится очевидно, что это имя «Нина» вобрало в себя культурные реминисценции разрушительного женского начала, связанные с «роковой» любовью, и в этой своей ассоциативной густотности превратилось в культурный миф «золотого века» русской литературы. В этом поразительном по своей «энергийности» имени наиболее очевидно проявлена разработанная во многих теоретических работах А. Б. Пеньковского концепция «антропонимического пространства художественного текста как модели художественного мира».
Специалист-филолог, да и, что называется, «продвинутый читатель», т. е. человек, ощущающий сферу гуманитарного интереса как естественную среду обитания, не успевает заметить, как исследователь погружает его в исторический пласт речевого сознания, где давно знакомые, стертые до банальности словесные комплексы и формулы начинают обретать первоначальный, отмытый от поздних наслоений и современных звучаний «аутентичный» смысл. Л Я. Гинзбург как-то заметила: «…мои учителя учили меня, что литература является дефектным свидетельством о жизни». Исследование А. Б. Пеньковского как бы устраняет этот «дефект»: перед нами предстает срез жизненной реальности в ее живом многоголосии и аромате исторической подлинности.
«Ваша книга произвела на меня самое сильное впечатление. (…) Во многом она ставила для меня точку, закрывала проблему, в решении которой я совпадал с Вами. Может быть, еще полезнее для меня было найти в Вашей книге то, до чего я не дошел, о чем не догадывался…» Эти слова из приведенного вместо предисловия письма академика В. Н. Топорова автору «Нины» – лучшее подтверждение научной новизны исследовательской мысли и универсальности неожиданных открытий.
Отдельная благодарность издательству «Индрик», лишний раз подтвердившему свое внимание к интеллектуальным изысканиям с оттенком научной элитарности, заполняющим нетронутые лакуны гуманитарного знания.
M. A. Кронгауз[469]469
Впервые: Критическая Масса. 2004. № 2. С. 128—130.
[Закрыть]
Можно ли писать рецензию на научную книгу, не являясь специалистом в данной области? Наверное, нельзя. А если считать себя специалистом наполовину? Наверное, можно написать рецензию на половину книги. Собственно, примерно так я и поступлю, как это ни анекдотично звучит.
Книгу Александра Борисовича Пеньковского, известного лингвиста, я прочел с огромным удовольствием. Возможно, из научных книг, прочитанных мной в последнее время, именно эта доставила мне наибольшее интеллектуальное наслаждение. Это наслаждение вызвано красотой центральной для книги гипотезы и красотой использования этой гипотезы как инструмента анализа и интерпретации художественных произведений.[470]470
Надо подчеркнуть, речь в рецензии идет о втором издании, исправленном и дополненном. Текст, действительно, исправлен и дополнен, причем композиция впечатляет своей продуманностью и изяществом. Так что приходится признать, что интеллектуальная красота является главной характеристикой этой книги.
[Закрыть] Другое дело, что, несмотря на сохраняющуюся красоту, в одном случае эта интерпретация не показалась мне убедительной. Однако, и здесь уместна эта оговорка, в этой области я как раз и не считаю себя специалистом. Сильное впечатление производит уже сама тема научной монографии. Она посвящена одному женскому имени – НИНА, и тому, как это имя (и его обладательницы, естественно) существует в тексте, в культуре, наконец, в жизни. Тема неожиданная и даже удивительная для научной работы.
По-видимому, пришло время перейти от эмоциональных к более рациональным и содержательным высказываниям. Книга А. Б. Пеньковского, если судить по названию, является междисциплинарным исследованием, относящимся и к литературоведению, и к лингвистике, и к культурологии. Однако статус соответствующих компонентов в исследовании довольно различен. О роли лингвистики в нем можно сказать следующее. Автор, безусловно, остается лингвистом. Это чувствуется и в способе мышления и анализа, значительно более строгого, чем у литературоведов и культурологов. Это ощущается и в особом внимании к мелочам и деталям, прежде всего к значению отдельных слов. В книге представлено множество локальных лингвистических исследований в области лексической семантики с историческим уклоном. Конкретнее можно говорить о сравнительно– историческом анализе значений слов в нашу и пушкинскую эпохи, а также об аналогичном историческом сравнении семантической ауры имен собственных. Вообще, в основе исследования лежат идеи, относящиеся к одному из разделов лингвистики – ономастике, то есть теории имен собственных. Правда, в последнем случае сам автор подчеркивает, что речь идет не о чисто лингвистическом подходе, а о «теории художественной антропонимии, что сделало возможным открытие и реконструкцию сложившегося в русском культурном сознании на рубеже веков и сохранявшего власть над умами до середины XIX века «мифа о Нине» (с. 583).
«Миф о Нине», являющийся центральной гипотезой и отправной точкой исследования, относится в большей степени к области культурологии. Чтобы дать представление об этом мифе, лучше всего снова предоставить слово автору:
«Этот сложный культурно-языковой комплекс, в котором соединены имя герои н и, ее детально разработанный образ и четко определенный сюжет ее жизни, обнаруживает все признаки мифа нового времени, черпающего свое содержание как из текстов литературы и искусства, так и из живой жизни и в то же время задающего ей жизнетворческую модель и образец. Нина этого мифа – роковая женщина, которая, соединяя в себе рай и ад, небо и землю, ангела и демона, Мадонну и Содом, живет высокими, сжигающими ее страстями. Она богиня любви и служительница в собственном храме, "жертвенник, жертва и палач" одновременно. Неся гибель своим избранникам, эта новая Клеопатра готова погибнуть и сама. Расплачиваясь за свою порочную жизнь нравственной или физической смертью, она вызывает смешанную реакцию осуждения и сочувствия и оказывается "бедной Ниной" – в параллель к "бедной Лизе"» (стр. 583).
Этот миф используется как особый инструмент уже в чисто литературоведческом анализе двух, как пишет автор, «великих, хотя и не равновеликих», текстов эпохи: «Маскарада» М. Ю. Лермонтова и «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Основной текст монографии делится на две неравные части, каждая из которых посвящена соответствующему произведению. Часть первая называется «Имена-маски лермонтовского «Маскарада» и занимает около 70 страниц (стр. 19–86). Часть вторая называется «Скрытый сюжет "Евгения Онегина" и занимает около 320 страниц (стр. 87—405). Раз уж речь зашла о структуре книги, можно сказать и о других ее важных разделах. Под названием «Вместо предисловия» автор приводит письмо к нему В. Н. Топорова, написанное после прочтения первого издания монографии. Несколько менее мотивировано название другого раздела – «Вместо послесловия», – поскольку он по всем признакам является образцовым послесловием, подводящим основные итоги исследования. Следует отметить, что в послесловии, очевидным образом, преобладают лингвистические мотивы. Важное место в структуре книги занимает и объемный раздел «Примечания» (стр. 407–578), в рамках которого автор с удовольствием ведет дискуссии на темы, несколько удаляющиеся от основной, обсуждает второстепенные, но иногда крайне интересные детали и т. п. Справочный аппарат состоит из объемного списка литературы и именного указателя.
Если сравнивать две основные части – лермонтовскую и пушкинскую, – они, безусловно, не равны по объему и, на мой взгляд, неравноценны с научной точки зрения. Последнее утверждение требует очень аккуратного обоснования. Первая часть, несмотря на относительно небольшой объем, включает принципиально важный для всего исследования раздел «Миф о Нине», а также великолепный по красоте и, что немаловажно, по внешней простоте анализ антропонимики в «Маскараде». Отталкиваясь от загадочной двуименности главной героини (в тексте Нина Арбенина однажды называется Настасьей, точнее – Настасьей Павловной), А. Б. Пеньковский предлагает совершенно новую, неочевидную на первый взгляд, но привлекающую своим изяществом и, как я уже сказал, простотой интерпретацию всего произведения. При сопоставлении двух имен героини исследователь, опираясь в первую очередь на миф о Нине и некоторую сниженность имени Настасья, приходит к выводу об их принципиально различных функциях и сферах использования. Имена в «Маскараде» рассматриваются как своего рода маски, анализ которых позволяет их снять и увидеть скрытую часть маскарадного мира. В результате А. Б. Пеньковский делает следующий вывод (естественно, что я пропускаю многие вполне убедительные логические связи):
«Заменив по ложному уставу света «грубое» имя своей жены модным светским именем, перекрестив ее из простой русской провинциальной Настасьи в столичную великосветскую б ально-маскарадную Нину, Арбенин и увидел в ней мифологическую Нину своего времени» (стр. 65).
Более того, по мнению А. Б. Пеньковского, это переименование и предопределило судьбу Нины и, соответственно, развитие всего сюжета.
В целом у данного исследования достаточно строгие и ясные основания – социо– и психолингвистический анализ имен собственных, яркий в своей убедительности культурный миф. Эта простота, конечно, обманчива; чтобы сформулировать такие результаты и гипотезы, требуется чрезвычайно зоркий исследовательский взгляд. Тем не менее, пусть обманчивой, но все же простотой и ясностью они сразу убеждают и располагают к себе читателя. Далее же они используются уже как инструментарий исследователя, который позволяет сделать весьма и весьма неочевидные выводы, по существу, в другой, достаточно нестрогой области – литературоведении.
Вторая часть для меня была также интересна, но вот писать на нее рецензию я не могу по нескольким причинам.
Во-первых, вторая часть в целом, на мой взгляд, в гораздо большей степени является литературоведческой, чем первая. Причем речь идет об особом литературоведении – пушкинистике, – в котором я не только не являюсь специалистом, но и ощущаю себя как на минном поле, где каждая новая интерпретация или даже новое соображение ведут к взрыву и, возможно, к дискредитации автора. Спор пушкинистов между собой является совершенно особым дискурсом, в котором замечания дилетанта по определению кощунственны. Кажется, что в текст Пушкина можно вчитать все что угодно, но делать это дозволено только посвященному, то есть специалисту.
Во-вторых, даже как дилетанту авторские выводы не показались мне убедительными. И связано это с тем, что в основе исследования лежит примерно тот же инструментарий, что и в первой части, хотя, на мой взгляд, лингвистические предпосылки значительны менее ясны (отсутствует такой сильный научный стимул, как загадка двуименности Нины Арбениной). Выводы же получены гораздо более амбициозные, если не сказать грандиозные. Речь уже идет не только о тексте, но и тайной биографии героя и даже биографии Пушкина. Впрочем, здесь правильнее и справедливее предоставить слово самому автору:
«Сквозь призму этого мифа, основным текстом которого стала поэма Баратынского «Бал», высоко оцененная Пушкиным, по-новому прочитывается и трагедия лермонтовской Нины (Настасьи) Арбениной, и горький любовный опыт самого Пушкина, в чьей жизни и творчестве Нинам-Клеопатрам суждено было сыграть совершенно исключительную роль, и его роман "Евгений Онегин". Миф о Нине, как "магический кристалл", позволяет увидеть и понять реальный и художественный смысл целого ряда остававшихся доселе незамеченными деталей, мелких, но имеющих ключевое значение эпизодов пушкинского романа (таковы прежде всего до сих пор по существу не прочитанные эпизоды, связанные с образом пушкинской Музы, с наречением Т а т ь я н ы, с куплетом Трике иНиной Воронскою), переинтерпретировать назначение и смыслы некоторых других (ср., например, поведение Онегина на именинном балу Т а т ь я н ы, с чем связана и проблема онегинского "демонизма") и еще и еще раз убедиться в том, что в художественном тексте нет ничего, чем можно было бы пренебречь» (стр. 583–584).
Говоря о второй части, я готов сформулировать мнение, которое не следует относить к жанру рецензии, оно в полной мере является просто читательским: я прочел эту часть с большим интересом, основные выводы меня, скорее, не убедили, но это не слишком важно, поскольку я не специалист в данной области. Уже как специалист могу сказать, что вторая часть содержит много интереснейших и убедительных частных лингвистических исследований, о которых я говорил выше. Они основываются на «особом» мнении о пушкинском языке и одновременно убедительно подтверждают его. В концентрированной форме это мнение высказано в разделе «Вместо послесловия»:
«Читая эти тексты, мы думаем, что понимаем их, тогда как на самом деле мы во многом их совсем не понимаем, а во многом, что еще опаснее, понимаем их неправильно и искаженно. […] преградой является глубочайшая иллюзия, что язык, которым они нам нечто говорят, – это тот же русский язык, на котором мы говорим сегодня друг с другом» (стр. 579); и далее:
«В действительности тот язык, на котором думал, говорил и писал Пушкин, – это язык, во многом близкий к современному, очень на него похожий, но в то же время глу б о ко от него отличный» (стр. 580); и наконец:
«Здесь имеет место явление, близкое тому, что принято называть "ложными друзьями переводчика", но только действующее в сознании читателей, уверенных в том, что они читают текст на своем языке, тогда как на самом деле они переводят его с другого (пусть близкого, но другого!) на свой язык, и переводят его, как оказывается, с более или менее значительными ошибками» (стр. 581).
Интересно, что лингвист в авторе ярче всего проявляется, когда он говорит как будто бы о мелочах, о деталях и когда он говорит, пожалуй, о самых глубоких вещах.
В целом же о книге важно сказать еще одно. Несколько раз повторенные в рецензии слова «интерес», «интересно» вызваны, безусловно, самой темой и полученными результатами, но и не только ими. В немалой степени этому способствует и авторская подача результатов и всего процесса исследования. Исследование разворачивается как расследование реальных текстовых загадок, оставленных нам великими поэтами. Сравнение с детективным романом после этой фразы было бы банальным, но, тем не менее, важно отметить, что у читателя возникает ощущение сопричастности расследованию значительных тайн и радости их раскрытия.
Книга замечательно издана и содержит даже рисунки и фотографии. Как я уже говорил, композиция и структура книги блестяще продуманы, так же как и издательское оформление: шрифтовые выделения и многое другое. Издательская работа в данном случае соответствует авторской и украшает ее. В качестве формального замечания я хотел бы указать на ошибку в отчестве, сделанную автором при принесении ряда благодарностей: Николаю Васильевичу (в действительности – Викторовичу) Перцову. Автора – специалиста по именам собственным (и следовательно, по отчествам) – в определенной степени извиняет то, что речь идет о «благодарности друзьям», которых он, по-видимому, называет просто по имени.
В заключение же я хотел бы дать читателю совсем ненаучный совет. Если у вас есть знакомые Нины, подарите им эту книгу. Им будет приятно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































