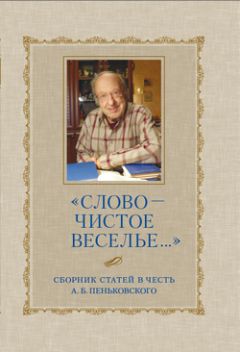
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 50 страниц)
Этот мотив достигает кульминационной силы в стихотворениях «Снежной маски» (1907):
Нет исхода из вьюг,
И погибнуть мне весело…
(Нет исхода. 13 января. II: 170);
И вдали, вдали, вдали,
Между небом и землей
Веселится смерть.
(И опять снега. 8 января. II: 157).
Совершенно особого свойства веселье звучит в стихотворении «Осенняя воля» Июль 1905. Рогачевское шоссе (II: 62). Веселье осени резко отличается от веселья весны. Оно напряженно-надрывное, безоглядно-разгульное перед лицом умирания. «Осенняя воля» трактуется исследователями как стихотворение о России,[125]125
Горелов А. Е. Гроза над соловьиным садом. Александр Блок. Л., 1970. С. 99—106; Леснев ckuй С. С. Путь, открытый взорам. М., 1980. С. 259–260, и др.
[Закрыть] однако это прежде всего стихотворение о певце-поэте, органично вписанное в контекст блоковской темы поэта. В этом контексте слово веселье обретает свой особый смысл: щемящая душу тоска («щемящие душу повороты дороги, где я был всегда один и в союзе с Великим»[126]126
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 246.
[Закрыть] (курсив Блока)) и хмельная воля, которые вмещают в себя «путь, открытый взорам», и осень, разгулявшуюся «в мокрых долах», и обнажившиеся «кладбища земли», и двойника-нищего, «распевающего псалмы», «голос Руси пьяной», и тоску о загубленной молодости, и «дали необъятные», и «цветной девичий рукав»:
Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.
«Цветной рукав» как метонимия женского образа приобретает качество устойчивости в творчестве Блока. Этот образ в сознании поэта связан с красками осени, с алеющей рябиной, с российским простором, с некрасовскими «Коробейниками», что позднее послужит отправным мотивом и настроением в создании «Песни Судьбы». Об этом свидетельствует запись в Записной книжке 16, сделанная 9 июня 1907 года, с предваряющей пометой «На Николаевской железной дороге»:
«Коробейники» поются с какой-то тайной грустью. Особенно – «Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись…» Голос исходит слезами в дождливых далях. Все в этом голосе: просторная Русь, и красная рябина, и цветной рукав девичий, и погубленная молодость. Осенний хмель. Дождь и будущее солнце. В этом будет тайна ее и моего пути. – ТАК писать пьесу — в этой осени (курсив Блока).[127]127
Блок А. А. Записные книжки. 1901–1920. М… 1965. С. 94–95.
[Закрыть]
Осенние образы являются поэту в начале лета, по памяти. Очевидно, что эти образы, выражающие состояние пронзительного надрыва, пляску и плач, «просторное веселье» и «щемящую тоску», оформились в непосредственном переживании осени, задолго до возникшего замысла пьесы, и получили первые фрагментарные воплощения в «осенних» стихотворениях 1905 года и в следующих строках статьи «Безвременье», Октябрь 1906:
Открытая даль. Пляшет Россия под звуки длинной и унылой песни о безбытности, о протекающих мигах, о пробегающих полосатых верстах. Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и еще дальше как рукавом машут рябины, все осыпанные красными ягодами. Нет ни времени, ни пространств на этом просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем народ, будто удалой запевало, выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сел. Времени больше нет.
Вот русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний.[128]128
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 74–75.
[Закрыть]
Это поистине веселье отчаянья в преддверьи апокалипсиса.
Стихотворение «Осенняя воля» воплощает то, что будет сформулировано в стихотворении «Балаган» Ноябрь 1906 (II: 89) как необходимость исполнения поэтом своего служения несмотря ни на что:
Но надо плакать, петь, идти.
Чтоб в край моих заморских песен
Открылись торные пути.
Здесь: «Выхожу я в путь…», «иду я в путь…», «Запою ли про свою удачу…», «Над печалью нив твоих заплачу». И есть еще одно необходимое условие: «Твой простор навеки полюблю». Именно эта любовь – залог жизни, пути, бессмертия: «Как и жить и плакать без тебя!» Поэт, напутствуя себя – «И земля да будет мне легксА», – перефразирует, с одной стороны, погребальное присловье «Да будет земля пухом!», а с другой – стих 30 Евангелия от Матфея: «бремя мое легко». Слово легкий связано у Блока со словом веселый, когда речь идет о творчестве поэта. Напомню приведенный выше фрагмент из речи «О назначении поэта»: Пушкин «легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – не легкая и не веселая; она трагическая».
С весельем связана также воля. Одно из ярких женственных проявлений воли – пляска, персонифицирующая это состояние души и духа: «Вот оно, мое веселье, пляшет». В стихотворении этого же времени «Прискакала дикой степью…» 31 октября 1905 (II: 68) «Дикой вольности сестра» обращается к несвободному герою:
Долго ль будешь лязгать цепью?
Выходи плясать ко мне!
Тесно связано с этим кругом текстов и стихотворение «Пляски осенние» 1 октября 1905 (II: 20–21), завершающее цикл «Пузыри земли». В нем нет слова веселье, но состояние лирического героя, выражаемое здесь словом радость, созвучно состоянию души поэта в приведенных выше стихотворениях. В звукописи этого текста также поразительным образом слышно анаграмматически растворенное веселье:
Таинственна героиня этого стихотворения, к которой обращена речь поэта. На протяжении стихотворения возникает пластический женственный образ, зрительно воспринимаемый, увлекающий в круговое движение:
И округлые руки трепещут,
С белых плеч ниспадают струи,
За тобой в хороводах расплещут
Осенницы одежды свои.
Осененная реющей влагой,
Распустила ты пряди волос.
Хороводов твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.
Это – женственное воплощение самой осени, родственное образу античной нимфы, предводительница «осенниц», или, как называет ее Блок в черновых вариантах, – «Дева осени», «Дева легкая осени свежей» (II: 245). Она же – осенняя муза, вдохновение поэта:
Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не петь, не плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопою твоей не сгорать.
Эти воля и пляска осенней Девы в предощущении близящейся Тишины, о чем знает и она – «Улыбается осень сквозь слезы», – еще более внятны поэту как знаки неостановимого времени – «Что сегодня пройдет, как вчера» – и вечного круговорота – «Неразлучный и радостный круг»:
И снежинки по склонам оврага
Заметут, заровняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, где воля твоя.
В Третьей книге лирики А. Блока, где трагизм достигает наивысшего напряжения, не остается места веселью, даже в его наиболее динамических связях с образами надрыва и смерти. Преобладающая сфера употребления этого слова здесь – творчество поэта. В стихотворении «Повеселясъ на буйном пире…» (III: 21) веселье жизни противопоставляется аскетизму творчества:
«Вот твой скит.
Забудь о временном, о пошлом
И в песнях свято лги о прошлом».
Вступительное стихотворение «О, я хочу безумно жить…» (III: 57) к циклу «Ямбы» (1907–1914), с заглавием, отсылающим к древнегреческой жанровой традиции, предваренному эпиграфом из сатиры Ювенала, римского мастера негодующего стиха, имеет совершенно особое значение для всего творчества Блока. Стихотворение звучит как исповедальное откровение поэта о себе, о своей светлой и свободной душе, которую, несмотря на видимое угрюмство, сможет понять юноша веселый – потомок поэта. И сам поэт в глазах веселого юноши – такой же юный и веселый, свободный и светлый:
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!
(Курсив Блока)
Это стихотворение о творчестве поэта. И. Оксенов, современный Блоку критик, отметил в «Ямбах» «подлинный прекрасный индивидуализм личности, (…) вмещающей целый мир» и, анализируя первую строфу стихотворения «О, я хочу безумно жить: Все сущее – увековечить, Безличное – вочеловечить, Несбывшееся – воплотить!», замечает: «Вскрыв содержание этих строк, мы найдем, что для художника жить – значит творить» (Жизнь искусства. 1919. № 267. 14 октября).[130]130
Цит. по: БлокА. А. ПСС. Т. III. М… 1997. С. 675.
[Закрыть]
Блок в ряде статей 1910-х годов говорит о «священном» безумии («О современном состоянии русского символизма», 1910; «Памяти Врубеля», 1910, и др.), то есть о дионисическом экстазе как одном из условий полноты творческого воплощения. Этот творческий экстаз, стихийность и своеволие («Так я хочу» – в статье «О лирике», 1907) вмещаются в блоковскую формулу «мое веселье». За этим мироощущением безусловно угадывается Ницше, имевший для Блока и для русского символизма в целом особое значение. Неслучайно заголовок трактата Ницше «Веселая наука» введен в драматический диалог Блока «О любви, поэзии и государственной службе» (1906). Книга Ницше привлекла Блока уже тем, что написана она, по признанию самого автора, «на языке весеннего ветра», в которой есть «напоминание как о близости зимы, так и о победе над зимой». «Веселая наука» – это «сатурналии духа, который терпеливо противостоял ужасно долгому гнету», это «веселость после долгого воздержания и бессилия, ликование возвращающейся силы, пробудившейся веры в завтра и послезавтра…».[131]131
Ницше Ф. Сочинение в 2 т. Т. 1. М.: Мысль. 1990. С. 492.
[Закрыть] Книг Ницше из библиотеки Блока не сохранилось, и мы не можем знать, какие строки были им помечены. Но очевидно, что Блок не мог пройти мимо мыслей философа о творчестве, мимо высказывания, которое получает отклик в стихотворении «Да, я хочу безумно жить…» и других произведениях поэта о творчестве:
… мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им все, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, веселость (курсив мой. – 77. 77.), страсть, муку, совесть, судьбу, рок. Жить – значит для нас постоянно превращать все, что нас составляет, в свет и пламя, а также все, с чем мы соприкасаемся, – мы и не можем иначе (курсив Ницше).[132]132
Ницше Ф. Сочинение в 2 т. Т. 1. М.: Мысль. 1990. С. 495.
[Закрыть]
Мысли о фазах творчества, сформулированные Блоком в 1921 г. в статье «О назначении поэта», образно оформились, нашли поэтическое выражение гораздо раньше – в стихотворении «Художник» 1913 (III: 101–102). Наиболее полно развернуты здесь первая и вторая фазы: «во-первых – освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму».[133]133
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 162.
[Закрыть] Первую из них Блок определяет так:
На бездонных глубинах духа (…) – катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры; морские течения, растительный и животный мир. (…).
Первое дело, которого требует от поэта его служение, – (…) открыть глубину. (…) вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения (…).[134]134
Там же. С. 163.
[Закрыть]
Второе требование, после того как «Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу», заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию.[135]135
Там же.
[Закрыть]
В стихотворении «Художник» первая фаза выражена в первых четырех строфах:
В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон.
Вот он – возник. И с холодным вниманием
Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
И перед зорким моим ожиданием
Тянет он еле приметную нить.
С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит!
Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого – нет.
Хорошо известно, какое значение имело для поэтического творчества Блока звучание мира. По его собственному трагическому признанию, он перестал писать стихи, когда перестал слышать мир. В рассмотренном выше стихотворении «Осенняя воля» – тот же звон, услышанный поэтом в момент творческого веселья: «Вот оно, мое веселье, пляшет И звенит, звенит, в кустах пропав!». В стихотворении «Пляски осенние»: «Радость ждет сокровенного слова»; «Золотая запела труба»; «Так волнуют прозрачные звуки, Будто милый твой голос звенит». Осознанно или неосознанно, поэтическая память Блока держала в себе пушкинское откровение о творчестве поэта: «Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон, И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье».
Вторая половина стихотворения посвящена в основном второй фазе:
И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил, —
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил – убил.
И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.
Вот моя клетка – стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.
В завершающем четверостишии – третья фаза, или, как у Блока, – «третье дело поэта» – «внести эту гармонию во внешний мир»:
Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду – и скучаю опять.
Момент веселья и свободы связан с первой фазой творчества, то есть с тем состоянием всего существа поэта – духовного, душевного и телесного, – когда он начинает слышать катящиеся «на бездонных глубинах духа» «звуковые волны» («шум и звон», по Пушкину), неслышные другим, но доступные чуткому слуху поэта. В этой связи Блок приводит пушкинские стихи:
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и слтпенъя полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы,
комментируя их как приобщение «к „родимому хаосу“, к безначальной стихии, катящей звуковые волны».[136]136
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 163.
[Закрыть]
Вторая фаза – приведение звуков в гармонию, «в прочную и осязательную форму слова» – «требует вдохновения так же, как приобщение к "родимому хаосу"». В этой связи Блок цитирует Пушкина: «вдохновение, – есть расположение души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных»; «поэтому, – продолжает он, – никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно связано с другим».[137]137
Там же.
[Закрыть] Обе эти фазы – вслушивание и мастерство поэта – возможны только на гребне беспредельной внутренней свободы (того, что и Пушкин, и Блок назвали «тайной свободой»), легкости, веселья, ликования, восторга. Вяч. Иванов дает творчеству поэта сходное определение: «В существе своем, художество — веселая наука, воплощение ритма и меры, чуткое ухо к веяньям тонким, вещие уста вдохновенных шопотов».[138]138
Иванов Вяч. О веселом ремесле и умном веселии // Иванов Вяч. Собрание сочинений. T. III. Брюссель. 1979. С. 65.
[Закрыть] Творческое состояние, подобно самозабвенной влюбленности, накатывает волною:
Тоскою, страстью, огневицей
Идет безумие любви. (…)
Темно, и весело, и душно.
«Есть времена, есть дни, когда…» (III: 138)
Переход от первой фазы ко второй в стихотворении «Художник» Блок определяет как момент зачатия и смерти-рождения:
И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил, —
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил – убил.
Поднятый «из глубины» звук («Легкую, добрую птицу свободную») поэт замыкает «в прочную и осязательную форму слова» – «в клетку холодную». «Легкий, доселе не слышанный звон» отлит в слово. Услышанные вживе «сирины райские» стали текстом. Это стихотворение о «проклятии» поэта, который убивает все живое, «отнимает запах у живого цветка», как скажет Блок в другом стихотворении. Форма – «прочная и осязательная»: «Вот моя клетка – стальная, тяжелая, Как золотая, в вечернем огне». А явленные поэту и пережитые им откровения – «птица, когда-то веселая», замкнутая в эту клетку: «Обруч качает, поет на окне».
Стихотворение приобретает трагическое звучание, потому что выраженное в заключительном четверостишии «третье дело» поэта – «внести гармонию во внешний мир», – завершается разобщением творческого напряжения поэта, его творческих восторгов и – потребительским отношением к «плодам свободы» праздной публики: «Любите вы под окном постоять? Песни вам нравятся? Я же, измученный, Нового жду – и скучаю опять». Рутина жизни человечества обозначена и в начале стихотворения, образуя кольцевую композицию: «В жаркое лето и в зиму метельную, В дни ваших свадеб, торжеств, похорон», с так же повторяющимся состоянием скуки поэта и ожидания новой звуковой волны, накатывающей «из глубины»: «Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную Легкий, доселе не слышанный звон». Это ожидание, чтобы скуку обыденной жизни сменило творческое веселье, приводит на память пушкинское: «Душа вкушает хладный сон (…). Но лишь Божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел».
Однако не всегда поэт находится в состоянии разобщения с миром. В стихотворении «И вновь порывы юных лет…» 1912, непосредственно предшествующем «Художнику» в Третьей книге стихов (III: 101), творческий экстаз поэта становится залогом единения поэта с миром людей:
… через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь…
В контексте стихотворения это подлинное и единственно возможное счастье, поскольку простое человеческое счастье остается «несбыточной мечтой»: «Но счастья не было – и нет». И вновь это звучит как реминисценция из Пушкина: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Покой и воля – условия, необходимые для творческого вдохновения, которое переживается поэтом как веселье, как праздничное состояние духа, способного проницать невидимое, слышать неслышимое, любить и страдать, «плакать, петь, идти». Доля поэта — «Печальная доля – так сложно, Так трудно и празднично жить…» («Друзьям» 24 июля 1908, III: 88).
При всех сомнениях и разочарованиях поэта в совершении «третьего дела» – внесении искусства в человеческий мир – Блок выражает твердую уверенность в том, что «Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. "Слова поэта суть уже его дела". Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака…»;[139]139
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 162.
[Закрыть] «Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно».[140]140
Там же. С. 168.
[Закрыть]
Блок завершает свою речь «О назначении поэта» тремя простыми истинами об искусстве, которые хорошо знал Пушкин и которые Блоку пришлось объяснять своим современникам:
Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того, чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать.
В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина.[141]141
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 168.
[Закрыть]
Истины веселые, потому что это очевидные истины здравого смысла. В драме «Король на площади» (1906) Шут, когда ветер распахивает его рясу и срывает капюшон, обнажая красный колпак и золотые позументы на красном брюхе, представляет себя смятенной толпе как Здравый Смысл и возглашает: «Буду пасти вас, стада мои, жезлом железным! (…) Мое красное золото весело поет пред вами! Но веселое красное золото принесет вам смерть и пожары, если вы будете испытывать Здравый Смысл!»[142]142
Там же. Т. 4. С. 51.
[Закрыть]
Слова Шута звучат как революционное пророчество. В поэме «Двенадцать» (1918) это пророчество сбывается. Ветер, сквозной образ поэмы, играет роль провокатора, дразнит и сбивает с ног ослепленных вьюгой людей, воплощает жестокость и беспечный разгул революционного города:
Ветер хлесткий! (…)
Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат…
Это сама поднявшаяся стихия в восторге разрушения, родственном разрушительному веселью Заратустры у Ницше, которое, в частности, у Блока находит выражение в стихотворении «И я любил, и я изведал…» 30 марта 1908 (III: 112):
И, наполняя грудь весельем,
С вершины самых снежных скал
Я шлю лавину тем ущельям,
Где я любил и целовал!
Таким образом, слово веселье в Третьей книге лирики и в последних сочинениях Блока определяет два прямо противоположных семантических контекста: веселье творческого созидания и веселье разрушения.
О. В. Февралева
Земля в снегу: диалектика стихий в поэзии и прозе А. Блока
«В системе символизма… – пишет 3. Г. Минц, – образы стихий становятся доминантами, входят в основные противопоставления символистской картины мира. Создается целостная мифология стихий».[143]143
Минц 3. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 341.
[Закрыть] Слово стихия в русском языке XIX века получает следующее определение: «вещественное начало, основа, природное основание; простое, неразлагаемое вещество;.. начальное коренное вещество. Стихиями иногда зовут основные вещественные, неживые силы природы… земля, вода, воздух и огонь».[144]144
Даль В. И. Словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М.; СПб., 1880. С. 325.
[Закрыть] Более адекватным такому смыслу является слово элемент (element), обозначающее стихию на европейских языках. Русское слово стихия в большей степени соотносится с энергетически наполненными динамическими формами существования элементов в природе и их метафорического перенесения на историю и человека. Для поэта-символиста слово стихия обладает не только своим материально-субстанциональным значением, но имеет это второе, дематериализованное, образно-символическое значение, неразрывно связанное с первым и через него получающее свое пластическое выражение. Д. Е. Максимов находит точную формулу для этого специфически блоковского концепта: «Стихия, по Блоку, есть проявление мощных раскованных сил природы, человека и человечества»;[145]145
Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 374–375.
[Закрыть] «Стихия есть динамическое многообразие светлых и темных мировых сил, материальных и духовных».[146]146
Там же. С. 379.
[Закрыть]
Физическая основа мироздания, согласно античной натурфилософии, выражается соотношением и взаимной причастностью четырех стихий: воды, огня, воздуха и земли, пребывающих в круговороте превращений. В тетраде стихий особое место занимает земля, отождествляемая с богиней-матерью. Большинство древних космогоний называют земную субстанцию материалом создания человека. В Библии сказано: «создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт 2:7). Эту идею переосмысливали не только поэты-современники Блока, но и ученые, в частности Д. И. Менделеев.[147]147
«Есть глубокий смысл в том представлении, что человек создан из земли» // Менделеев Д. II. К познанию России. С приложением карты России. СПб., 1906. С. 23. Эти слова подчеркнуты Блоком в принадлежавшем ему экземпляре книги (Библиотека А. А. Блока. Описание: В 3 кн. Кн. 2. Л., 1985. С. 150).
[Закрыть]
Слово земля представляет собой сложный концепт блоковского языкового сознания, восходящий к мифологическим и фольклорным, философским и научным представлениям прежних веков и модернистской эпохи. Метафоры, связанные с земной субстанцией, геологическими процессами, Блок развертывает до предела. Так, статья «Стихия и культура» (1908) содержит подробнейшее описание землетрясения, избыточное с точки зрения только социологического и культурологического смысла, объяснимого лишь в свете поэтической онтологии. Земля-материя символизирует всякую плоть, и Блок создает ряд геосоматических образов: «око земли»[148]148
Поэтические произведения А. А. Блока, а также проза 1903–1907 годов (кроме статьи «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906)) цитируются по Полному собранию сочинений и писем в двадцати томах (М., 1997) с указанием номера тома и страницы. Проза после 1907 года и драматургия – по Собранию сочинений в восьми томах (М.; Л., 1960–1964).
[Закрыть] (2: 17), «мускул земли» (2: 41), «земная кровь» (5: 25), «подземная лихорадка» (5: 355), «земное сердце» (3: 63) и «сердце земли» (5: 354; 594). Дух Земли гётевского Фауста и Мать-Земля занимают своё место в мифопоэтике Блока. Так, «своим Erdgeist’ом»[149]149
А. А. Блок. А. Белый. Переписка. М… 2001. С. 514.
[Закрыть] поэт называл вдохновение, в котором создавалась поэма «Двенадцать» (1918). О том, что в ранней поэзии Блока Душа мира «трансформируется в образ Души земли, «матери-земли», пишет Т. В. Игошева.[150]150
Игошева Т. В. «Стихи о Прекрасной даме» Александра Блока: поэтика религиозного символизма. Вел. Новгород, 2003. С. 104. Мифологеме Матери-земли в символистской поэтике посвящен большой раздел исследования А. А. Ханзена-Лёве. См.: Ханзен-Лёве А. А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм начала века. Космическая символика. СПб., 2003. С. 556–574. Одним из первых исследователей, коснувшихся этого образа в творчестве А. Блока, стала Д. М. Магомедова. См.: Магомедова Д. М. А. А. Блок. «Нечаянная Радость» (Источники заглавия и структура сборника) П Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. С. 151."
[Закрыть] Начиная с 1908 года земля-стихия перерастает для Блока в некий макросубъект, соотносимый с понятием народ («подземная, или народная ночь» (5: 352)).
В «Стихах о Прекрасной Даме» (1904) слово земля часто фигурирует как метонимия низкого мира, юдоли, жизни без божества: «Далёко суетной земли» (1: 23), «А наутро встречаюсь с землёю опять, // Чтобы зло проклинать, о добре тосковать!» (1: 27); «Буду прежнею думой болеть //…И таиться на этой земле» (1: 54), «Здесь, на земле, – как сон, и свет и тень» (1: 97) и т. д. На фоне этих обличений и отрицаний звучат строки: «Верю в солнце Завета… // Жду вселенского света // От весенней земли» (1: 95), в которых земля приобретает мессианские черты. Весна для Блока – не столько календарный период, сколько имманентное качество земли, «всегда простой и весенней» (5: 129).
Такие стихии-субстанции, как огонь, воздух и вода, в блоковском мире не только противопоставляются, но и тесно соотносятся с землей. Поэт часто использует образы подземных вод (ключей-родников), подземного огня — лавы, струящейся под земной корой. С 1917 года Блок вводит в круг подобных символов горение торфа, становящееся некой иллюстрацией социально-психологической ситуации: «… вокруг всего города горит торф» (7: 295); «Такие же жёлто-бурые клубы, за которыми тление и горение… стелются в миллионах душ, – пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести…» (7: 297). Летучая пыль служит синкретичным образом земли-воздуха. В лирическом цикле «Пузыри земли» (1904–1905) поэт разрабатывает образ болота. Нетрудно заметить, что ставшая заголовком шекспировская формула вмещает в себя представление уже о трех субстанциях: земле, воде и воздухе.
Итак, земля в мироощущении Блока предстает полем взаимопритяжения и синтеза других стихий. Однако ее антиподом, двойником-конкурентом можно назвать снег, который читатели-современники[151]151
Показательны строки из лирической миниатюры Ф. К. Сологуба: «Стихия Александра Блока – // Метель, взвивающая снег» (Блок в поэзии его современников / Публикация Ю. М. Гельперина // Литературное наследство. Т. 92: В 4 кн. М., 1987. Кн. 3. С. 557). К. Д. Бальмонт посвящает памяти А. Блока стихотворение «Снежный лик». Там же. С. 574.
[Закрыть] склонны были считать стихией, доминирующей в художественном мире поэта. Оппозиционность этих равных по семантической валентности образов подчеркнута в заглавии четвертой книги стихов Блока «Земля в снегу» (1908).
Среди блоковедческих работ, посвященных семантике снега, наиболее содержательными представляются раздел «"Снежная маска" – «Фаина» – "Вольные мысли"» в работе 3. Г. Минц «Поэтика Александра Блока» (СПб., 1999), а также глава «Зима и снег» книге А. А. Ханзена-Лёве «Мифопоэтический символизм. Система поэтических мотивов» (СПб., 2003). Однако в указанных работах взаимодействие образов снега и земли почти не рассматривается.
Поэтизация земли основана прежде всего на личном опыте Блока и связана с его любовью к работе в саду. В летних письмах поэта этот мотив повторяется: «усиленно предаюсь копанию земли» (8: 23), «летняя земля помогла…» (8: 113), «опять копаюсь в земле» (8: 124), «Гуляем и в саду немного копаемся» (8: 157), «Живем хорошо – копаюсь в земле» (8: 251), «…копаюсь, рублю дрова» (8: 290). Знаменательно частое использование возвратного залога, усиливающего эффект сближения земли и «я». Снег же как «своя» стихия, как концептуальный образ возникает в лирике Блока, очевидно, не без влияния писем А. Белого от 1905 года: «верю в будущую Россию – снежную, метельную, зимне-бодрую, веселую, здоровую… хочу послать тебе снежного забвения», «Серебряные метели будут… Ты – метельный». Один из предикатов приведенных фраз повторяется в блоковских строках: «И, мерцая, задремлем, // На туманный век, // Посылая землям // Среброзвездный снег» (2: 72). Образ снега, связанного с «представлением о тишине, ясности, ласковости, «кроткой беспредметности» (2: 664), восходящий к эзотерическому языку общения поэтов, комментаторы находят в стихотворении «Милый брат, завечерело…» (1906).
Прежде всего, следует обратить внимание на двуликость снега, изображаемого как в виде вьюги-метели, так и в виде покрова земли. Эти ипостаси составляют внутреннюю антитетическую пару, корреспондирующую с оппозицией движение– неподвижность. В своей синхронности они делают снег символом хаоса сходящихся полюсов, но в текстах Блока, как правило, акцентировано одно из двух состояний снега.
Субстанциональная самостоятельность блоковского снега сомнительна: он постоянно мимикрирует, обнаруживая сходство и семантическое родство с прахом и пылью: «…точат широкий нож в снежной пыли» (5: 56); «Только одежды взвиваются в лохмотьях снежной пыли» (7: 24); «И в вихре снежной пыли // Я верен черноокой // Змеиной красоте» (2: 95), «Ты для меня – прекрасный сон, // Сквозящий пылью снеговой» (3: 139). «И звезды сыплют снежный прах» (2: 154), «Взмети твой снежный прах!» (2: 170) – повторяется в стихах цикла «Снежная Маска» (1907). Снег и пыль могут быть связаны единым сопутствующим мотивом нарушения покоя и порядка. В драме «Король на площади» (1906) пыль играет роль достаточно близкую к роли снега в поэме «Двенадцать», на что указывает И. С. Приходько.[152]152
Приходько И. С. Слово пыль в символистском контексте. Материалы к словарю // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века. Иваново, 1999. С. 332. В статье рассмотрены преимущественно негативные коннотации образа пыли.
[Закрыть] Это знаки неизбежного крушения старого мира и неясности дальнейших судеб: в пыли проносятся обманчивые красные Слухи; из снежной метели «Двенадцати» слышны полувнятные обрывки речей. И снег, и пыль, взвихренные, мешают ясному виденью: «Вскрутился к небу снежный прах..» (5: 14); «Где одна пылит пурга» (5: 18); «И вьюга пылит им в очи» (5: 19). В драме «Роза и крест» (1912) снег также «слепит глаза» (4: 192); «За снегом ничего не разобрать» (4: 194), – жалуются герои.
У земной толщи снег перенимает погребальную функцию – мотив успенья– захоронения в снегу возникает в лирике Блока едва ли не чаще, чем мотив захоронения в земле: «Чудо, ложись в снеговые бугры!» (1: 171); «Но подруга упала в снег» (4: 15); «Покойник спать ложится // На белую постель. // В окне легко кружится // Спокойная метель. // Пуховым ветром мчится // На снежную постель» (3: 122); «Может быть, я умру в снегу» (4: 161); «Уж первый легкий снег занёс… // Сладко ль спать тебе, матрос?» (3: 13); «Лишь снег порхает – вечный, белый, //… И мертвое засыплет тело…» (5: 61) и т. д. Снег устойчиво ассоциируется с белизной савана: «Нежный саван снежной белизны» (1: 166), «Белый саван – снежный плат, // А под платом – голова…» (2: 140).
Под влиянием фольклорной традиции Блок связывает землю с самыми позитивными этическими представлениями: добротой, любовью, утешением. В статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906) Блок приводит «золотые слова» матери, ограждающие от бед странствующего сына. Завершает их завет мирного упокоения: «А придет час твой смертный… обернись на нашу родину славную, ударь ей челом… припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным» (5: 60). Спасительное припадение к земле в русской литературной традиции восходит также к Достоевскому. Возможно, отголосок этого заклинания звучит и в стихотворении Блока «О смерти» (1907) при странно светлом описании гибели жокея, который «Ударился затылком о родную // Весеннюю, приветливую землю» (2: 207).
Захоронение в земле поэт изображает как печальный, но светлый обряд: «Белые священники с улыбкой хоронили // Маленькую девочку в платье голубом. //…И тихонько возносили к небу куренья, // Будто не с кадильницы, а с зеленой земли» (1: 153). В блоковском восприятии земного погребения присутствует парадоксальное чувство торжества жизни. Рецензируя «Стихи о современности» Э. Верхарна в 1906 году, Блок привлекает мотив порождения тленом живого роста: «Упругие и свободные побеги его стихов вспитаны земным, могильным соком» (5: 628). Этот смысл соотносится в сознании Блока с имевшей для него особое значение евангельской притчей о зерне, послужившей эпиграфом к роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», что также было важно для Блока.[153]153
Приходько И. С. Мифопоэтика А. Блока. Владимир, 1994. С. 109
[Закрыть] Другая черта земного погребения – его катарсичность. «Очистительной» называет Блок смерть В. Ф. Комссаржевской в 1910 году: «Тот, кто видел, как над ее могилой открылось весеннее небо, когда гроб опускали в землю, был в ту минуту блаженен и светел» (5: 419); просветленность подчеркивается и в эпизоде похорон отца в поэме «Возмездие» (1911). Третий, не менее важный аспект земного погребения – надежда на преодоление отчужденности, на воссоединение с первоначалом через возвращение к истоку существования – к земле. Присущее народному сознанию всепрощающее отношение к мертвому Блок подчеркивал еще в статье 1906 года «Поэзия заговоров и заклинаний»: «… вот он умер и безвреден, и тотчас же становится своим, надо его похоронить… Мальчики и девочки запрягали в тележечки петушков и курочек и возили землю на могилку змея, пока не засыпали его совсем» (5: 39). «Но мертвец – родной душе народной, // Всякий свято чтит она конец» (3: 87), – развивает эту мысль поэт в стихотворении «За гробом» (1908), описывая похороны «литератора модного», «слов кощунственных творца» (3: 87), героя, на которого проецируется если не личность автора, то обобщенный образ интеллигента-индивидуалиста.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































