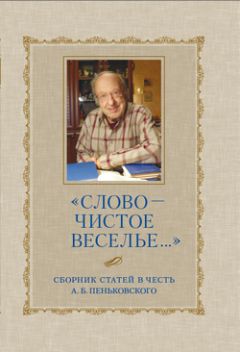
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 50 страниц)
Сюжет мифа о Пигмалионе – и до Тютчева и рядом с ним – неоднократно разрабатывался в русской литературе первой половины века. К нему непосредственно обращались Пушкин и Жуковский, Боратынский и Огарев, Мей и Вяземский. Причем интерпретации мифологической темы о царе-скульпторе и одушевленной силой его любви прекрасной статуе были весьма разнообразны. Дважды мы находим прямые упоминания о Пигмалионе в поэзии Жуковского. Впервые – в переведенном из Шиллера «Отрывке» 1806 года:
Как некогда Пигмалион,
С надеждой и тоской объемля хладный камень,
Мечтая слышать в нем любви унылый стон,
Стремился перелить весь жар, весь страстный пламень,
Всю жизнь своей души в создание резца,
Так я, воспитанник свободы,
С любовью, с радостным волнением певца,
Дышал в объятиях природы
И мнил бездушную согреть, одушевить!
Она подвиглась, воспылала!
Безмолвная могла со мною говорить
И пламенным моим лобзаньям отвечала!..[358]358
Жуковский В. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1983. С. 36.
[Закрыть]
Спустя шесть лет, в 1812-м, Жуковский вновь обращается к этому материалу в более сжатом переводе того же текста Шиллера, интерпретируя его в том же шеллингианском духе:
(«Мечты», 1812)
Пигмалион в этом контексте – олицетворение поэтического гения, через творческое усилие одушевляющего «хладную» (бездушную) Галатею-природу. Именно в результате этого усилия «немая» природа обретает язык («Тогда и древо жизнь прияло, И чувство ощутил ручей…»), раскрывается перед человеком во всей полноте своей тайной жизни. В центре внимания Жуковского – сугубо романтическая, натурфилософская проблематика, столь много значащая и для его лирики, и для поэзии Тютчева. Последний мог бы оспорить концепцию бездушной Природы-Галатеи целым рядом произведений 1820—30-х годов: от юношеского послания «Нет веры к вымыслам чудесным…» (1821), обращенного к Андрею Муравьеву, до программной инвективы середины 30-х «Не то, что мните вы, природа…». Такая – тютчевская – природа не нуждается в преображающем воздействии Пигмалиона в принципе. Совершенно иначе версия Овидиева мифа разворачивается в стихотворении Боратынского, хотя и в его медитации связи с глубинной проблематикой романтизма ясны. Речь идет о миниатюре «Скульптор» (1841). В ее центре – острейшая психологическая коллизия, вне которой, по Боратынскому, нет и быть не может подлинного искусства. Эти стихи – о подвижническом труде художника, о тайном соблазне, не отчуждаемом от творческого акта, о неотвратимом воздействии создания на создателя – «по-боратынски» графичны, отточены, обладают строго выверенной, хотя и парадоксальной логической структурой. Напомним вторую часть «Скульптора»:
В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,
Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.[360]360
Баратынский Е. А. Стихотворения. Новосибирск, 1979. С. 154.
[Закрыть]
И. Л. Альми, анализируя структуру и пафос итогового сборника Боратынского и характеризуя деформацию в «Скульпторе» античного сюжета, отмечает, что поэт «смещает смысловые акценты легенды: центром стихотворения становится то, что у Овидия составляло лишь предысторию, – рассказ о создании статуи. Момент этот не просто отодвинул, он вобрал в себя другие важнейшие моменты лирического сюжета – любовь Пигмалиона и пробуждение жизни в статуе».[361]361
Альми И. Л. О поэзии и прозе. Санкт-Петербург, 2002. С. 196.
[Закрыть] Одно из самых существенных отступлений от текста «Метаморфоз» – сознательное умолчание автора о роли богов-олимпийцев в преображении Галатеи: у Боратынского так до конца и не ясно, вмешиваются ли боги в судьбу Галатеи, или же она сама откликается на упорный труд ваятеля.
Куда ближе к первоисточнику и ярче по античному колориту стихотворение Л А. Мея «Галатея» (1858). Но и здесь в основание положен вопрос о природе творчества. Героиня Мея предстает, в полном соответствии с эстетическими постулатами и декларациями 50-х годов, как идеальное воплощение абсолютной красоты:
Мей, пожалуй, единственный из поэтов XIX века, осмысливая миф о скульпторе, вводит в двухчастный текст элементы драматургии. Право голоса получает как мастер, молящий всемогущего Зевса об оживлении «глыбы мрамора», так и сама статуя, которая в финале выступает вестницей воли богов. Именно в ее реплике, выделенной авторским курсивом, подводится итог сказанному: «Жизнь на земле – сотворенному смертной рукою; Творческой силе – бессмертье у нас в небесах!»22 Но в поле зрения Тютчева, конечно же, были и тексты, в которых тема Пигмалиона была интерпретирована более привычно (и в большем согласии с первоисточником), в любовно-психологическом ключе. Это, во-первых, начальные строфы четвертой главы «Евгения Онегина», опубликованные в 1827 году в погодинском «Московском вестнике» под заголовком «Женщины». Строфы эти, хотя и не вошедшие в канонический текст романа, к 1850-м годам почти наверняка были известны Тютчеву, хотя бы в силу давних доверительных отношений с издателем журнала. Во второй строфе Пушкин пишет: «То вдруг я мрамор видел в ней, Перед мольбой Пигмалиона Еще холодный и немой, Но вскоре жаркий и живой».[363]363
Цит. по: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 6. 1937. С. 592.
[Закрыть] Быть может, оглядка на эти строки заметна и в огромном цикле, по существу книге, любовной лирики Н. П. Огарева, обращенной к Сухово-Кобылиной. В стихотворении, датируемом концом 1842 года, «Livorno спит…» читаем:
Думается, что именно любовно-психологические трактовки мифа, существовавшие в современной ему русской поэзии, были наиболее близки Тютчеву. Между тем поблизости от него звучали апелляции к античному сюжету не только в поэтических, но и в критических текстах. Отметим два принципиально важных случая. Первый – из программной, получившей значительный резонанс статьи Ивана Киреевского «Девятнадцатый век». В ней, размышляя над особенностями мировосприятия своего современника, автор писал: «…жизнь явилась ему существом разумным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону его одушевленная статуя».[365]365
КиреевскийII. В. Поли. собр. соч. Т. 1. М… 1911. С. 95.
[Закрыть] Знание Тютчевым этой статьи вполне вероятно уже хотя бы в силу личного и приязненного знакомства с Киреевским во второй половине 1820-х годов. Такое «всеобъемлющее» и символически многомерное истолкование мифа, раздвигающее его значение до масштабов самой жизни, было безусловно родственно Тютчеву. Еще одно упоминание о Пигмалионе относилось к Тютчеву непосредственно. В «Литературной газете» за 1830 год появляется большая статья П. А. Вяземского «О московских журналах». В обзоре Вяземский уделяет определенное место и характеристике Раичевой «Галатеи». В целом оценивая издательскую деятельность Раича весьма критически, Вяземский особо замечает: «Тютчев, Ознобишин, от времени до времени появляющиеся в «Галатее», могут почесться минутными Пигмалионами, которые покушаются вдохнуть искру жизни в мертвый обломок».[366]366
Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига. 1830. М., 1988. С. 112.
[Закрыть] Вероятность знакомства Тютчева с этой статьей также довольно велика – ведь именно в 1830 году (правда, тремя месяцами позднее) поэт вместе с семьей приедет в Россию, и одна из первых публичных оценок его нечастых публикаций на родине, да еще высказанная на страницах пушкинского издания, едва ли могла пройти мимо него.
Миф о Пигмалионе и Галатее сопровождает Тютчева, по существу, на протяжении всей жизни: от общения с домашним учителем и до позднего, 1872 года, письма дочери, в котором трактовка мифа дается предельно широко: «Придет ли Россия к глубокому и полному осознанию законов своего развития, своей исторической миссии, скоро ли произнесет она слова, которые говорит статуя Пигмалиона, когда из куска мрамора превращается в одушевленное существо: это я, это тоже я, а это уже не я. К скольким людям и явлениям полностью приложима последняя часть этой сакраментальной фразы».[367]367
Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2. Письма. М… 1984. С. 357.
[Закрыть] Подобное восприятие античного сюжета (Россия – Галатея), конечно же, своей универсальностью отличается и от романтической натурфилософии Жуковского-Шеллинга (Галатея-Природа), и от версий Боратынского и Мея в русле психологии творчества и эстетических идей 1850-х годов, и от более традиционных интерпретаций, представленных в поэзии Пушкина и Огарева. По своему масштабу суждение Тютчева, пожалуй, может быть сопоставлено с уже цитировавшейся мыслью И. Киреевского. Чрезвычайно важно, что в сознании Тютчева миф о Пигмалионе органически соединяется с проблемой самопознания личности, сердцевинной для всей его лирики. Достаточно указать на первоначальный вариант названия безусловно программного текста, написанного на рубеже 1840—1850-х годов, «Святая ночь на небосклон взошла…» – «Самосознание».
Мифопоэтические подходы к исследованию русской классики XIX – начала XX в. в последние годы становятся все более настойчивыми и системными.[368]368
Как пишет И. С. Приходько, «миф… подразумевает не просто новое художественное использование какого-то литературного образа или сюжета, но воспроизведение классической ситуации на новом витке спирали на всех уровнях: философском, психологическом, художественно-поэтическом, но и на жизненном, биографическом…» (Приходько И. С. Александр Блок и русский символизм: мифопоэтический аспект. Владимир, 1999. С. 40).
[Закрыть] Иногда претензии, высказываемые в этой области, кажутся даже чрезмерными. Так, сравнительно недавняя статья А. Макушинского названа не без эпатажа: «Отвергнутый жених, или Основной миф русской литературы XIX века». Впрочем, и сам автор корректирует центральный тезис исследования, вызывающе обозначенный в заглавии: «Конечно, попытка «все» свести к этой схеме была бы глупостью; поэтому и пытаться не будем. Есть достаточно других мотивов (конфликтов, сюжетных схем… как угодно) в русской литературе этого – и любого другого периода; общий знаменатель какой бы то ни было эпохи найти, по-видимому, вообще невозможно».[369]369
Вопросы философии. 2003. № 7. С. 36.
[Закрыть]
Перед нами не стоит задача указать на этот воображаемый «общий знаменатель» – она много скромнее: выявить проекции античного мифа о Пигмалионе на «денисьевский» цикл – главным образом на его начальные фрагменты, а кроме того, высказать некоторые предположения относительно «прорастания» этого мифа в тургеневской прозе того же периода.
Вероятно, первое, косвенное, проведение темы Пигмалиона у Тютчева обнаруживается именно в стихотворении «Не раз ты слышала признанье…». Но тогда же, в 1851–1852 году, в лирике Тютчева появляются произведения, где эта же тема воплощается с куда большей отчетливостью. В первую очередь речь должна идти о стихотворении «О, не тревожь меня укорой справедливой!..»:
О, не тревожь меня укорой справедливой!
Поверь, из нас из двух завидней часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.
Предложенная ситуация крайне интересна: на русской почве Овидиева легенда как бы перерождается, «мутирует». Финальная антитеза говорит сама за себя: миф развернут парадоксально, в обратном направлении. Схематически этот разворот может быть представлен так: он (герой), подобно Пигмалиону «создавший» волшебный мир ее души, пробудивший ее к напряженной нравственно– духовной жизни, в конечном счете демиургически одушевивший ее, сам оказывается не готов к принципиально новой ситуации, оказывается не в состоянии «соответствовать» высоте и бескомпромиссности чувства «ожившей» Галатеи и, как следствие, превращается в статую, идола, «безжизненного кумира». Бесспорна перекличка между пьесами, написанными почти одновременно: «Пускай мое она созданье…» и «…перед волшебным миром, Мной созданным самим…». Результат мутации исходного мифологического сюжета трагичен: предание о Пигмалионе-творце на первый взгляд неожиданно, но вполне закономерно именно для Тютчева трансформируется в предание о Пигмалионе-погубителе, ибо пробужденная им Галатея, не нашедшая отклика полноте своего чувства, обречена на гибель (в крайнем случае) либо по меньшей мере на великое страдание и отчаяние.
В этом плане далеко не случайно появление уже в начальных фрагментах цикла мотива «погубления». В частности, давно отмечена глубокая диалогическая связь между двумя произведениями самого начала 1850-х: «О, не тревожь меня укорой справедливой!..» и «Не говори: меня он, как и прежде, любит…». Первое из упомянутых естественно воспринимается как ответная реплика «героя» на мучительный монолог «героини», воплощенный во втором, где обозначенный мотив проводится уже в начальной строфе: «О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, Хоть, вижу, нож в руке его дрожит». О том же – и стихотворение «О, как убийственно мы любим…»: «Судьбы ужасным приговором Твоя любовь для ней была И незаслуженным укором На жизнь ее она легла!» Нет надобности «подверстывать» под некую схему всю любовную лирику Тютчева 1850—1860-х годов, связанную с Денисьевой. Вполне понятно и психологически объяснимо, что мотивы мифа о Пигмалионе явственнее звучат в первых фрагментах цикла: именно в 1851–1852 годах, по-видимому, ощущение себя «создателем» женской души и любви было для поэта особенно, пронзительно острым. Сошлемся еще раз на достоверные воспоминания Георгиевского: «Что она (Денисьева. —И. Н.) поддалась его обаянию до совершенного самозабвения, это как нельзя более понятно, хотя ей было в то время… лет 25, а ему 47… Она, и сама близкая некогда к сильным мира сего, дорожила Тютчевым, как единственным звеном, которое связывало еще ее с большим светом. "А мне, – продолжала Леля, еле сдерживая рыдания, – нечего скрывать… никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю – всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, я вся его…"».[370]370
Литературное наследство. Т. 97, кн. 2. 1989. С. 109, 111.
[Закрыть] В отчаянном, покаянном письме самому Георгиевскому, которое было написано по свежим следам трагедии, в декабре 1864 года, Тютчев писал о любви Денисьевой как о «беспредельной».[371]371
Тютчев Ф. И. Сочинения. Т. 2: Письма. С. 275.
[Закрыть] И в этом смысле крайне важен отголосок мифа в пьесе 1865 года, к которой мы ранее обращались:
Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.
(Может быть, в этих строках – отзвук цитировавшихся стихов Жуковского: «…стремился перелить весь жар, весь страстный пламень, Всю жизнь своей души в создание резца…».) Вспоминая начальную пору отношений с Денисьевой, Тютчев «зеркально» опрокидывает ситуацию, о которой писал в «Не раз ты слышала признанье…» и «О, не тревожь меня укорой справедливой!..». Оценка не просто существенно скорректирована – она изменена на диаметрально противоположную: уже не он (Пигмалион), но она (Галатея) обладает демиургической инициативой, преображает, одухотворяет «героя», «переливает» в него всю свою душу.
4Обозначенная выше акцентировка мифа, сформировавшаяся на русской почве, характеризует не только ряд «денисьевских» стихотворений Тютчева, но и многое в русской прозе середины XIX века. Прежде всего, сюжет о Пигмалионе-погубителе неоднократно развертывается в «малой» тургеневской прозе 1850-х годов, где осуществляется очень сложная, многоплановая перестройка «первой» манеры автора «Записок охотника». Симптоматично: именно начало 1850-х – время максимального сближения между Тютчевым и Тургеневым, пора самых активных личных контактов и творческого взаимодействия между ними. Напрашивается предположение, что и личное общение с Тютчевым, и, главное, глубочайшее – на уровне редактуры – проникновение в мир тютчевской лирики влияло (в числе иных, биографических факторов) на формирование в повестях Тургенева «пигмалионовских» тем и мотивов. Герой, сначала пробудивший Галатею, а затем отрекшийся от нее и обрекший ее на страдание и гибель, – ситуация, типичная для тургеневской прозы этого периода. Прямое упоминание о Пигмалионе находим в небольшой тургеневской повести «Три встречи», опубликованной в 1852 году. Повествователь, в третий и последний раз встретивший на бале-маскараде таинственную незнакомку, замечает: «Мы шли молча. Я не в силах передать, что я чувствовал, идя с ней рядом. Прекрасное сновидение, которое бы вдруг стало действительностью… статуя Галатеи, сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глазах замирающего Пигмалиона…»[372]372
Цитаты из Тургенева приводятся по: Тургенев И. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. М., 1968, с указанием страницы в скобках в тексте.
[Закрыть] (104). Но как раз в этом произведении отсылка к мифу имеет характер достаточно внешний, иллюстративный; предлагая психологически тонкую мотивировку состояния рассказчика, она не «прорастает» в композиционно-содержательном строе повести в целом. Однако в иных произведениях Тургенева той же поры мифологический план куда более крупен и серьезен. Прежде всего миф о Пигмалионе-погубителе выступает в таких повестях, как «Дневник лишнего человека» (1850), «Фауст» (1856), «Ася» (1857); в меньшей степени – в «Переписке» (1854). В большинстве из названных мифологическая тема провоцируется обращением героев к литературе. И в «Кавказском пленнике» («Дневник лишнего человека»), и в «Каменном госте» («Затишье», «Ася»), и в «Фаусте» без труда просматриваются сюжетные и психологические модификации античного мифа. Отношения Пленника и Черкешенки, Дон Гуана и Анны, обретшего молодость доктора и Маргариты, каждый раз по-своему, моделируют традиционную коллизию. Наиболее последовательно она анализируется Тургеневым в «Переписке», в седьмом письме, написанном героиней. Это письмо – композиционный центр произведения. Мария Александровна, размышляя об участи русской девушки (и своей, конечно), пишет: «Она оглядывается, ждет, когда же придет тот, о ком душа ее тоскует… Наконец он является: она увлечена; она в руках его, как мягкий воск. Все – и счастье, и любовь, и мысль – все вместе с ним нахлынуло разом; все ее тревоги успокоены, все сомнения разрешены им… она благоговеет перед ним, стыдится своего счастья, учится любить. Велика его власть в это время над нею!..» (250). Показательно, что в следующем письме, от 12 июня, просквозит тютчевский мотив, известный нам по стихотворению «О, не тревожь меня укорой справедливой!..». «…Я останусь до конца верна тому, от чего в первый раз забилось мое сердце, – напишет Мария Александровна, – тому, что я признала и признаю правдою, добром… Лишь бы силы мне не изменили, лишь бы кумир мой не оказался бездушным и немым идолом…» (255–256). В «Переписке» Тургеневым представлена точка зрения женщины. В «Дневнике лишнего человека» и «Фаусте» автор оценивает близкие ситуации с позиции героя. Вот свидетельство Чулкатурина: «Ей (Лизе Ожогиной. —И. Н.) было семнадцать лет… И, между тем, в тот самый вечер, при мне, началось в ней то внутреннее тихое брожение, которое предшествует превращению ребенка в женщину…
я первый подметил эту внезапную мягкость взора, эту звенящую неверность голоса – и, о глупец! о лишний человек! в течение целой недели я не устыдился предполагать, что я, я был причиной этой перемены» (46). А ниже рассказчик не случайно укажет на роль пушкинской поэмы в пробуждении новых чувств в душе Лизы: «Накануне мы с ней вместе прочли "Кавказского пленника". С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонясь грудью к столу!» (46). Естественно, что за упоминанием о поэме открывается вполне обоснованная параллель между историей Лизы и историей Черкешенки. Между тем отнюдь не Чулкатурину суждено было сыграть роль Пигмалиона-погубителя в судьбе Лизы. Эта роль отводится Тургеневым для столичного князя. Чулкатурин, следовательно, может быть определен как мнимый (ложный) Пигмалион. Иначе проецируется на античный миф образ Павла Александровича, героя повести «Фауст». Он может быть определен как невольный Пигмалион, Пигмалион «по неосторожности», сыгравший роковую роль в судьбе Веры Ельцовой. Мифологический мотив заявляет о себе уже в концовке четвертого письма рассказчика: «…я все-таки собой доволен: во-первых, я удивительный провел вечер; а во-вторых, если я разбудил эту душу, кто может меня обвинить?» (330). Вопрос о личной ответственности за пробуждение внутреннего мира героини в полной мере осмысливается Павлом Александровичем с катастрофическим опозданием, уже после ее гибели («Мне следовало бежать, как только я почувствовал, что люблю ее… но я остался, – и вдребезги разбилось прекрасное создание, и с немым отчаянием гляжу я на дело рук своих» (348)). Кажется неоспоримой внутренняя, ассоциативная связь этого размышления с образом героини мифа.
Наконец, отголосок легенды о Пигмалионе проникает и в повесть «Ася». На первом этапе развития отношений между рассказчиком и юной красавицей последняя прямо уподобляется прекрасной нимфе: «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине, – шептал я…» (381). Статуарность Аси подчеркнута автором и в шестой главке повести, в так называемой сцене на развалине. Скорее всего невольно Тургенев перекликается с тютчевским текстом 1851 года: как и Тютчев, автор «Аси» контрастно соотносит в психологическом облике героини черты Галатеи и черты Мадонны, описание которой не случайно предложено в первой главе («Маленькая статуя Мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенной мечами, печально выглядывала из… ветвей» (370)). Тургенев очень тонок в установлении внутренней связи между Мадонной и Галатеей, связи, которую он подчеркивает с помощью определения «рафаэлевская», почти с неизбежностью напоминающего о наиболее известной работе великого художника. Двойственность образа Аси, постоянно акцентируемая Тургеневым, в этом случае приобретает дополнительную историко-культурную окраску.
Еще в конце 1820-х годов автор чрезвычайно содержательной и богатой конкретными наблюдениями работы «Тургенев и Тютчев» А. Лаврецкий отмечал, что эти писатели связаны «узами поэтического братства».[373]373
Лаврецкий А. Тургенев и Тютчев // Творческий путь Тургенева: Сб. статей / Под ред. H. Л Бродского. Пг… 1923. С. 244.
[Закрыть] И далее: «Анализ их художественного творчества показывает, как глубоки эти взаимоотношения. Он свидетельствует о совпадении самых интимных художественных восприятий и ощущений и о возможности взаимного влияния».[374]374
Там же.
[Закрыть] Среди огромного количества родственных мотивов и тем должен занять свое особое место и отмеченный нами мотив Пигмалиона-погубителя, столь значимый как в любовной лирике Тютчева 1850—1860-х годов, так и в тургеневской прозе той же поры.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































