Текст книги "Лягушки"
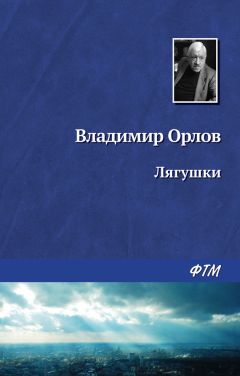
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 50 страниц)
25
В Рыцарском зале ацтеки с лягушками и даже прекраснозадая Каллипига с нагловатым, но упорным голым мужиком были мгновенно забыты.
Над Большой Рекой было тихо и грустно, а здесь всё будто бы звенело, звякало и куралесило. Но вскоре Ковригину стало понятно, что не всё куралесило. И не все. Иные и грустили. Или даже дремали. Отсутствие Ковригина мало кого озаботило. Ну, если двух-трёх человек. Натали Свиридова, хотя и изобразила недовольство возмутительным поведением кавалера, ей обязанного столь шумным успехом и признанием, без него явно не скучала.
– Садись, садись, озорник! – распорядилась Свиридова. – И сдвинем бокалы! За нашу с тобой молодость!
– А-а! – поднял голову звезда театра и кино Пантюхов. – Караваев явился. Васенька, сейчас примется читать сонеты. Это уместно под готическими сводами.
– Пантюхов! – рассмеялась Свиридова. – Тебя сбросят с башни в ров на съедение львам! Хотя львы, возможно, тобой и побрезгуют. Здесь нет Караваевых. Это Сашенька Ковригин, автор пьесы «Маринкина башня»!
– Не всё ли равно! – определил Пантюхов. – Ковригин. Караваев. «Польское мясо». А вот львов во рву нет. Ров залит шампанским. А у меня с него икота и изжога. Хозяин, видно, у нас непьющий, не знает, что употребляют русские мужики. Как только такие извращенцы зарабатывают миллионы? Его же и в сауны не пригласят для доверительных контактов, и не позовут играть в бильярд при открытом буфете. Хорошо ещё хоть сидр не выставил!
– Ты, Пантюхов, несправедлив. Или невнимателен. Вон там коньяки с арманьками, ликёры из монастырских погребов. А справа от камина стойка именно с русскими напитками. Там принимают заказы от самого Головачёва.
– Ещё бы! Это же генерал Люфтваффе! – обрадовался Пантюхов. – Его вкусы известны всем!
– А пока ты дрых, приносили подносы с раками местного проживания и синежтурское пиво.
– И долго я дрых? – спросил Пантюхов.
– Уже и шелуху от раков убрали…
– Человек! – воскликнул Пантюхов, – и пальцы поднятой им руки защелкали удивительно громко. Будто кастаньеты.
– Есть пожелания? – сейчас же возник вблизи Пантюхова ловкий человек, вовсе не похожий на вчерашнего гарсона-консультанта из «Лягушек» Дантона-Гарика. Но, возможно, тоже Гарик.
– Чтобы было всё, как у нашего генерала Люфтваффе! – трубным голосом пожелал Пантюхов. – Кстати, этот генерал у меня в подчинении. Военная тайна. Но я вам её открываю.
– Слушаюсь! – и каблуки ловкого человека произвели звуки служебного понимания.
Очень быстро Ковригину стали прозрачны характер и сюжеты дружеской беседы. Видимо, в словах хозяина, предварявших застолье и брожение званных по просторам зала, было высказано пожелание спектакль не обсуждать и не оценивать тостами. То есть посчитать сегодняшний спектакль как бы рутинным и проходным. Или промежуточным. И всё. И хватит. Комплиментами же, особенно в стилистике кавказских восхвалений, не заниматься. Это и не корректно в присутствии московских профессионалов. Да и сглазить можно обещанные гастроли, и остудить горячее будто бы пока одобрение работы синежтурских служителей Мельпомены. Предположения Ковригина были подтверждены Свиридовой.
Да, так и было. И было сказано: веселитесь, развлекайтесь, общайтесь по интересам. И хорошо бы без сценического драматизма и швыряния трагиками любовников в оркестровую яму. Забудьте про театр, вы здесь – в буфете. Со скатертью-самобранкой и возможностью любую жажду утолить и ублажить любое чрево. Заказывайте, не стесняйтесь. Все пожелания будут исполнены.
А Пантюхов утонул в шампанском и продрых до тех пор, пока не вернулся с прогулки Ковригин.
– Ну уж и не совсем продрых, – сказал Пантюхов, отламывая клешню рака. – А кое-что и видел. Вот, скажем, Караваев, тебя то и дело пытались обнаружить две девицы, барышни-крестьянки из крепостного театра, глазищами зыркали, вызывая недовольство милейшей по сути своей Натальи Борисовны, а тут будто бы стервы ревнивой…
Ковригин словно бы получил разрешение узнать, откуда на него зыркали, но увидел лишь дебютантку Древеснову, та, заметив его интерес, аж подпрыгнула и сдула с ладошки, посчитаем, воздушный поцелуй.
– Мыльный пузырь из жестов Монро, – сказала Свиридова. – А ты, Сашенька, не туда смотришь. Ты ищешь красный бархат, а на ней уже голубой маркизет… Стало быть, ты не до такой степени одурел, раз не способен и затылком почувствовать, где и с кем увлекшая тебя женщина. И это меня радует…
«Почувствовал, – подумал Ковригин, – почувствовал! И надо сейчас же отправиться к ней!»
Но Натали опустила ладонь на руку Ковригина и словно бы наложила на неё оковы.
– Посиди, посиди, – нежной и мудрой подругой (или даже опекуншей) произнесла Свиридова. – А ты, Пантюхов, ведёшь себя чрезвычайно неучтиво. Где твой трагик Сутырин? Валяется, небось, где-нибудь. Головачёв и тот сидит замороженный. Но он пока ещё в точке возврата. Губы облизывает. А тебя, Пантюхов, несомненно, сбросят в ров.
– Может, и сбросят, – согласился Пантюхов. – Но прежде одарят Аленьким цветочком.
– Каким ещё Аленьким цветочком? – насторожилась Свиридова.
– Все тут только и ждут, что каждого из них одарят Аленьким цветочком. А может, кого и Аленьким цветком. Я же предпочёл бы, чтобы меня определили почивать в дамские покои Синей Бороды. Или хотя бы под бок к тебе.
– Ты дряхл, как пророк Мельхисидек! – сказала Свиридова.
– Вот бы и проверили, – сказал Пантюхов. – Кстати, а какая тебе отведена опочивальня?
– Где-то в Северо-восточной башне. Проездной. А тебе-то что?
– А ты знаешь, символом чего признавалась замковая башня, в особенности если в ней имелся проезд во двор?
– Что-то, Пантюхов, прежде образованность твоя совсем не давала о себе знать.
– Это оттого, что вы – недалёкие и высокомерные существа и добродетели в иных людях разглядеть не умеете, – глаза Пантюхова стали хитрющими. Впрочем, он вызывал сейчас у Ковригина мысли и о Собакевиче. А Пантюхов продолжил: – Где-то в южной Франции или в Баварии, скорее в Баварии, после пивного праздника, а потому и помню всё в светло-коричневых тонах, завезли нас, гастролёров, в какой-то замок на горе и там приобщили к знанию. Так вот, по средневековой символике замок с башней, тем более укреплённый, отождествлялся с телом женщины, которую любовник должен уметь взять приступом. А проем для ворот башни соответственно с…
Тут просветитель будто бы застеснялся публичного неприличия и стал шептать Свиридовой на ушко.
– Чего? Чего? – поморщилась Свиридова.
– А того самого! – глухость к наукам Свиридовой вызвала раздражение Пантюхова. – С женским половым органом. Или тебе его как-нибудь по-иному назвать? Я могу. Успокойся. Та женщина-замок, ещё и гарнизоном охраняемая, предполагалась чистой и девственной. Так что, без всяких пошлостей. И зря ты мне грозишь рвом. Ров, кстати, наполненный водой, мог намекать о фригидности прекрасной дамы. Хотя Даная, запертая в золотой башне со рвом, понесла от Юпитера. Но Юпитер был тот ещё умелец!
– Пантюхов, пошёл бы ты!.. Отсядь от нас за другой стол! И подальше!
– Как же! Сейчас! – Пантюхов локтями раздвинул посуду с яствами и утвердил себя за столом пожизненно. – Не одни вы, Наталья Борисовна, украшаете собой академическую сцену. А наш театр ещё и Императорский!
– Я-то полагал, – произнёс Ковригин, желая вызвать эстетические примирения деятелей искусства, – что башни издревле символизируют общение человека с божеством и космосом и его стремление к бесконечности.
– Это те, которые без проёмов внизу, – заявил Пантюхов. – Это те, которые с шатром или хотя бы с колпаком наверху. Эти – да! Эти точно стремятся и общаются. В них мужское начало и завершение. Мне как раз ночлег обещан в Западной башне с колпаком. А вам-то, Караваев, ну ладно, Ковригин, Ковригин, Наташка, уста расчудесные заклей, небось, койку с альковом предложат рядом с бабами. Вы сегодня отличник. Только что вы к нашему столу прибились? Вас ждут за другими столами.
– Ба! Пантюгрюэль! Ты здесь!
– Я здесь! – обрадовал Пантюхов подошедшего к столу коллегу по чёсу Сутырина. – Я повсюду! Я – стихия воды! Я – Океан!
– Сутырин! Пётр Николаевич! – Свиридова руки свои в браслетах с камнями прижала к груди. – Умоляю, уведи отсюда этого скабрезу и сексопатолога. В твоё отсутствие он решил поменять амплуа, вообразил себя трагиком и первым любовником.
– Комику рядиться в трагики, – значительно произнёс Сутырин, – нехорошо. Негоже!
Пантюхов оглядел Сутырина. Заметил:
– Трагик, а ты сейчас будто мокрый кур.
– Плавал. Пребывал в твоей стихии. Она пока тёплая. – Ты же не умеешь плавать! – удивился Пантюхов. – А впрочем, зачем тебе уметь-то? И где же ты сподобился вымокнуть?
– Ближе к реке. В бассейне под Тритоном. Взяли с Головачёвым банку шпрот, вилки и бутыль «Флагмана». Шпроты и бутыль на мраморном бордюре. Мы – к ним из воды. Чокались с Тритоном. Будто в Сандунах. Будто с корифеями.
– Головачёв здесь.
– Где?
– Вон там! Только что спал. Голову надменно вскинув. Профиль, любимый народом, устремив к нервюрам сводов.
– Мало ли где он спал, – сказал Сутырин. – Делов-то! А сейчас он под Тритоном угощает золотых рыбок.
– Негодяй! А прикидывался спящим! – воскликнул Пантюхов. – Пошли. Набирай шпрот и бутыли! И пошли!
– Трагику негоже носить поклажу, – печально произнес Сутырин. – Это удел комиков.
– Ладно! Ладно! – заспешил Пантюхов. – А ты, Караваев, не пиши ей больше сонетов. Не тревожь мой стыдливый уд! Это я в продолжение разговора с Натальей Борисовной о замках и башнях. Кстати, Натали, если без нас будут раздавать Аленькие цветки, получи и наши.
– Вот шалопаи! – рассмеялась Свиридова.
– Все гастроли так колобродили? – спросил Ковригин.
– В дни спектаклей, а их по два в день, были как примерные школьники. Очкарики. Но вот чёс закончился, и удачно, расслабились…
– Понятно, – сказал Ковригин на всякий случай, о чём говорить со Свиридовой далее, он не знал, да и следовало сейчас же перейти в желаемое место Рыцарского зала, откуда на него то и дело искательно взглядывали.
– Расскажи, Сашенька, – вишнёвые глаза Натали стали влекущими глазами женщины, умилённой встречей с давним другом, обожаемым некогда, но и виноватым перед нею (впрочем, вину эту она готова была теперь же ему простить), – расскажи, как ты жил без меня…
«Вот тебе раз! – удивился Ковригин. – А вдруг на неё снизошло некое искреннее чувство? Или хотя бы желание? Не хватало ещё…»
– Интересно жил, – сказал Ковригин. – И так, и эдак. Но интересно…
– А по мне не скучал? Небось и не вспоминал обо мне?
– Отчего же не вспоминал? – обрадовался Ковригин. – Совсем недавно вспоминал, с племянницей твоей именно о тебе вёл беседу…
– С какой такой племянницей? – озаботилась Свиридова.
– Фамилию не знаю, а звалась она Ириной. Или Ирэной. Дизайнерша вроде бы…
Свиридовой будто бы было предложено упражнение с иксами и игреками из задачника для шестого класса, напряжение мыслей исказило её ухоженный лоб, но тут Свиридовой полегчало.
– Ирка, что ли? – воскликнула она. – Если она мне и племянница, то на каком-нибудь барбарисовом киселе! Она и на тебя успела выйти! Вот наглая девка!
– Обещает всех порвать, – сказал Ковригин.
– И порвёт всех! У неё пятки уже подбиты подковами и в душе – когти! – заявила Натали. – Хотя всех порвать ей не удастся. Сейчас таких, умеющих порвать, много. Новая порода. И рвут. Вот и в синежтурском театре подобные им подросли. Я почувствовала. Так что, не обольщайся.
– Всяческих уроков жизни я получил достаточно, – сказал Ковригин.
– Мы с тобой, Сашенька, были иными… Карьерные подлости казались нам отвратительными. Наши помыслы были чистыми и возвышенными… Какие сонеты ты мне… То есть извини… И прости, что я невнимательно прочитала тогда твою пьесу. Может, это главная ошибка моей жизни. И её уже не исправишь…
Рука Свиридовой опустилась на голову Ковригина, и он удивился тому, что не стряхнул её руку («не стряхнул» – явилось именно такое словечко Ковригину), не выразил ни малейшего неприятия нежности женщины, напротив, он будто бы сам ощутил нежность к бывшей своей Прекрасной даме, и ощутил жалость и к ней, и к себе. Натали, Наташка из Щепки, смотрела на него влюблёнными влажными глазами и, похоже, ждала от Ковригина возражений своим словам: «И её уже не исправишь…». Ну ладно, и исправлять, скажем, что-либо необязательно, а стоит вступить в Новую реку, такую же полнострастную, но разумно-несуетную, как и та, что шествовала к морям и океанам южнее Журинского дворца? Это было бы безрассудством, подумал Ковригин, но сколько раз он поддавался в жизни безрассудствам, о каких позже уговаривал себя не жалеть…
– Я всё же встаю перед вами на колени! И перед вами, великая Наталья Борисовна! И перед вами, мой благодетель Александр Андреевич!
Вставшая, вернее, опустившаяся или даже рухнувшая на колени перед Свиридовой и Ковригиным была дебютантка Древеснова.
Свиридова вынуждена была убрать руку с бестолковой головушки Ковригина, она чуть ли не отдёрнула её в растерянности, будто их с кавалером застали в мгновения амурных возбуждений. Безрассудство же, почти одолевшее Ковригина, сейчас же испустило дух. «Хоть на что-то оказалась полезной эта Древеснова!» – подумал Ковригин.
– Отчего вы называете меня благодетелем, милая девушка? – великодушным барином поинтересовался Ковригин.
– Ну как же, Александр Андреевич! – воодушевилась Древеснова. – Вы – моя фортуна! Ведь это вы сделали ставку именно на меня. И в спектакль меня ввели при вашем содействии. Это знают все.
– Вы находитесь в заблуждении, – покачал головой Ковригин.
– Все только говорят об этом, – стояла на своём Древеснова.
– Значит, и все находятся в заблуждении, – сказал Ковригин. – Я не в состоянии устраивать чьи-либо судьбы.
– А ты, Сашенька, всё такой же шустрый! – попыталась улыбнуться Свиридова. Но улыбка её вышла кривовато-хмурой. Подлёт Древесновой явно вызвал у неё досаду. – Да, Сашенька, ты всего-то несколько дней в Синежтуре, а успел наделать делов. А вы, барышня, всё же напрасно изволили опускаться передо мной на колени. Или вы забыли о нашем разговоре в машине? Перед вашим благодетелем хоть часы проводите на коленях, тем более они у вас крепкие, а передо мной не надо.
Древеснова чуть ли не подскочила, чуть ли не взлетела к высотам Рыцарского зала.
– Наталья Борисовна, извините! Я не хотела обеспокоить вас или вызвать ваше раздражение. Я искренне… Я простая… Вы для меня – на Юпитере… И вы, Александр Андреевич, для меня… Я даже не знаю… Как вы догадались, как вы смогли угадать меня… Теперь, конечно, болтают Бог весть что, но я не такая… Я вам обязана чисто воздушно… Но мне нужно высказать вам…
Ковригин был намерен поинтересоваться, любит ли Древеснова играть в шахматы и какие предпочитает болота, но вблизи их со Свиридовой расположения возник известный театролюб Борис Провыч Попихин, изящно помахивавший популярной в комедиантских кругах шляпой со страусиным пером.
– Замечательные дамы! – заявил он. – По крайней необходимости вынужден на пару минут забрать из вашего невода Ковригина Александра Андреевича с обещанием его немедленно вам вернуть.
– Ну, спасибо, Боря, – шепнул Ковригин, – что ты меня от них отлепил…
Отошли к стражнику в сверкающих доспехах с алебардой в металлической лапе. Пусты были доспехи, или в них был упакован служивый человек, из-за задраенного забрала, понять не удалось. Во всяком случае ни вздохов, ни покашливаний Ковригин не услышал.
– Удивил ты меня, Саша! Удивил и порадовал! – сказал Попихин. – И я считаю своим долгом предупредить тебя. Блинов Юлий Валентинович, нам известный, уже убыл в Москву. Прямо с фуршета ринулся в аэропорт.
– И что? – спросил Ковригин.
– Вот тебе раз! – удивился простоте собеседника Попихин. – Он же завтра с утра будет на Большой Бронной в Авторском Обществе! Пьесой «Маринкина башня» заинтересовалось не менее двух десятков театров, кому как не мне знать об этом. Киношник Шестовский здесь крутился, он готов купить у Блинова права на костюмный сериал…
– Кстати, а отчего здесь нет Шестовского?
– Вычеркнут из списка Острецовым, – с удовольствием сообщил Попихин, – слишком усердно кокетничал с одной из местных актрис и прельщал её заманными посулами. Это, понятно, между нами…
– Но что может предъявить Блинов на Большой Бронной? – поинтересовался Ковригин.
– Ну, ты и беспечный человек, Александр Андреевич! – воскликнул Попихин. – Блинов уже оценил и использовал твою беспечность. Он сам проныра и пройдоха, а теперь ещё тактику и стратегию ему разработал наш с тобой добрейший коллега Гоша Холодцов, вон он стоит со стаканом «Хеннеси» в руке и улыбается нам…
И Попихин сейчас же отправил ответную улыбку в сторону Гоши Холодцова, коллеги, впрочем, представляющего журнал иного, нежели издание Попихина, направления. Хотя какие такие могут быть у нынешних журналов особенные направления?
– Ему-то что за корысть? – спросил Ковригин.
– Не знаю. Не знаю. И судить не смею, – будто на вопрос обвинителя свидетелем, приняв присягу, отвечал Попихин. – Не имею оснований подозревать в чём-либо дурном. Может, копеечка какая обещана за комиссию. У Холодцова связи, сами знаете… Так вот, явится завтра Блинов на Бронную, рукопись пьесы представит, им и его чернилами некогда исполненную, машинописный вариант с его требовательной правкой, свидетельства театральных личностей о том, как он, Блинов, мучался над драмой и как обсуждал с ними каждую фразу. Ну, и на всякий случай покажет заявление некоего однокурсника Ковригина А. А., подтверждающего своё участие в студенческой мистификации, то есть в том, что он уважил просьбу Блинова Ю. В. объявить сочинение именно Блинова Ю. В. своим. Ну, а дальше пойдёт… Не с одними лишь тюльпанами и шоколадками Блинов, полагаю, явится на Бронную. И звонки с подсказками тут же прозвучат. И будет Юлий Валентинович узаконен автором пьесы. А потом он ещё подаст на тебя в суд с требованием возместить моральный ущерб. И присудят тебе возмещение, и что хуже всего, наградят тебя клеймом плагиатора…
– Но ведь Свиридова подтвердила моё авторство… – растерялся Ковригин.
– Что стоят застольные слова какой-то бабы, пусть и звезды! – рассмеялся Попихин.
Хмелёва метрах в двадцати от них танцевала под шпалерой с Диано-Луной и Орионом, исцелённым от слепоты Солнцем, явно имевшей образцом пейзаж Пуссена, и танец её был, похоже, импровизацией, пластическим этюдом. Он же, Ковригин, был вынужден вести совершенно необязательный разговор о кознях и авантюрах шустрилы Блинова.
– А-а! – махнул рукой Ковригин. – Что поделаешь! Потом что-нибудь придумаю. Всё равно я уже не могу опередить Блинова. У меня ещё есть дела в Синежтуре. Сейчас вот придётся тебя покинуть…
– Какой ты беспечный человек, Александр Андреевич, – опечалился Попихин. – Так нельзя. И всё же моя совесть чиста, я тебя предупредил…
– Спасибо, – быстро сказал Ковригин. – Искренне благодарен тебе за предупреждение.
26
И поспешил к временной шпалере с Дианой и Орионом в пуссеновском лесу, изрезанном ручьями. Вовсе не в маркизете была теперь бывшая гордая полячка, а в джинсах с поясом на бёдрах и плотной тельняшке, ясно, что не из бумазеи, но как бы со следами-дырами от злодейских пуль или ножей и в пиратской бандане с черным черепом. Танец же её издалека вызывал мысли и о пиратке, и о расшалившейся работнице Севильской табачной фабрики, крепостные же (в смысле – замковые) музыканты (гитары, скрипки, бубен и клавесин) играли нечто выплетенное из мелодий Бизе и Адана. Партнер Хмелёвой, предположительно – из корсаров и тореро, был высок, жесток и прыгуч. Пиратско-севильский танец в Рыцарском зале замка типа Блуа мог показаться неуместным и даже недопустимо-бестактным, но Ковригин вспомнил слова о бутафорском (пока!) убранстве гостевых помещений дворца, реквизитно-дешёвой мебели и о том, что большинство из призванных осуществляют себя в декорациях и реквизите, а потому все недоумения и эстетические претензии Ковригина были отменены. А главное – танцовшица была хороша, могла лишь украсить любой интерьер, оправдать любой наряд и любое несоответствие ходу и сути событий, подчинить их себе и вызвать восторженно-влюблённое отношение к своей натуре. Глаза её светились если не от счастья, то хотя бы от удовольствий и подарков судьбы и уверенности в том, что всё с ней сложится прекрасно и что она и теперь хозяйка жизни.
Ковригин вспомнил хрупкую, дрожащую, шмыгающую носом девчонку на полу прохода в автобусе и отчаяние в её словах: «Я не могу… Я не выдержу этого… Всё…» И заробел. Ноги его вмёрзли в пол.
Однако получилось так, что ему и не позволили бы пройти метров десять к шпалере с Дианой и Орионом. Сначала к нему подскочили двое, желавших выразить свои взбаламученные мысли. Потом к ним добавился третий.
Один из них, постановщик спектакля Жемякин, был Ковригину приятен, второй, гнусненький на вид господин лет пятидесяти, вызвал у него чувство брезгливости. С Жемякиным Ковригину было о чём потолковать, но тот нервничал, мямлил что-то, бородку теребил, а гнусненький, напротив, был нагл и Жемякина оттеснял, чуть ли не отталкивал плечом. Лицо у него было мясистое, волосы внутреннего зачеса жидко прикрывали плешь, он улыбался угодливо, губы то и дело облизывал и, будто бы держа шляпу или котелок у живота, пальцами перебирал её поля.
– Я Цибульский, Виссарион Трофимович, Цибульский, – повторял он. – В паспорте у меня значится Цибуля-Бульский, но это описка пьяной паспортистки… Я Цибульский… Очень рад и благодарен…
– У вас ко мне дело? – спросил Ковригин.
– Нет! Что вы! Какое у меня может быть к вам дело! Я снабженец и устный информатор, моё место на кухне. Просто я хотел объявить вам, что я Цибульский, а не Цибуля-Бульский, как многие склонны меня называть. И мне будет радостно сознавать, что вы теперь знаете, что я не Цибуля-Бульский, а Цибульский, Виссарион…
– А уж мне-то как радостно будет теперь знать, что вы Цибульский, – сказал Ковригин. И тут же обратился к Жемякину: – Дорогой Василий Наумович, извините, что в этих шумах никак не мог добраться до вас. А ведь так много хочется сказать вам…
– И мне! – обрадовался Жемякин. Но приложил палец к губам: – Сегодня договорились – ни слова о спектакле. Из суеверия. А вот завтра… Вы завтра не уезжаете? Буду ждать вас в театре. Или к вам пожалую в гостиницу, если пригласите…
Тотчас и Жемякин, и Цибульский были отодвинуты от Ковригина сытым театроведом Гошей Холодцовым.
– Саша, – сказал Холодцов, – вот ты тут лясы точили с Попихиным. А Блинов завтра с утра будет на Большой Бронной. А подбил его заполучить права на пьесу этот навуходоносор Попихин. Всю программу действий разработал Блинову Попихин. Вот вам, пожалуйста, и тити с Митей.
– Откуда ведомо об этом? – спросил Ковригин.
– Блинов успел рассказать…
– Зачем Попихину подбивать Блинова на действие авантюрное?
– Не знаю! Не знаю! – развздыхался Гоша, при этом как бы давая понять, что он-то знает – зачем, но огорчать Ковригина истинным знанием из жалости не станет. – Вот уж не знаю! А ведь живём мы с Попихиным душа в душу, он – замечательный человек, хотя и засранец, каких мало, и «Божественную комедию» Данте Алигьери ни разу не открывал. А Суслова М. А. считает стилистом номер два.
– И что у Попихина за корысть? – задумался Ковригин.
– Какая тут корысть! – Холодцов руки вскинул к небесам. – Попихин – святой человек! По чистоте души он ведь, как грудной ребёнок. Ему бы только молока от ласкового соска. И всё. И вся корысть! Ну, конечно, если этот жулик Блинов станет отваливать ему проценты от будущих сборов, из вежливости придётся их брать. Всё это между нами, просто я не мог тебя не предупредить…
– Спасибо, спасибо, – сказал Ковригин, – естественно, между нами…
– А ты, старик, всех удивил… Если, конечно, текст твой… Говорят, ты теперь ковыряешь драму про Софью Алексеевну, сестрицу великого Петра…
– Не ковыряю. Не пишу более никаких пьес, – сказал Ковригин.
– Так тебе и поверили! А надо бы теперь тебе предъявить публике новую пьесу, чтобы снять сомнения по поводу твоих драматургических способностей.
– Ко всему прочему, – сказал Ковригин, – не вижу актрису, способную сыграть Софью, какой я её себе представляю…
– Ну, этого-то добра, – хмыкнул Холодцов, – в любой провинции намести можно полную мусорную тележку. Без подтяжек и силиконовых грудей. Только кликни. Вон ты здешнюю Ярославцеву вблизи не рассмотрел? Рассмотри. Чем не Софья? Наливная, с румянцем, бровь соболиная. Ну да, для тебя-то её другая затмила. Но той не до Софьи Алексеевны, она на цепи. Или тебе Древеснова приглянулась? Слышал, слышал… Тоже девица в соку, бурная и с амбициями…
– Да не собираюсь я писать никаких пьес ни про каких Софий! – в раздражении воскликнул Ковригин. Но уловив в глазах собеседника ехидство, пожелал успокоиться, сказал: – А ты, Гоша, чуткий наблюдатель, мне бы и в голову не пришли соображения, высказанные тобой.
– Просто я хорошо знаю мир актёрок и их повадки, – великодушно разъяснил Холодцов. – А ты ко всему прочему из-за успеха… неожиданного… уже и не очевидец, и не созерцатель, а успехом этим пришибленный или, напротив, надутый им, как дирижабль, и с высот своих запамятовал, что за существа есть бабы. Впрочем, и мужики не лучше. Ты хоть про Блинова и этого засранца Попихина не забудь.
– Не забуду, – кисло пообещал Ковригин.
Между тем вялое брожение в Рыцарском зале умов и утроб, будто бы уже удовлетворённых беседами и накормленных, сменилось оживлением. И даже оркестры у боковых стен зала, крепостной и с ночных танцполов, заиграли громче, разумно-подобающе к случаю.
Произведя дела, неотложно-отраслевых, а может, и государственных значений, к гостям вернулся Мстислав Фёдорович Острецов.
Извинился, с бокалом, видимо, всё же шампанского, принялся обходить стайки гостей, по необходимости выслушивать мнения и наверняка комплименты, пригубливать напиток, в общем – соблюдать этикет, причём скорее корпоративный, нежели придворный. Гоша Холодцов напрасно укорял Ковригина в сегодняшней якобы неспособности быть объективным наблюдателем. Всё Ковригин видел. Кое-чему и удивлялся. Скажем, отчего гости, будто бы от Острецова не зависящие, и даже столичные огурцы из комиссий перед ним заискивали. Попихин с Гошей Холодцовым сразу же стали распушенными крыльями чиновницы Половодьевой и волоклись с ней по этапам хозяйского маршрута соблюдения приличий. Но при Острецове была и своя свита, трое или четверо кравчих, последним в их охвостье суетился Виссарион Цибуля-Бульский, желавший существовать Цибульским. На Цибульского то и дело сваливались указания кравчих, и он, сгибаясь половым в трактире, углатывал указания, а то и что-то записывал в блокнотике или же подтаскивал к временным собеседниками Острецова на подносе напитки или яства. «Не тот стиль! Не тот стиль! – сокрушался Ковригин. – Неужели Острецов забывает, что приём происходит в замке, а не в шинке. Или ему и такую шваль держать при себе приятно?..» Но одно Острецову было нынче явно неприятно. Деликатно-вежливое выражение его лица изменялось, как только он взглядывал в сторону актрисы Хмелёвой. Оно становилось хмурым. А приглашённая в замок актриса Хмелёва веселилась, кокетничала с окружением, выглядела, пожалуй, излишне возбуждённой, возможно, по причине снятия автобусных ознобов горячительными влагами.
«Нет, подходить я к ней не стану, – решил Ковригин. – Одобрение своё я ей высказал. И хватит. Остальное – блажь. Не хватало ещё попасть под чьи-то чары!» Последнее соображение показалось Ковригину чересчур пафосным и взятым у кого-то из девятнадцатого века. Не у героев ли Гофмана? Попасть под чары!
Мокрые, но весёлые прошли мимо Ковригина Пантюхов с Сутыриным, видимо, возвращались к червонной звезде чёса – Натали Свиридовой. Но вблизи Ковригина остановились.
– Зря ты, Караваев, не пошел с нами, – заявил Панюхов.
– Ковригин, – поправил Пантюхова трагик.
– Ну, пусть Ковригин! – Пантюхов стряхнул с черных кудрей воду. – Да хоть бы и Батонов. Или даже Плюшкин. Всё одно – из отдела хлебо-булочных изделий. Зря ты не пошёл с нами в бассейны. Вода в них подогрета. И зря ты пялишься на… Нам известно, на кого! Ты тут нищий студент, он же резонёр Петя Мерлузов в имении барина Великатова.
– Пантюгрюэль, – возложил руку на плечо Пантюхова Сутырин, – ты рисуешь неведомые миру картины!
– И уж тем более тебе, Ковригин, не стоит волновать нежнейшей души Наташеньку Свиридову. Мне бы твои годы… И я бы писал сонеты… – то ли капля с волос потекла по щеке Пантюхова, то ли из левого глаза артиста была исторгнута чувственная слеза, но сейчас же элегическое состояние Пантюхова было отменено: – И мой тебе совет, Ковригин, побереги себя этой ночью. Задрай дверь своего гостевого пристанища и не вздумай открывать окна. Разведка донесла – к утру рассвирепеют привидения.
– Понятно, – сказал Ковригин, – раз замок, то как же без привидений? Но откуда известно, что они рассвирепеют?
– Не имею права открыть это, ваше превосходительство! – вытянулся перед Ковригиным Пантюхов и большой палец приставил к виску. – Но вам открою.
И он зашептал на ухо Ковригину:
– Нас вербовали.
– То есть?
– А то и есть! За мзду, и отнюдь не бюджетную, вербовали сыграть кое-каких привидений. Это нас-то, с императорских подмостков?
– И что же вы? – спросил Ковригин. – Мзда-то небось весь ваш чёс перекроет!
– Да хоть бы в сто раз перекрыла! – взревел Пантюхов. – Это, может, наш генерал Люфтваффе Головачев согласился. Ему бы только свою рожу в задумчивости предъявлять крупным планом. Он, может, сейчас форму примеряет от Пол Пота. Или щёлкает зубами Дракулы. Ночью залетит к тебе в форточку, а ты, Ковригин, не дрейфь, заготовь для него стакан томатного сока. А впрочем, может, он и утонул… Ты не видел, Сутырин? – Не видел, – сказал Сутырин. – Он нырнул за шпротой, а мы уже уходили…
– Мы же с Сутыриным отказались. Шиш вам! Я заявил: «Не хочу играть в крепостном театре!».
– Какой же здесь крепостной театр? – возразил Ковригин.
– Крепостной театр и есть! – воскликнул Пантюхов. – И Параша Жемчугова подобрана!
Ковригин не мог не заметить, что при вскриках Пантюхова господин Острецов (ну, и люди при нём) взглядывал с явной укоризной на пылкого говоруна, будто бы и не комика, а смутьяна и расстригу.
– Пантюгрюеша, – в некоем смущении, но и ласково произнёс Сутырин, – всё ты смешал в кучу – и Дракулу, и готические привидения, и аленькие цветы, и Александра Николаевича Островского. Тут жанровые и смысловые несовпадения.
– С детства мечтал сыграть Варлаама, – вздохнул притихший Пантюхов, – а мне всучили роль Мисаила! Ковригин, почему в твоей пьесе нет Варлаама?
– Пушкин обокрал, – сказал Ковригин. – Сукин сын. А потом и Мусоргский.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































