Текст книги "Лягушки"
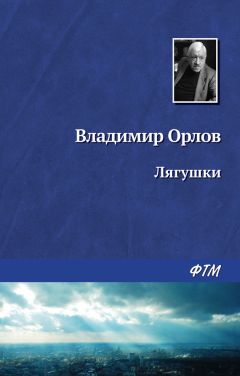
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 50 страниц)
56
Выйдя из юрты, Ковригин понял сразу, что он в Аягузе. То есть не в самом Аягузе, а на рыжем всхолмье к югу от Аягуза.
Аягуз же стоял и дымил километрах в пяти от брошенной хозяевами юрты. Стало быть, доставлен был Ковригин сюда вовсе не на скором поезде Уренгой – Алма-Ата, проходившем ночью мимо Среднего Синежтура. Да и поезд этот наверняка ещё плёлся где-нибудь по дороге к Омску и не свернул пока на рельсы Турксиба. Занесло его, Ковригина, в окрестности Аягуза воздушным путём. Сам напросился. Назвал бы себя проезжим на остров Родос, грелся бы сейчас на родосском пляже. А его раскрутили на мраморном столе восточной бани и отправили в Аягуз. Не совал бы, дядя, нос, получил бы в дар поднос! Впрочем, и поднос можно было при надобности превратить в поднос-самолёт, экая трудность для обозостроителей, и отправить на нём несуразную личность от грехов подальше.
Ковригин ничего бы не имел против Аягуза и не печалился бы, если бы при нём были документы, деньги и средство связи, а то ведь все его вещи остались в Синежтуре, иные – в гостинице, иные (наиболее близкие к телу) – в предбаннике ресторана «Лягушки». Кто-то ещё, возможно, пожалел его, высадил на землю рядом с якобы брошенной юртой (или подогнал к нему юрту), в ней Ковригин смог на время приодеться, лучшим приобретением для него стали ношеный узбекский халат с кушаком и ватные сапоги с калошами. Был найден также войлочный, белый некогда, колпак киргизкайсацких кочевников. Одеть его Ковригин отчего-то не захотел, сунул на всякий случай за кушак халата. Произошла и довольно странная находка – две толстые школьные тетради в клеточку без единой, всё равно на каком языке, записи в них. Из жадности литератора к чистой бумаге Ковригин прихватил тетради и их упрятал под кушак. А вот каких-либо письменных принадлежностей обнаружить не удалось.
Вокруг была степь, а по наличию в ней населения – голая Пустыня. В километре ближе к городу и станции на желтой земле стоял верблюд, но общаться с верблюдами Ковригин не умел.
Можно было, конечно, остаться в юрте на день, на два в надежде на появление её хозяев или подобраться к верблюду и там поджидать подхода людей, но толку из этого вышло бы мало. В любом случае потребовались бы деньги для того, чтобы связаться с Москвой, с Дувакиным, скажем, или с Антониной. Даже если бы удалось договориться о передачи весточки близким людям с кем-нибудь из проводников московских поездов, и тогда без денег не обошлось бы. Следовало их заработать. Но как? Здешних заграничных правил и нравов Ковригин не знал, и как отнеслись бы власти и простые граждане к человеку без документов, предугадать не мог. Вряд ли бы разложили перед ним красные ковровые дорожки. Скорее всего, засадили бы в кутузку из саманного кирпича в компанию беглых каторжников, а те, на радость Юлику Блинову, его сожрали бы.
Словом, горевал Ковригин, сидя на желтой выгоревшей траве. Хорошо хоть холода в юго-восточном углу казахской страны еще не наступили и не задули свирепые степные ветры. И был Ковригин пока сыт. Но вот жидкостей его организм яростно требовал. А вокруг ничего не журчало. Ковригин знал, что на востоке от Аягуза протекает Иртыш. Вот бы добраться до Иртыша с его дикими брегами, и воды напиться, и устроиться в какую-нибудь артель плотогонов, а с ними сплавиться до Омска. Идиот, сказал себе Ковригин, до Иртыша топать сотни километров, пока ты будешь добираться до реки, она замёрзнет, а ты околеешь. Придётся подыхать здесь. Зато сходил в баню…
– На. Пей! – услышал Ковригин.
Рядом сидел козлоногий мужик со свирелью на левом боку (ремешком придержана) и протягивал Ковригину глиняную баклагу. В баклаге ощутимо булькало, и Ковригин, не задумываясь, отравой ли его угощают или же рыбьим жиром, или даже касторкой, жидкость на потребу организму заглотал.
– Ничего себе! – выдохнул Ковригин. Вино в него влилось отменное. И по тяжести баклаги можно было понять, что влаги в ней не убавилось.
– Не иссякнет. Дионис! – обрадовал Ковригина мужик. – Я – Пан! Врубель! Свирель! Пан! Сейчас будет корм. От Геракла.
«А ведь только что Омск мне приходил на ум! – сообразил Ковригин. – В Омске родился Врубель… Может, под Омском целое поселение Панов со свирелями? Или это наш Пан, Журинский? Главное – „наш“!..»
Никакого панического страха Ковригин не ощущал. Возможно, привык к мужикам со свирелями. А возможно, в мифах козлоногим были приписаны злокозни и забавы, им вовсе не свойственные. В новых жестах козлоногого угадывались доброта и сострадание к напуганному вывертом обстоятельств жизни человеку. На коленях неожиданного спутника Ковригина образовался кожаный мешок (торба? котомка? или праотец «сидора»?), стянутый кожаным же ремешком. Пан-Врубель-Свирель высвободил горловину мешка, достал из него кусок сыра и глиняную миску, под её крышкой и прибыл к Ковригину корм от Геракла. Сыр был несомненно из козьего молока, ну в крайнем случае – из овечьего. Корм же от Геракла являлся кашей.
– Аристофан! – воскликнул Ковригин.
– Аристофан, – кивнул козлоногий, при этом будто бы удивился осведомлённости Ковригина. – Лягушки.
Трапеза была завершена напитком Диониса.
– Благодарю за угощение, – сыто произнёс Ковригин и протянул эллину руку: – Разрешите представиться. Ковригин.
– Как же! Как же! Известно всем! – прозвучало в ответ. – Меня же называйте другом Каллипиги. Но надо идти. И надо спешить!
– Куда? – спросил Ковригин.
Жестом руки командора Ковригину было предложено поспешать в западном направлении. Имея в виду проводником Солнце.
– Там – Эллада! – торжественно сообщил друг Каллипиги. – Она – недалеко!
«Неужели я не в Аягузе?» – растерялся Ковригин. А имелись поводы для сомнений. Аягуз проживал у северных отрогов хребта Тарбагатай чрезвычайно далеко от горы Олимп. Ковригин же провел некогда лишь часов пять в Аягузе. И то проездом. А выходило, что нынче его занесло чуть ли не к границам Греции. Попробуй-ка свяжись отсюда с Дувакиным или Антониной! Ковригин приуныл…
– Это где же тут Эллада? – спросил Ковригин на всякий случай. Интересоваться у друга Каллипиги, достойно и по контракту украшавшей Площадь Каменной Бабы в Синежтуре, отчего он вдруг оказался в путешествии вместе с ним, Ковригиным, не было сейчас смысла.
– А там, – махнул рукой спутник, – за горами… Жаркент… Там на рынке – грецкие орехи… Там – граница, и дальше Греция…
– Грецкие орехи – это серьёзно, – сказал Ковригин.
Он успокаивался. Значит, они всё же вблизи Аягуза. И если в Аягузе он был проездом, то в Жаркенте-Джаркенте, тогда – городе Панфилове, он провёл в командировке неделю. В Жаркенте, южней Джунгарских ворот, климат был теплее, созревал виноград, годный для напитков Диониса, а на базаре Ковригин действительно покупал грецкие орехи, вроде бы в окрестностях Жаркента зеленели ореховые рощи. И граница имелась. Но только не с Грецией. А с Китаем. И жили за границей не греки, а китайцы и уйгуры.
Высказывать вслух соображения по поводу китайцев Ковригин не стал. К чему расстраивать путника, направившегося в Элладу? А может, путник этот прекрасно знал географию южного Прииртышья, но по какой-то неведомой Ковригину причине ему обязательно следовало побывать в Жаркенте и закупить на восточном базаре грецких орехов. Жаркент так Жаркент, рассудил Ковригин. Тем более что там могли обнаружиться знакомые ему по памятной командировке люди, способные спонсировать его звонок в Москву. То есть для начала – хотя бы способные признать его человеком, достойным уважения, а не каким-либо мошенником или самозванцем… Однако… Ковригину вспомнились недавние слова друга Каллипиги: «И надо спешить!» А до Жаркента поболее сотни километров! Для скорохода со свирелью на боку – это и впрямь недалеко. Он и на полёты горазд, в этом Ковригин смог убедиться при взглядах на небо сквозь стекла иллюминатора в часы побега из Синежтура Елены Михайловны Хмелёвой. Но случался ли тот побег? Случался…
– Боюсь, что я, как спутник и пешеход, – сказал Ковригин, – очень быстро стану вам в тягость…
– Я приноровлюсь к вашему шагу, – сказал друг Каллипиги. – И уж, конечно, погонять вас не буду… Но идти надо… Ведь вы нуждаетесь в телефонном звонке…
– Нуждаюсь… – согласился Ковригин. – Но вдруг я услышу в трубке: «Пошёл в термы!»…
– Я вас не понял, – сказал эллин.
– Ну да, термы – это в Риме… – пробормотал Ковригин. – Нет, я произнёс нечто несущественное… Или нелепое… Надо промочить горло.
– Это справедливо! – было сказано. И в руках торопящегося в Жаркент тотчас появилась глиняная баклага и желтоватые куски сыра. Или брынзы.
Отпили вина, иного на этот раз аромата (и купажа?), укрепили силы терпким, солоноватым сыром. «А вот каша от Геракла не была сейчас предложена, – отметил Ковригин. – Чуткое существо этот друг Каллипиги, деликатное…» Однако, судя по прикосновению солнца к холмам на западном окаёме местности, могло стемнеть. А Ковригин знал, как быстро опускается и густеет в здешних краях вечерняя темнота. Именно опускается и вроде как под куполом угрюмого парашюта. Северянин Ковригин, судьбой определенный проживать в часе лёта от белых ночей, журналистскими наездами бывал, а то жил и в полуденных краях. И в них – и в предгорьях Семиречья, в частности, и в шумной, подсвеченной бывшими столичными огнями Алма-Ате в минуты заката не раз испытывал чуть ли не приступы тоски и одиночества. Затосковал он и теперь. Никакой потребности плестись куда-то в нём не возникло, не было ни сил, ни желания. Никому он не был нужен, никто его не любил («Паниковский…» – лениво шевельнулось в Ковригине и притихло). Ладно – «не нужен», «никто не любил», важнее было другое – самому ему, Ковригину, всё было сейчас безразлично, какие-либо интересы – к делам ли, к женщине ли, ему единственно необходимой, в нём иссякли. Да и откуда взяться такой-то женщине? «Положу под голову войлочный колпак, укроюсь чапаном-халатом, – решил Ковригин, – и задрыхну… Змеи? Ну, змеи… Пусть мной и займутся… Самое время!»
– Нужно идти! – над Ковригиным стоял козлоногий мужик. – Надо спешить…
– Ночь… – пробормотал Ковригин и закрыл глаза.
Услышал – спутник его, намеренный пересечь в Джаркенте границу с Грецией, снова уселся рядом.
И сейчас же услышал звуки свирели.
Поначалу Ковригину, в дремотном уже состоянии, почудилось, будто мелодией свирели ему сообщается о том, что кондор пролетел. И будто бы заиграл оркестр Ласта. Но пролетали ли когда-нибудь над Аягузом кондоры?
Мужик словами уже не призывал Ковригина в походы, а играл и играл. Имя Врубеля произнёс он, пожалуй, невпопад. Или с иным, нежели понял Ковригин, смыслом. Врубелевский Пан был в возрасте, широк в плечах и коренаст, а голова его была будто бы покрыта седым мхом. Аягузский же спутник Ковригина, куда уже в кости, бороды не имел вовсе и казался простодушным и доброжелательным. Музыка его свирели (или двойной флейты? Ковригин не смог установить…) уже не напоминала оркестры с ударными группами, она словно бы изливалась нежно-серебристым ручьём и вызывала у Ковригина мысли об ангельском пении.
Ковригин (всё же с ворчанием) поднялся с земли, прихватил войлочный колпак, удивился тому, что на колпаке, так и не ставшем для него подушкой, лежали две никем не исписанные тетради в клеточку, взял и их и пошёл за козлоногим в Жаркент. Вокруг возникли движения и шуршания, поначалу еле слышные, потом всё более ощутимые и очевидные. И явно – разных свойств. Возможно, свирель поспешавшего к базарным рядам с грецкими орехами (левая рука его держала теперь заячий посох) заставила подняться не одного лишь Ковригина, а и всякую степную живность – тушканчиков с сусликами, мелких змей и ящериц, не исключено, что и лягушек, и уж конечно, жуков разных жизненных назначений… Вроде бы и звуки взмахов птичьих крыльев слышал над собой Ковригин. А не побрёл ли за ними и верблюд?.. «Куда я? Куда? – вяло спрашивал себя Ковригин. И отвечал себе: – А не всё ли равно куда? Тебе сказано: надо идти и надо спешить…»
И ангельски звучала свирель, и энергичнее становились движения заячьего посоха…
57
Здесь мне, как рассказчику о некоторых событиях из жизни Александра Андреевича Ковригина, приходится на время стать толкователем случившегося с ним под Аягузом и ведомого его знакомым с чужих слов. Или предполагаемо случившегося.
Александр Андреевич Ковригин пропал. Уже пропала Елена Михайловна Хмелёва. И пока не нашлась. Теперь пропал Ковригин. Хмелёву вроде бы никто уже не разыскивал. Ну, если только Острецов и его люди. Их поиски, коли они продолжались, происходили тихо и как бы втайную… О Ковригине же в Москве зашумели и принялись судачить в интернете о его личности и о его возможных похождениях. Не исключено, что и опасных. Или даже погибельных.
Правда, не сразу.
Поначалу же знакомые Ковригина, а их оказалось в столице множество, отсутствию в городе и в ночных очагах культурных ценностей этого любителя приключений нисколько не удивились. Ну, шляется он где-нибудь в горах Шаолиня, отращивает там бородёнку-верёвочку и учится её философически пощипывать. Или хуже того – заложил барсучью ушанку, на деньги от заклада купил хижину из табачных листьев в Гоа и зарылся рядом с ней в горячий песок нирваны. Или хуже того – влюбился в теннисистку из первой десятки, умеющую громко и со стонами-кряканьями выражать свои мысли на корте, и теперь подметает вымощенные дорожки на её вилле в Майами (а рядом виллы наших звёзд с золотыми, платиновыми и голубыми извергателями звуков, и там нужны подметальщики). При этом никому в голову при рассуждениях о Ковригине не приходили сюжеты о каких-либо дорогих старухах и о подаренных ими Ковригину яхтах или прибрежных башнях любви. Репутация Ковригина не позволяла даже и шутить о каких-либо его корыстных или дурного тона поступках. «Пошляется где-нибудь, покуралесит в своё удовольствие, – решили, – и объявится… Или, может, исландские выбросы задержали его в Брюссельском аэропорту…»
Даже Антонина, уж на что чуткая женщина, поначалу не слишком волновалась. Получила урок жизни в связи с премьерой спектакля в Среднем Синежтуре. Хотя, конечно, и волновалась. И Пётр Дмитриевич Дувакин в ноздре ковырял и будто бы не очень тревожился. Или пытался втемяшить себе: всё будет нормально, и тем оправдывал себя. А это ведь он погнал Ковригина на два дня в Синежтур. Якобы из-за подносов. На самом же деле – неизвестно зачем. «Ничего, – думал теперь Дувакин. – Сашка в крайнем случае вывернется…»
Истинно беспокоилась лишь Натали Свиридова. Именно она-то и отыскала в конце концов Ковригина, взяла его за шиворот и приволокла в Москву.
Но об этом позже…
А прежде возникла потребность в Ковригине. Профессиональная необходимость… Вышел, наконец, номер журнала «Под руку с Клио» с эссе Ковригина о Рубенсе и первой частью «Записок Лобастова». Пьеса «Веселие царицы Московской» в номер всё же не вместилась, но публикация её была обещана в ближайшие недели. Интерес к «Запискам Лобастова» вроде был ожидаем. Хотя в Дувакине и шевелились сомнения: а не приведёт риск с авантюрным сочинением Ковригина к краху журнала? Какой там крах, какой там интерес! Взрыв интереса! Ажиотаж! Инвесторы в восторге! Потребовали выпустить, и немедленно, дополнительный тираж. Да какой! Рекордный по нынешним временам. И этот, рекордный, разлетелся моментально. Дама с кошельками, Быстрякова, снова высказала пожелание встретиться с Ковригиным Александром Андреевичем. А где он, этот шалопай Александр Андреевич? Загулял парнишка! Встречу с Ковригиным Дувакин Быстряковой великодушно пообещал, а от неё услышал, что инвесторы готовы объём следующего номера журнала увеличить и разместить в нём и весь имеющийся текст «Записок», и пьесу «Веселие царицы Московской». «Замечательно… – пробормотал Дувакин. – Замечательно…» Было высказано и условие. Через месяц предоставить инвесторам беловой текст продолжения «Записок» на треть номера. И так из месяца в месяц. Готовы бонусы поощрений. Надо для этого держать Ковригина замурованным и на цепи, держите! Тут из Дувакина изошло испуганное бормотание, разгадать смысл его было затруднительно даже для быстрой разумом Быстряковой, и она промолчала. Помолчав, высказала своё суждение по поводу эссе о Рубенсе, суждение это показалось Дувакину глубоким, а главное, удивило его тем, что деловая дама, видимо, держала в голове всякие тонкости из жизни Рубенса, о которых он, учёный муж Дувакин, узнал впервые из изысканий Ковригина. И тогда Дувакин, перестав быть дипломатом, оплошал и объявил Быстряковой, что Ковригин пропал.
– Как пропал? – воскликнула Быстрякова.
И Дувакин понял, что известие его взволновало и опечалило Быстрякову не только как инвестора и куратора дирижабельного проекта, но и как обыкновенную читательницу. А скорее всего, и просто как женщину. «Однако…» – будто удивился чему-то Дувакин.
– Как пропал? – повторила Быстрякова уже финансово-властно, но с дальними ещё раскатами грома в голосе.
Дувакин вынужден был рассказать о том, что Ковригин приобрёл билет на московский поезд, но в Москве не объявился, и уже две недели о нём ни слуху, ни духу. Ни в Москве, ни в Среднем Синежтуре, куда Ковригин согласился поехать в командировку.
– Командировка была опасной? – спросила Быстрякова.
– Теперь выходит, – вздохнул Дувакин, – что могла оказаться и опасной…
– Так что же вы не сообщили нам! – возмутилась Быстрякова. Допустила и выражения, смягчающие остроту аффектов. Потом произнесла уже не слишком кровожадно: – Вы хоть понимаете, что вам это грозит разрывом контракта и неустойками!
– Не стану оправдываться, но у журнала есть и свои планы, и свои культурологические цели, а я рассчитывал на возможности натуры Ковригина, – нервным упрямцем повёл себя Дувакин.
– Надо посылать экспедицию в Синежтур! И немедленно! – заявила Быстрякова. – На милицию рассчитывать нечего! Надо свою экспедицию!
– Не надо, – сказал Дувакин.
– Это ещё почему? – рассердилась Быстрякова.
– Искать Ковригина уже отправилась Свиридова.
– Какая такая Свиридова?
– Та самая Свиридова. Знаменитая. Наталья Борисовна.
– Она-то здесь с какой стати?
– Подруга Ковригина студенческих лет. Ей, кстати, и посвящена пьеса «Веселие царицы Московской». Для неё и написана.
– И что? Ну, Свиридова…
– Вы не знаете Свиридову! – воодушевлялся Дувакин. – Если надо, она на президента выйдет. Даже на двух. И публика в Синежтуре, и тамошние нравы ей знакомы. А на поиски Ковригина её никто не гнал. Имеет собственный интерес.
– Какой ещё собственный интерес? – произнесла Быстрякова с раздражением или даже (так показалось Дувакину) с чувством ревности. Но сейчас же, будто рассудив о чём-то существенном, сказала: – А может, оно и к лучшему, что именно Свиридова с её собственным интересом… Она-то, пожалуй, расторопнее других сумеет возвратить Ковригина в рабочее состояние… А это для нас с вами важнее всего.
– Ковригина ещё отыскать надо… – вздохнул Дувакин.
– Отыщет! – наложила печать Быстрякова.
«Ба! Да она, похоже, больше моего знает, – сообразил Дувакин, – о Ковригине и его передвижениях в мироздании…» С этой дамой следовало держать ухо востро. Но это и не новость. Хотя нынешнее восклицание Быстряковой: «Как пропал?» – и теперь казалось Дувакину искренним. В нём угадывались и удивление, и испуг, и страх за судьбу Ковригина… Впрочем, поди разберись в бабах, подумал Дувакин, в их чувствах и затеях!
– Пётр Дмитриевич, – сказала Быстрякова деликатно, даже доверительно, как партнёр партнёру, – Свиридова Свиридовой, президенты президентами, у них свои заботы, у них в Волгограде мост танцует с ветром. А у нас дела свои. И если вы что-то узнаете от Свиридовой, я-то с ней не знакома, сообщите, пожалуйста, нам. Если не через день, то через два. Вдруг потребуется наше содействие.
– Непременно, – сказал Дувакин.
На всякий случай сказал. Чтобы не терять лицо. Как это он мог узнать что-либо от Свиридовой, если у него не было сейчас канала связи с ней? Да, она улетела в Синежтур, объявив Дувакину, что начнёт с Острецова, она уже просила заводчика и владельца имения Ковригину зла не чинить, а то, сами понимаете… Но теперь Синежтур она якобы покинула, а куда направилась, было неведомо. Не исключалось, что в Журинском замке имелись чёрные дыры, и в одну из них Свиридову затянуло. Но Ковригина могло затянуть туда же и до прилёта спасательной экспедиции Свиридовой… Лететь же в Синежтур третьим Дувакину было лень. И боязно. Да и делами журнала следовало заниматься. «Какими делами!» – чуть ли не подскочил Дувакин. Подготовка текстов Ковригина и была теперь для журнала наиважнейшим делом! О своих опасениях ему, Дувакину, необходимо было сообщить Быстряковой. И немедленно. Но что-то остановило его, и он решил потерпеть денёк…
Свиридовой же и вправду в Синежтуре уже не было. За четыре дня она успела встретиться с властями и влиятельными людьми города. Будто бы провела производственное совещание по поводу возвращения Ковригина в социум и театральную жизнь. Все были с ней согласны, обещали содействовать, иные, правда, связывали с личностью Ковригина пропажу любимицы города Хмелёвой и требовали со светлейшей помощью А. А. Калягина, с его командой на Страстном бульваре, вернуть Хмелёву в Синежтур. Словом, поначалу никакого толку от разведывательных действий Свиридовой не было. Раздражённой воительницей добилась она встречи с господином Острецовым. Тот, как показалось Свиридовой, отводил от неё глаза, но клялся и божился, что Ковригину он не вредил, напротив, был чрезвычайно благодарен ему за участие, собирался выдать ему достойный гонорар за риски и разумные решения, но Ковригин от гонорара-вывода отказался. Он же, Острецов, вовсе не средневековый мракобес, не чудище какое-то и, конечно, человека, узнавшего тайны замка (а выходило, что Ковригин тайны замка узнал), морить не стал бы. Смешно об этом и подумать. Куда делся Ковригин, Острецов не ведал, был уверен, что тот благополучно отбыл в Москву и там процветает. Получил последний номер журнала «Под руку с Клио» с эссе о Рубенсе и «Записками Лобастова». Эссе просмотрел, занимательно, а вот на «Записки» времени у него пока не было, занят больничными хлопотами, состояние дебютантки Древесновой, неизвестно чьими кознями или причудами упрятанной в усадьбе Журино, по-прежнему тяжёлое, и он, Острецов, приглашает врачей из-за границы, даже из Индонезии, ну и т. д. О Хмелёвой не было произнесено ни слова. Зато о Древесновой Острецов говорил охотно, он якобы ощущал ответственность за её судьбу и, очевидно смущаясь, стал спрашивать Свиридову, какие могут быть у Древесновой актёрские перспективы. «Сейчас любым тараканом можно украсить сдобную булку…» – буркнула Свиридова. Возня с Древесновой вызывала удивление и у байкерши Алины. Пожалуй, даже и раздражение. Но тут причиной могла быть и ревность. Какие-либо предположения о случае с Ковригиным Алина высказывать отказалась. Доброжелательная к Ковригину дама Антонова, одарившая Хмелёву бархатным гусарским нарядом, чуть ли не шёпотом посоветовала Свиридовой попробовать раздобыть хоть бы и мелкие сведения о Ковригине в ресторане «Лягушки». Или же у Эсмеральдыча.
– Какого ещё Эсмеральдыча? – удивилась Свиридова.
– Ну-у-у… – протянула Антонова.
И было разъяснено Свиридовой, что Эсмеральдыч – чистильщик обуви, популярный даже при потере интереса публики к гуталинам, ваксам и коричневым шнуркам, а важнее всего – сапожник (по старому), способный за пять минут произвести сложнейшую починку туфлей и башмаков, какую в мастерских по ремонту будешь ожидать неделю. И он обо всём знает. Приторговывает дефицитом, в том числе и билетами на спектакли и концерты, а потому может отнестись к московской звезде с симпатией. Впрочем, какое выпадет ему настроение. Киоск Эсмеральдыча (или палатка) размещается в десяти шагах от театра, в сквере.
Никакого хозяйства Эсмеральдыча Свиридова не обнаружила, а глаз имела зоркий. Прохожие помочь ей не смогли. Вроде бы обувная палатка вчера стояла вот здесь, а сегодня её нет. Такое случается. Потерпите до утра, вдруг палатка за ночь снова и внезапно вырастет… Не принёс Свиридовой удачи и поход в ресторан «Лягушки». Встретили там её с фейерверками в глазах, как же, как же, Александр Андреевич Ковригин захаживал к ним, и всем был приятен, вот здесь он вкушал напитки и сосьвинские сельди с отварным картофелем, вот здесь он играл в шахматы (Свиридова оценила прелести зелёных шахматисток и их товарок у шестов, шалун был наш Александр Андреевич!) и, как правило, оставался доволен результатами партий. Именно из «Лягушек», сытый и довольный, он отправился на вокзал к московскому скорому. Где он теперь, конечно, никто не знал. На мгновение Свиридова заметила пропавшее тут же за колонной знакомое лицо (вернее, знакомую харю, виденную где-то, возможно, в толпе на балу в замке Журино). Как только харя пропала, над столиком Свиридовой склонился гарсон и прошептал:
– А может быть, имеет смысл обратиться с вашим интересом к Эсмеральдычу?..
Утром оказалось, что обувная палатка и впрямь снова и внезапно выросла. Она имела два придела. Или две пристройки. В одной из них, с креслом для клиента, обувь, видимо, чистили. В другой – занимались её ремонтом. Маэстро гуталина и ваксы, скорее всего, трудился сейчас в починочной, и Свиридова в ожидании его осмотрела красоты палатки. Никакого обещания скидки афроамериканцам она не заметила. Не увидела и обращений к футбольным фанатам. Стены палатки были заклеены выцветшими уже афишными плакатами музыкальных переложений готического романа Виктора Гюго – балета Пуни «Эсмеральда», в постановке Йошкар-Олинского оперного театра, и нескольских гастролёрских спектаклей мюзикла «Нотр Дам де Пари». К любым, и к самым странным, увлечениям Свиридова относилась благосклонно. Но вот появился и хозяин обувного предприятия. Он походил на половца Кончака, пленившего князя Игоря, брови его отчего-то были выщипаны, а сам он явно намеренно сутулился. Или даже горбился.
– Вы Эсмеральдыч? – неожиданно для себя заробев, спросила Свиридова.
– Я Квазимодыч, – сказал чистильщик и сапожник. – Эсмеральдыч – мой двоюродный брат. Мы работаем по два дня…
– Извините, – растерялась Свиридова. – Я зайду через два дня.
– Бырышня, – сказал Квазимодыч. – Вы должны поспешать. Брат знал, что вы будете его искать. Просил передать. Вам надо в Аягуз.
– В Аягуз? – переспросила Свиридова.
– В Аягуз. Более нам нечего вам сказать. Всё. В Аягуз! И обувных дел мастер с зажатыми в губах деревянными гвоздиками для подмёток отбыл из палатки по производственным необходимостям.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































