Текст книги "Лягушки"
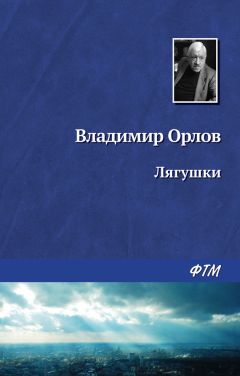
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 50 страниц)
34
Читать её Ковригин сразу не стал.
Опустился в усталости в кресло, закрыл глаза.
Вот тебе, бабушка, и брачная ночь!
Значит, «предбрачная ночь» или осуществление прав сюзерена оказались всё же оплатой услуги. Возможно, заранее предусмотренной. С услугой же поусердствовал одураченный идиот. Оно и к лучшему, посчитал Ковригин. Его сентиментальные нюни последних часов растерли грязным ботинком возле мусорного ящика. И поделом. К какому лучшему, тут же готов был возвопить Ковригин, если он лишался теперь половины квартиры?
Заслужил. Не гнался бы ты, поп, за дешевизной.
Ковригин застонал. Вместе со стоном выпустил из себя двухминутное матерное обращение. Неизвестно к кому.
«В двенадцать часов по ночам из гроба встает полководец…» – тотчас явилось ему. С чего бы? При чем тут полкодец-император, при чем тут переводчик с непомню какого поручик Лермонтов, при чём тут исполнитель арий и романсов Шаляпин?
«Нет, без бутылки хорошего виски не разберешься», – вспомнилось Ковригину. Виски не виски, а стакан водки, увы тёплой, он саданул. Открыл банку шпрот, макнул в масло кусок белого хлеба. А ведь действительно, подумал Ковригин, надо квартиру оглядеть, вдруг она («Хмелёва» или «Лена» даже и в мыслях Ковригин не сумел заставить себя употребить, лишь «она» и «она» либо «эта») впопыхах понапихала чужое в синежтурский чемодан? Нет, всё было на месте. И тогда Ковригин сообразил, что из кресла он поднялся вовсе не для того, чтобы произвести у себя ревизию с аудитом. А вот ради чего. Ради поиска, возможно, оставшейся от гостьи вещи. И не какой-нибудь несущественной мелочи. А вполне определённой и значимой вещи.
Чёрной вуали.
Осознав это, Ковригин выругался. Завтра же, решил, надо будет записаться на приём к психоаналитику. Но перед тем отправиться в Большое Вознесение и зажечь там свечки, не из тех, что способствуют развлечениям.
А ведь и он устал не меньше «этой». И всё же посчитал: прежде, чем утонуть во сне, надо хотя бы просмотреть записку, оставленную на письменном столе. Вдруг в ней его ожидали неожиданности, потребовавшие бы от него отмену сна?
Он бы им только обрадовался.
Всякое случается в жизни.
Но поводов к радостям или хотя бы к удивлениям не обнаружилось.
Почерк автора записки был знаком Ковригину по балу в Рыцарском Журинском зале. Только сегодня он выглядел более нервным, спотыкающимся, что ли, и от того – искренним.
«Милый, милый Сашенька, – начинала „эта“. Ну ладно, пусть будет – Хмелёва. – Последний раз могу назвать тебя „милым“ и „Сашенькой“. Дальше не имею права. Дальше буду именовать „уважаемым Александром Андреевичем“. Оправдываться ни в чём не стану. Просить прощения – тоже. Это бессмысленно и ничего не изменит. Тем более что цели мои (или романтико-эгоистические фантазии, требующие воплощения) Вам не открыты. В частности и по причине опасений увлечь (завести) Вас в неловкое, а то и рискованное положение. Увы, упования мои (относительно Вас) оказались легкомысленными. Не ожидала, что именно Вы втянетесь ключевым персонажем в мою столичную гастроль. Считаю, что виновата в том, что Вы без оглядок будто ринулись в московское приключение шустрилы из захолустья (обманщицы, мошенницы, и для этих слов есть основания; прошу Вас только не выводить мои поступки из натуры Самборской шляхтянки). Были благостные минуты, когда я полагала, что Вы увлечены мною как человеком и женщиной. Эти минуты могли изменить меня. Слава Богу, я ошиблась. Вы любите другую женщину и думаете о ней. Если Вы этого не знаете, и такое бывает, поверьте моему обостренному чутью. Долгие годы мне придётся жить с чувством досады и тоски из-за того, что я воспользовалась простодушием (и наверняка кратковременной влюблённостью автора в исполнительницу роли его героини) бескорыстного и благородного человека. Обязана уверить Вас в том, что никаких сверхъестественных средств в наших с Вами отношениях я не применяла, никаких зелий и приворотов не подсовывала, я простая девушка Лена Хмелёва, инквизиторы со мной бы заскучали. А ведь могла бы выпросить у Вас пьесу о царевне Софье Алексеевне. Средства известны. Это было бы гадко. Да и зачем? Похоже, из актрис я уйду. И дело тут не в умении терпеть, а в ином… А вот Вы меня удивили и озадачили. Всё у меня (с Вами) в эти дни понеслось и взлетело винтом. С чего бы это? На какие чудеса Вы способны? Впрочем, этот вопрос бестактный… Ну, вот и всё. То есть мне ещё многое хотелось Вам сказать, но поставлю этому хотению забор. Я и так надоела Вам. А уж при чтении этих строк, полагаю, Вы материтесь со вкусом. Всё, исчезаю из Вашей жизни. Прошу, не ищите меня. И сгоряча в ближайшие дни. Тем более, что я и сама не знаю, что и где (и кто) будет со мной в ближайшие-то дни. Лучше злитесь на меня издалека. Но Вы, к несчастью, и не умеете злиться. Не ищите и потом. Когда потом? Через годы или не знаю когда… Когда всё сложится и определится в моей жизни и в моей сути (откуда я – из водевиля или из высокой драмы) и я пойму, ради чего я суетилась нынче, втягивая в свою суету и Вас, уважаемый Александр Андреевич. Я и сейчас бы не стала прятаться от Вас, и тогда не стану прятаться. Но что вышло бы из нашей с Вами встречи? Ничего. Ничего, кроме скучных и бесполезнозапоздалых объяснений (воспоминаний?). Слеза моя на бумагу тут не капает, рассмейтесь Александр Андреевич! Вот только… Жалею об одном. Почему вы, Александр Андреевич, поставили именно на Древеснову? Конечно, она не без способностей и крепка женской силой, но ставить на неё!.. Досадно. Очень досадно. Впрочем, надеюсь, рано или поздно ваша правота откроется.
Да, Александр Андреевич, прошу вас, не рвите и не выбрасывайте в сердцах папку, ту, что слева от записки. Там две бумажки, существенные для меня, и там ещё вещица – Вам на память из наших семейных преданий.
Теперь всё. Не поминай лихом, милый Сашенька. Целую тебя. Елена».
В существенных для Хмелёвой бумажках Ковригин прочитал вот что. В первой Хмелёва отказывалась от прав на жилплощадь в доме по Богословскому переулку и обещала, что, какие бы ни сложились обстоятельства, участвовать в разменах ковригинских квадратных метров и тем более в присвоении их она не будет. Вторая бумажка была Согласием на развод. Если бы гражданину Ковригину захотелось хоть бы и завтра развестись с ней, она без всяческих условий и претензий готова была немедленно согласиться с разводом, потому как произошло невыносимо-бытовое несовпадение их натур. Вещичкой на память из семейных преданий оказалась какая-то костяшка, рассмотреть её толком у Ковригина не было уже сил. Он успел лишь подумать: «А новые-то документы с печатями она все же забрала с собой…» – и рухнул на диван.
Всё же обнаглела девка: «Не поминай лихом, милый Сашенька…»
Впрочем, на всё ему было наплевать.
Он спал часов пятнадцать, и спал бы дальше, если бы не звонок Дувакина.
– Ковригин, это ты? – спросил Дувакин. – Ну, слава Богу. Ты где?
– Во сне! – буркнул Ковригин.
– Я не о том. В Москве или в Синежтуре?
– В Москве…
– Опять слава Богу. У меня к тебе задание. То есть заказ, срочный и денежный.
– Ты и так озадачил меня совершенно ненужными мне ещё десять дней назад Мариной Мнишек и царевной Софьей.
Дувакин замялся, примолк и лишь потихоньку, кряхтя, возможно, и со стонами принялся выползать из завалов обрушенного небоскрёба.
– Саша… – начал он. – Кризис, понимаешь, кризис! Ты слышал о кризисе?
– И на какую же историю богатый заказчик решил поменять истории Мнишек и царевны Софьи?
– На историю дирижабеля…
– Кого? Чего?
– Дирижабеля, – неуверенно произнёс Дувакин. – Дирижабеля. Это такой воздушный корабль… Большой…
– Ты помнишь «Воздушный корабль» Лермонтова? Прочитай мне его.
– Наизусть я не помню…
– Вот когда вспомнишь, разбуди меня снова… Но не раньше, чем через два часа… Я на самом деле устал…
И тут же уснул снова. Правда, перед тем почти со слипшимися веками промочил горло апельсиновым соком, а подумав, явно уже в дремотном видении, выпил для крепости сна ещё и полстакана водки. Тогда и уснул.
Дувакин позвонил не через два, а через пять часов. Тонкая, сострадающая натура! Ковригин был уже в полном сборе, омытый прохладными струями душа, выбритый, сытый, с крошками пшеничного багета в уголках рта, сидел за письменным столом, держал перед собой бумаги Хмелёвой и желтоватую костяшку, формой своей – рогалик! – вызывающей мысли о чешском пиве. Впрочем, и пиво, пусть и не чешское, в банках и в кружке имелось вблизи Ковригина. Чего он только не приволок вчера домой в пакетах «Алых парусов». Раков не приволок, вот чего! Походил, походил мимо них и купить не решился. Денег, показалось, не хватит. Теперь у него забит холодильник, а кормить и поить некого, половину провизии, если не всю, придётся потом выкидывать! Хватит, приказал себе Ковригин, хватит! Никаких оценок своей краткодневной дури, никаких мыслей и догадок по поводу таинственных (для него) капризов провинциальной актрисы! Оговорил это ведь уже с самим собой, и хватит!
– Ну что? Проснулся? – спросил Дувакин. – Пришел в себя?
– Пришел, – сказал Ковригин. – Но пришёл в себя сердитого!
– Значит, толку из делового разговора не выйдет?
– Не выйдет. В особенности, если речь снова пойдёт о дирижабелях.
– Стало быть, ты и не проснулся, – сказал Дувакин. – Подождём… Кстати, почему и заказчик, и ты произносите именно «дирижабель»?
– А кто заказчик?
– Не знаю. Пока разговоры ведем телефонные. С объявлением намерений.
– Нет, кто он, в смысле – женщина, мужик?
– Голос мужской…
– Хорошо. Объясню про дирижабели… У меня в Узкопрудном жили и живут родственники. Яхромские рассеялись по всей Савёловской дороге… Одна из двоюродных сестёр проживала в Узкопрудном именно на Дирижабельной улице и работала на дирижабельном заводе. Эгоизм русского языка. Для немцев – мармор, для нас удобнее – мрамор. Или выговори попробуй – дирижабльный завод! Выходит, твой заказчик родом из Узкопрудного… Во всяком случае с Савёловской дороги, может – из Лобни, может – из Яхромы… Но откуда в Лобне или Яхроме богатые заказчики?
– Оттуда! – вздохнул Дувакин. – Под рваные матрацы с клопами деньги засовывали… Увы, шучу. Это завод для Умберто Нобиле, что ли, строили?
– Ну да, для генерала… Дирижабли тогда были в моде. В войну из моды вышли. Сейчас снова к ним интерес. Воздушные корабли третьего тысячелетия… Кстати, почему ты не читаешь мне Лермонтова?
– А надо?
– Уже не надо. Сам отыскал. Сначала поставил диск Шаляпина с «Ночным смотром». А там, оказывается, к встающему из гроба императору воздушный корабль в двенадцать часов не прилетает. Является Бонапартово воинство на воздушных конях. А вот у Михаила Юрьевича в двенадцать часов по ночам Воздушный корабль тут как тут…
– Что тебя так увлёк воздушный корабль? – удивился Дувакин.
– Сам мне его подсунул, – сказал Ковригин.
– Ну, и какие выгоды и смысл в этом увлечении? – спросил Дувакин, и Ковригин не понял, всерьёз ли спрашивает Дувакин или насмешничает над ним.
– Выгоды! Смысл! – чуть ли не вскричал Ковригин. – Это я слышу от тебя, Пётр Дмитриевич? Какие тут могут быть выгоды и смыслы для неразумного существа с загребущими извилинами? Взял том Лермонтова, прочитал «Воздушный корабль», из примечания узнал, что узника Лермонтова посещал в орднунг-хаусе Белинский, застал арестанта в весёлом расположении духа, тот читал Гофмана и переводил «из Зейдлица» этот самый корабль. Теперь это информационное приобретение уляжется в моём мозгу и время от времени будет напоминать мне, что наш Михаил Юрьевич увлекался немецкими романтиками, и это мне приятно. Вот тебе все мои выгоды и смыслы! Занудливый начётчик, я то есть.
– Зачем ты попросил отыскать Лермонтова? – спросил Дувакин. – Шутил, что ли?
– В раздражении разбуженного шатуна, – сказал Ковригин, – может, и шутил… Но потом стало во мне что-то вариться… На ум пришли Фёдоров, философ, Платонов, Андрей, и Циолковский… Это когда я проснулся… В сущности-то первые двое больше любили мёртвые тела в надежде людей воскресить и усовершенствовать, переселив их на какие-нибудь благопристойные планеты… Тут и хороши были бы корабли Циолковского, тоже не слишком обожавшего человечество и планету Земля… Впрочем, кораблям его положено было бы быть не воздушными, а безвоздушными… Поманить, засунуть в них людские очереди и отправить их неизвестно куда… Да и манить не надо, сами приволоклись бы толпами, первый раз, что ли!
– Ты упрощаешь, – сказал Дувакин.
– Упрощаю, – чуть ли не с радостью согласился Ковригин. – Упрощаю! И уже забыл, отчего ко мне приклеились эти корабли? Ну да, ты ими намазал дирижабель. Разъяснил мне, что дирижабель – это такой большой воздушный корабль… Постой, – воскликнул Ковригин, – а ведь совсем недавно именно у Узкопрудного, на канале рядом с Клязьминским водохранилищем, сгорел и взорвался с хозяевами вместе ресторан-дирижабель? Не наследники ли этих хозяев и сунулись к тебе с требованием прославить дирижабели?
– Не знаю… не уверен… – промямлил Дувакин, будто глаза отведя (от чего?), – не слышал ни про ресторан, ни про пожар со взрывом… Ничего не слышал…
– Ну вот, прослышь, – строго сказал Ковригин, – и нанимай другого прославителя.
– Саша, – искательно произнёс Дувакин. – В прославители они жаждут только тебя… Не ведаю, по какой причине… Ну, якобы ты – золотое перо журнала… Вроде того… И вообще… И сулят большие деньги! Ты же сам знаешь, кризис… Есть ли он или его нет, но истерику и страхи на публику нагоняют. А именно наш читатель впечатлительный и при копейках. А эти и журналу обещают не дать погибнуть… Всего-то – тебе! – два дня работы, один день в архиве, другой – за компьютером…
– Ни за какие деньги никогда не продавался, – заявил Ковригин. Он не врал, но произнёс эти слова будто тетеревом-бахвалом на весеннем токовище. И были, естественно, случаи, когда он подхалтуривал ради благоудовольствий жизни. Хотя всерьез и не продавался.
Ему стало стыдно.
– Деньги большие… – не мог остановиться Дувакин. – Ещё и брошюрку рекламную намерены тут же издать, а там гонорар – виллу купишь… И нас спасёшь… О читателе нашем запуганном подумай… Заказчикам-то, похоже, и теперь деньги девать некуда… Кому война, кому мать родна…
Дувакин замолчал. И Ковригин молчал. Пётр Дмитриевич, по всей вероятности, закурил.
– Следующий-то номер с твоим Рубенсом готов и на днях выйдет, – произнёс наконец Дувакин. – А вот дальше…
Ковригин молчал, сопел обиженным ребёнком, нравилось. Но кто, Господи, обидел его? И чуть ли не с удовольствием ожидал слов об отмене заказа на истории Марины Мнишек и царевны Софьи. А потом – и деликатных намёков на то, что если дирижабель будет прославлен, то и отмены заказов не случится…
– Ладно, – сказал Дувакин, – ты не в духе, а я не люблю унижаться. Не желаешь поддержать журнал – твой выбор.
Ковригину стало жалко приятеля, он чуть было не произнёс слова примирения (а ведь и не было повода браниться с Пётром или серчать на него), но вдруг провозгласил с вызовом (не самому ли и себе?):
– Да! Не в духе!
И будто пудовым ключом затворил дверь в душу (или в этот самый дух, но, впрочем, сам-то он объявил себя вне духа!), а дверь оказалась тяжеленной, кованой.
И сразу понял, что теперь, хотя бы в ближайшие дни, он не сможет исповедоваться перед Дувакиным и испрашивать у того советов, а Антонине с неделю он не покажется на глаза. И стало быть, не выйдет ему облегчения. Заслужил дурацкой историей их отношений с Еленой Михайловной Хмелёвой. Лихорадкой этих отношений. С перепадами (перескоками, перепрыгами) в них, от чуть ли не высокомерия брезгливости до жертвенно-страстных умилений. С дурацкой ещё и потому, что не сумел управлять собственными чувствами и решениями. На поводке плёлся жалким мопсом.
– Так, – сказал Дувакин, – твои состояния мне известны. Ты не желаешь или не решаешься открыть мне что-то. Твои напряжения… Но с чего бы ты не в духе-то? Твои дела в Синежтуре просто прекрасны. Мне сообщили об этом.
– Кто же это мог сообщить-то? – засомневался Ковригин.
– Некоторые, – сказал Дувакин. – В их числе и сама Натали Свиридова. А она женщина – ироничная и не врунья. И зависть в ней не живёт. Чему завидовать-то? Её на днях пригласили в жюри то ли в Венецию, то ли в Берлин, она когда-то получала там премию за женскую роль. Она вчера мне рассказывала о твоих синежтурских удачах. С явной к тебе симпатией. Ты, кстати, сталкивался с ней в Синежтуре?
– Было такое… – тихо сказал Ковригин. – Было… Значит, успели вернуться в Москву…
– То, что она порассказала мне, это мелочи. Важнее для тебя – её интервью в «Культуре» и на разных радиостанциях, – сообщил Дувакин. – Там такие комплименты и тебе, и синежтурскому театру, и каким-то там местным красавицам актрисам…
– Хмелёвой? – не удержался Ковригин.
– И Хмелёвой… – подтвердил Дувакин. – И ещё. Она, Свиридова то есть, советовала мне срочно опубликовать твою пьесу, мол, «если вы не дурак». Я бы и сегодня попросил тебя принести пьесу, но толку-то что, если журнал накроется… Ба! Да не из-за этой ли Хмелёвой ты сейчас не в духе?!
– Опять в сон клонит, – сказал Ковригин и зевнул для убедительности. – Я тебе, Петя, позвоню завтра… Я подумаю…
– Погоди, Саша, – заторопился Дувакин. – Я раза три звонил на твой прежний мобильный… И слышал странное…
– Я тот телефон выбросил… – озаботился Ковригин. – Он давно разрядился… Я его расколол булыжником…
– И тем не менее мне отвечали.
– Кто? – удивился Ковригин.
– Не знаю. Мужик какой-то. Грубый, но в пределах нормативной лексики. Иногда говорил: «Пошёл в баню!». Иногда приглашал выпить с ним со словами: «Чтоб и вам хотелось!».
– Странно… – сказал Ковригин. – Странно… Надо разобраться… Но сейчас и вправду засну… Измотал меня этот Средний Синежтур…
И заснул. Но не сразу.
Прежде с тщанием, на какое был ещё способен, он перечитал бумаги Хмелёвой и исследовал костяшку. Теперь понял – она из мамонтового бивня. И не исключено, что её можно было отнести к ряду костяных пороховниц. Со времён Ермака и последовавших за ним землеустроителей Сибири в северных землях, близких к океану Ледовитому, находили кости и даже туши мохнатых великанов с коричневыми бивнями. На «костяшке» из семейного предания (если верить словам забавницы Хмелёвой) косторезами была оставлена сценка из рыцарской жизни с охотницами, а над её персонажами висело в ожидании событий ограниченное контуром из красной и синей линий некое тело, напоминающее дирижабль. Воздушный корабль! Вот тебе, Ковригин, и Воздушный корабль!
И сейчас же над Ковригиным, но не в высях, предназначенных воздушным кораблям, а над его потолком что-то злобно загремело, люстра принялась раскачиваться, побелка и штукатурка посыпались с потолка и стен. Гремело железо, будто пудовую гирю подбрасывали и не ловили, и она раз за разом падала на пол. Или же кувалдами выбивали пластинки паркета.
Верхних соседей Ковригин знал плохо. Здоровался на лестнице, во дворе и в магазинах, вот и все отношения. Это были тихие пенсионеры, муж и жена, из финансовых конторщиков, о пудовых гирях они знать не знали. Да и вообще больше жили на даче и сейчас должны были бы ходить за опятами на вырубках под Вереёй. Возникшее было у Ковригина намерение подняться на их этаж и выяснить, что за чудеса там происходят, угасло так же быстро, как и затеплилось. Гирю с кувалдой лишили работы… Так, соображал Ковригин, на бумагах Хмелевой не имелось ни подписей нотариуса, ни печатей нотариальной конторы. То есть бумаги можно было признать лишь эмоциональным пшиком. С видимостью возгорания в девушке чувства вины. Но и этот пшик отчего-то Ковригина обрадовал. Он как бы дозволял Ковригину снова вообразить опасности в водопадных каскадах жизни Хмелёвой, принуждавшие её к действиям вздорным и рискованным, искать им оправдания, а в натуре самой Хмелёвой предполагать добрые свойства и устремления. Потому он мог и задрыхнуть сейчас с успокоительной мыслью: не так уж всё плохо в мире и в людях, и не надо упрыгивать куда-то или улетать подальше от планеты Земля на воздушных кораблях…
Впрочем, про Хмелёву следовало забыть…
Но опять загромыхало этажом выше. «Спокойной ночи! Спокойной ночи до полуночи! А с полуночи – кирпичи ворочать… Что же они там делают, идиоты!?» – выругался Ковригин. Но и усилия воли не помогли Ковригину подняться с дивана. А скорее всего, на усилия воли Ковригин не был сейчас способен. «Почему я и впрямь поставил на Древеснову?» – подумалось Ковригину, и лицо Древесновой будто бы мелькнуло, но соображение о ставке на Древеснову тут же кувыркнулось и нырнуло в болото № 16…
Утром Ковригина разбудили громыхания наверху. Люстра качалась, побелка с потолка сыпалась на пол. В спортивном костюме Ковригин взлетел по лестнице к верхним соседям. Дверь на его звонки открыл акселератной длины парень лет двадцати.
– У нас потолок вот-вот обрушится! – воскликнул Ковригин. – Штукатуркой и пылью обсыпаны книги и картины!
– Значит, у вас неумело уложены книги и плохо повешены картины! – нравоучительно и будто бы с жалостью к недотёпе произнёс парень. – Вам, дядя, вообще, видимо, не следует держать в доме книги и картины.
– Вы кто? – растерялся Ковригин.
– Хозяин этой квартиры. То есть квартиру купил отец, но уборка её поручена мне.
– С гирями и кувалдами?
– Если у вас будут возникать претензии или жалобы, засовывайте их сами знаете куда, – сказал парень. – Отец у меня – известный и влиятельный…
И дверь перед Ковригиным была рывком закрыта.
Завтракал Ковригин быстро и нервно. Надо было ехать на платформу «Речник» по Савёловской железной дороге. Перед завтраком набрал номер укрытого им под камнями и, по расчётам Ковригина, давно сдохшего, мобильного телефона, услышал: «Пошёл в баню!» – и понял, что поездку откладывать нельзя.
Подталкивал Ковригина к ней и ещё один интерес.
День, слава Богу, вышел солнечным и сухим. Выйдя из лифта, Ковригин полюбезничал с привратницей Розой. Преподнёс ей цветы из вчерашнего медового букета (не засорять же им квартиру, но и не уничтожать же все его красоты и запахи!). Роза, понятно, догадавшаяся об истории букета, повела себя тактично, цветы и Ковригина похвалила, а о гостье Ковригина, то ли китаянке, то ли даме неведомой породы, не произнесла ни слова.
– Кто это гремит надо мной? – поинтересовался Ковригин.
– Квартиру купили какие-то Буратины. Хозяин – то ли профессор, то ли делец, хомячок с лысиной, учтивый…
– И сынок их учтивый, – сказал Ковригин. – И как их величают!
– Вот фамилия у них унитазная, – вздохнула Роза. – Жабичевы.
– Почему унитазная? – удивился Ковригин. – Очень хорошая фамилия. Жабичевы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































