Текст книги "Лягушки"
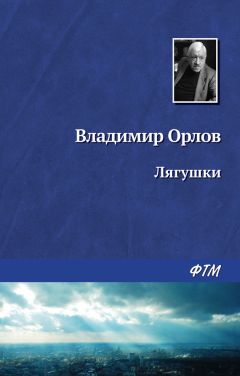
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 50 страниц)
45
Дувакин позвонил через день.
– На текст пьесы даю тебе ещё два дня. Приеду и привезу принтер. Но лучше, чтобы ты сам прискакал в Москву на своей семёрке.
– Пока не пойдут опята, – сказал Ковригин, – отсюда никуда не двинусь.
– Значит, я приеду к тебе с принтером.
– К чему такая спешка? – удивился Ковригин. – Ещё позавчера ты мямлил о пьесе скорее из вежливости. Как о некоем довеске…
– Если бы ты не полз поодаль от длинной вереницы, – сказал Дувакин, – или хотя бы не воображал, что так оно и есть, я бы предложил тебе сплясать. Сам я вчера сплясал. Журнал, считай, спасён. Денег инвестор дал. Через неделю из Можайска нам отгрузят номер с твоими пороховницами и Рубенсовыми приключениями. А дальше пойдёт номер с третью записок Лобастова и, хотелось бы, с Мариной Мнишек. Кстати, сегодня снова звонила Свиридова и этак начальственно напоминала о необходимости выпустить собачку.
– Какую собачку? – спросил Ковригин.
– В фильме «Цирк» старый дрессировщик то и дело просит выпустить на манеж свою собачку.
– Вы, Пётр Дмитриевич, видимо, обнаглели от удач и допускаете реплики со сравнениями, мягко сказать, неделикатными.
– Извини, Сашенька, зарвался, – рассмеялся Дувакин, – думал, что сообщу о приятном тебе. Хотя понять, какой нынче интерес Свиридовой к твоей пьесе, не могу.
– И я не могу, – сказал Ковригин.
– Ой ли? – засомневался Дувакин. – Ладно. Гони пьесу. И сразу же садись за продолжение записок Лобастова. Денег за них, как ты просил, выписывать мы тебе не будем… Шутка!
– А Софья Алексеевна? – спросил Ковригин.
– А что – Софья Алексеевна? – как бы удивился Дувакин. – Хочешь пиши, хочешь – не пиши. Теперь это дело факультативное. Если есть актриса на роль Софьи – в Синежтуре, говорят, есть такая, Ярославцева, – вспомни старый рецепт, влюбись в неё и пиши для неё пьесу.
– Циник ты, Дувакин, из первейших, – сердито сказал Ковригин.
– Циник, – согласился Дувакин. – Но вот Антонину нашел и дал ей твой номер. Правда, попросил в ближайшие дни от работы тебя не отвлекать…
– Петя, – сказал Ковригин, – от тебя пахнет коньяком. Не отмечал ли ты сегодня выгодную сделку с госпожой Быстряковой?
– А может, и отмечал! Но тебе знать об этом необязательно! Хотя… С тобой всё ещё желает познакомиться госпожа Быстрякова…
– Некогда, – сказал Ковригин. – Сижу за компьютером. Кстати, в спектакле было много пропусков и искажений текста.
А через полчаса позвонила Антонина.
– Сашенька, родной, как я рада тебя слышать! – пулемётными очередями зазвучала сестрица. – А я и сегодня боялась, что ты пошлёшь меня в баню! С тобой всё в порядке?
– Тоня, я вовсе не забыл, что ты, между прочим, синхронная переводчица. Да, со мной всё в порядке. Но пока я не могу произнести: «Я сделал это!».
– Сашка, я так по тебе соскучилась! Прости меня, грешницу, за несусветную блажь!
– Это я должен просить у тебя прощения. Из-за такой глупости завёлся! Превратился в раздосадованного пятиклассника…
– Слава Богу, денежные дела в государстве наши с тобой досады развеяли.
– Но ведь и впрямь нам надо ставить новый дом.
– На какие шиши?
– Встретимся и обсудим, – сказал Ковригин.
– Петя Дувакин просил не отвлекать тебя от работы. А то бы я сейчас была у тебя. По головке бы тебя погладила, братец Сашенька.
– Прекрати, Тонька, сейчас я разжалоблюсь, пущу слезу и пошлю тебя в баню!
– Всё! Целую! И до встречи!
– Погоди! – спохватился Ковригин. – Помнишь, мы играли в пиратские клады и отец рассказывал о тайниках в Журино?
– Конечно, помню.
– К тебе не попали какие-либо отцовы чертежи или макеты? Помнишь, из картона, такие раскрашенные?
– Нет, – сказала Антонина.
– А у мужа твоего, Прохорова, он ведь со вниманием слушал рассказы отца, ничего не осталось?
– Не знаю. Увижу, спрошу. Для тебя это очень важно? – Нет, – сказал Ковригин. – Теперь и я целую тебя и глажу по головке. И пошла в баню!
А ведь действительно разжалобила его сестрица. Ещё в первых классах Ковригин, начитавшийся книг о мушкетёрах, рыцарях короля Львиное Сердце, шотландских стрелках, поглаживание его русой головы взрослыми считал для себя унизительным, вскакивал или, по крайней мере, терпел прикосновение чужих рук к своей личности. А веснущатому бесёнку, с тощими (тогда) ногами, Тоньке, эта бестактность дозволялась, а иногда, в случаях досад Ковригина, её ласковые прикосновения способны были дать Ковригину облегчение.
Ковригин сидеть у компьютера не смог. Встал. Вышел на крыльцо. Закурил.
Надо было выйти в лес. Пусть ненадолго, пусть и недалеко. Лес для Ковригина был сейчас, пожалуй, важнее лечебных прикосновений сестры Антонины.
Естественно, лес изменился. Вслед за тополями решительно пожелтели березы, раскраснелись клёны, в саду напротив Ковригинского осыпались яблони, и даже на улицах посёлка, устланных желтым, рыжим и зелёным, приходилось наступать на притянутые тяжестью Земли плоды, всё больше с красными боками, антоновка в посёлке будто вывелась.
В лес, а сначала – в приколодезную рощу, Ковригин вышел с мыслями вовсе невнятными. А никакие мысли ему вообще сейчас не были нужны. Но вскоре они возобновились и стали слоиться. То он думал о вещах бытовых. То бытовые необходимости существования сцеплялись с грёзами его натуры, требующей высоких предназначений. Кто он, Ковригин? Но так уж важно было назвать его суть словами? Сейчас же – и будто бы ни с того, ни сего – он вспомнил о французе Жорже Ленотре. Ленотр был потомком создателя Версальского парка, академиком – по заслугам, выпустил множество томов по истории Франции кануна революций и гильотин. События семнадцатого века его интересовали не для выявления их закономерностей, не требовали обобщений и глубокомыслий, а увлекали его движениями частных судеб в достоверностях повседневной жизни. Не таков ли и он, Ковригин (по своим устремлениям, а не по степени исполнения поисков, то есть окраски их талантом)? Хотя и желал бы Ковригин вывести для соображения Общего Смысла – отчего только две женщины в России века семнадцатого оставили следы в самопознании соплеменников. И зачем в письменных источниках и легендах следовало искажать их сути, причем приписывать Софье Алексеевне приятельство с португалкой донной де Луной в чёрной вуали? Впрочем, почему было создано это искажение, объяснялось легко… И тут же попёрли соображения о Рубенсе. И вот что вспомнилось. Исследователь Рубенса Роже Авермат написал: «Тот, кто хочет добиться успеха, не принадлежа к сильным мира сего, должен быть ловким. Петер Пауль пускается на всяческие ухищрения, чтобы его отправили в Рим…» То есть и художник, осознавший степень своего таланта, должен быть ловким? Это суждение искусствоведа сразу показалось Ковригину спорным. Или он, Ковригин, пытался примерить утверждение Авермата на себя? Но он-то здесь при чём? Какого успеха мог добиться он? Гонораров, что ли, способных обеспечить сносную жизнь? Видимо, так. Он полагал, что его профессиональный уровень не требовал от него необходимости ловчить перед кем-либо. Да и кто нынче эти «сильные мира»? Удачники «эпохи примадонны» или утомлённые хлебатели никелевых либо алюминиевых киселей? Бог им судья. Иные пусть ловчат перед ними… А Рубенс, способный ради успеха на ухищрения, в ту пору служил у герцога Мантуи и был озабочен добыванием выгодных заказов, каких не мог получить в Мантуе. Тогда он и сумел выйти на первого министра Испании герцога Лерму, а вынужденные его ухищрения привели позже к страсти (или хотя бы потребности), вроде бы и вовсе не обязательной для истинного художника. И ухищрения эти, и страсть были вызваны, в конце концов, вполне понятным желанием великого человека занять достойное место в миропорядке. Модный художник, но при этом, по мнению Филиппа 14-го, жалкий разночинец, стал вровень с важнейшими людьми своего времени, процветающим вельможей, чей дом был богатейшим в Антверпене и чьи действия дипломатом и разведчиком определяли состояние дел в Европе…
Сейчас же мысли о Рубенсе были отброшены, и в Ковригине ожила Марина Мнишек. То есть не совсем так. Просто Ковригин вспомнил, что в год знакомства (после ухищрений) Рубенса с герцогом Лермой и испанским королевским двором состоялась знаменитая сцена у фонтана (если, конечно, в Самборе был фонтан) и объявлена помолвка пятнадцатилетней девицы Марины и московского царевича. Вряд ли при этом ловчила Марина, ловчили её хитроумный папаша пан Мнишек и неопознанного происхождения Самозванец. «Ну и что?» – спросил себя Ковригин. А ничего! События (Рубенс – Рим, – Марина – Самбор) никак не были связаны друг с другом. Если только расположились рядом в хронологическом движении человечества…
«Никаких осмысливаний и осмыслений!» – приказал себе Ковригин.
Это разноцветье листьев под ногами и над головой вызвало в нём бесполезную мешанину мыслей.
Надо было возвращаться домой и усаживать себя за компьютер. Но там дочь сандомирского воеводы и самборская невеста могла превратиться в Елену Михайловну Хмелёву, якобы более десяти дней как стонущую в тайниках Журина.
И это Ковригина беспокоило.
«Всё! Всё! – настраивал себя Ковригин. – Работы осталось на три дня. И не было никакой актрисы, а была царица Московская, коронованная в Успенском сборе, Марина Юрьевна…»
Была бы возможность цепью приковать себя к столу с компьютером, Ковригин сделал бы это. Но он и без цепей, с минутными отходами от стола по необходимостям организма или для того, чтобы затолкать в себя бутерброд с языковой колбасой, просидел трое суток (спал часа по два) за механическим устройством, терпевшим удары восьми его (а иногда и всех десяти) пальцев, и не только терпевшим, но и относившимся к его ударам и посылаемым словам, пожалуй, доброжелательно. На правых полях листов то и дело возникал человек-скрепка, приезжал на мопеде, на нём же и исчезал, и у того текст Ковригина, пожалуй, вызывал симпатию. Иногда он, правда, привскакивал, возможно, удивляясь оборотам Ковригина, но тут же успокаивался и, довольный, грыз семечки.
Ковригина компьютерный человечек радовал. Того не раздражало действо, записываемое Ковригиным, и слова Ковригина, то есть он не выражал свои недоумения зелёными линиями подчёркиваний и ни разу не высказал неудовольствий линиями красными, напротив, он будто бы требовал: «А дальше… а дальше…» и это Ковригина подстёгивало.
«Что дальше», Ковригин уже знал. В нём будто бы ожил (возник) суфлёр школы императорских театров. Естественно, никакая синежтурская отсебятина на мониторе нынче не могла возобновиться, никакое польское мясо, никакие краковские колбасы, никакие намёки на хомячьи личики братьев Качинских сюда не проникали. Хотя телятина на обеденных блюдах шановных панов, вызвавшая неодобрение и страхи в Московии, присутствовала. Но это было отражением исторической реальности. Не раз по ходу восстановления пьесы Ковригин задумывался над судьбой и личностью Самозванца. Не важно, кем он был, Гришкой Отрепьевым или ещё кем. Главная загадка для Ковригина темнела тайной: каким образом за два года умнейшими людьми, а то и хитроумными интриганами, невзрачный человек был признан способным возглавить борьбу за Московский престол? На взгляд Ковригина, ответы на это авторы сочинений о Самозванце не дали. Ни Фаддей Булгарин, ни Александр Николаевич Островский, ни даже сам Александр Сергеевич Пушкин. Собственно говоря, Александр Сергеевич особо и не занимался историей заграничного возвышения чудовского чернеца, его больше занимал Борис Годунов и взаимоотношения царя и народа. Пушкину были важны исторические обстоятельства явления самозванцев – обрыв в движении династии, пустое царское место, азарт добытчиков, властолюбий, тщеславий… Ну, это всё понятно… Но в умении Отрепьева добиваться уверований в его богоизбранность виделась Ковригину некая мистическая или даже чародейская сила. И попёрла за ним, попрыгала, поскакала толпа, не представляя толком, зачем и куда…
Стоп. Хватит. Никаких верениц. Ковригину ведома была собственная особенность приклеивать к какому-либо событию явившееся вдруг словечко и этим словечком суть исследуемого погонять. И часто случалось, что у Ковригина прилипшее словечко приводило не к усилению смыслового толкования события, а, напротив, к упрощению смысла.
А потому – без верениц! Без синих птиц! Без дивной музыки Ильи Саца!
Через три дня, как было себе обещано, Ковригин закончил работу. Точку поставил. Сначала одну. Потом вторую. Потом третью. Хотел поставить будто бы восклицательные знаки. Одобрением самого себя. Но вышло многоточие. И исправлять его Ковригин не стал Сидел, откинувшись на спинку стула, руки закинув за голову и сцепив их, закрыв глаза. Выдохся? Начнутся часы или даже дни самоедства? И понял: нет. Вовсе не выдохся. И энергетика восстановилась в нём. Ощутил желание писать и писать, испытывать то же удовольствие, какое испытывал в последние три дня. «Завтра же возобновлю продолжение „Записок Лобастова“!» – постановил Ковригин.
Но «завтра» не начал. А был отвлечён от дела сообщением Дувакина.
Вчера же открыл глаза и упёрся взглядом в цифру в конце текста: 121. 121 страница. Какая же это пьеса! Это неизвестно что! В пьесе должно быть семьдесят страниц. А то и меньше! И ведь когда студентиком сочинял историю Марины, сам понимал, что пишет нечто бесформенное, но остановиться не мог и на овладение правил ремесла времени не имел, не терпелось преподнести подарок прекрасной Натали. Преподнёс. Преподнёс и имел конфузию…
Сейчас же, и особенно после спектакля в Синежтуре, прежняя его драматургическая беспомощность (или – неловкость) нисколько Ковригина не смущала. Спектакль получился, а публикация пьесы в журнале могла стать актом просветительства. Ковригин не выдержал, сам позвонил Дувакину:
– Петя, надобность в пьесе не исчезла?
– Не исчезла.
– Она готова. Сам я приехать сегодня не смогу. Присылайте курьера с принтером и запасом бумаги.
– Завтра к обеду будет, – сказал Дувакин. – Обещают заморозки. Протопи печь. Курьер – существо нежное.
– Кто это ещё? – насторожился Ковригин.
– А тебе-то не всё равно? – принялся похихикивать Дувакин. И чувствовалось, что ехидна-издатель злорадствует по поводу свидания Ковригина с курьером нежных свойств. – Очень, говорит, надобно. А мне-то что? Надобно так надобно. Тем более зачем мне платить деньги наёмному курьеру, если отыскался волонтёр? – Крохобор ты, Петенька! – возмутился Ковригин. – Это что же, я не только протопить печь должен, но и обед сготовить?
– Это уж какой ты есть хозяин!
– Век, Петенька, не забуду! И я тебя обрадую! Есть у текста пьесы особенность. В нём сто двадцать страниц!
Дувакин молчал. «Сейчас ты взвоешь! – думал Ковригин. – Сейчас ты начнёшь плакаться!»
– Замечательно! – сказал Дувакин. – Замечательно! Весь номер отдадим тебе. И пьесу, и «Записки Лобастова» – уместим. Уместим!
– Ну, ладно, – сдался Ковригин. – Пойду спать. Устал…
Спать он, правда, сразу не пошёл. Уселся на крылечке кухни. Перекурил. Невесомые, как в венском лесу, опадали желтые листья…
Было уже темно, но проходивший мимо забора Ковригина человек увиделся ясно. Шел он в плащ-палатке с опущенным капюшоном, но в красной бейсболке, освещал себя и листья под ногами здоровенным фонарём.
После возвращения из Среднего Синежтура Кардиганов-Амазонкин в беседы с Ковригиным не вступал.
46
Утром Ковригин снова увидел Кардиганова-Амазонкина, плащ-палатку тот нынче оставил на вешалке, а прогуливался в синем тренировочном костюме с красными оповещательными словами на груди «Школа олимпийского резерва» и белым на спине – «Бордовских».
– Александр Андреевич, – поинтересовался Амазонкин, подойдя к калитке, – что это вы дрова-то носите? Эвон нынче какая жара!
– Печку протоплю, – хмуро сказал Ковригин. – Обещали заморозки. Профессор по телевизору обещал.
– Это какой профессор? – захихикал Амазонкин. – Это который в прогнозах торгует таблетками от поносов и запоров? А тем, у кого поносы или запоры, не всё ли равно, какая погода на дворе? Нашли кого слушать! Не будет заморозков. Опята вот-вот пойдут…
– Откуда вы знаете? – спросил Ковригин.
– От рыболова слышал.
– Какого рыболова?
– Того, который сидит у бывшей плотины на том берегу пруда под брезентовым шатром. Жаль только цаплю отогнал. А так знает обо всём. И обо всех…
– А с чего вы решили, – спросил Ковригин, – что он рыболов?
– А кто же он, если не рыболов?! – удивился Амазонкин тупости Ковригина. – Он же сидит с удочкой, даже отправлять нужду не ходит. И бутылка при нём. Вчера угостил. Тогда-то и сказал про опят. Я предложил сыграть в шахматы. Он отказался. Боялся упустить стерлядь.
– Понятно, – сказал Ковригин. – Пойду всё же протоплю печь.
– У вас будут гости… – предположил Амазонкин.
– Может быть, может быть… – пробормотал Ковригин, полагая, что на этом беседа с соседом, нынче вежливым и тихонравным, закончится.
Но Амазонкин будто вцепился в штакетины калитки с намерением вымолить у Ковригина нечто важное для себя.
– Александр Андреевич, – произнес Амазонкин искательно. – И она? Не исключено?..
– Не исключено, – важно сообщил Ковригин, – что и она…
И удалился с охапкой дров в дом. Выяснение того, был ли Кардиганов-Амазонкин в Среднем Синежтуре, а потом и в Журино, и если именно он и был там, то как он там оказался и что делал, Ковригин решил отложить. До поры, до времени. Или вызнать об интересующем его без допросов Амазонкина. А вдруг он и сам обо всём проболтается.
Итак, Амазонкин ожидал Её. Но если именно по Её поручению (просьбе) Амазонкин пробирался в Синежтур, он должен был встретиться с Ней с донесением или рапортом. Но, возможно, поводом для его путешествий был иной посыл? И при чём тут «Школа олимпийского резерва» и какой-то (или какая-то) Бордовских?..
– Александр Андреевич! – услышал он крик Амазонкина. – Александр Андреевич! Она прибыла! Какая женщина! Но с ней водитель!
Амазонкин снова стоял у калитки восторженный, но, похоже, и расстроенный. «Не сама ли госпожа Быстрякова вызвалась нас посетить?» – пришло в голову Ковригину. Но сведение о водителе и его расстроило. Обеденные хлопоты на кухне усложнялись. «Ещё и водителя кормить!».
Амазонкин дышал тяжело, но он ведь на самом деле обогнал автомобиль. Или какое иное транспортное средство. Скажем, мини-дирижабль. Отчего бы госпоже Быстряковой и не позволить себе экзотическую прогулку?
Но нет, на улицу Ковригина въехал «ауди-универсал». И курьером вышла из него Натали Свиридова. Водитель, названный Колей, доставил к домику Ковригина коробку с принтером. Свиридова, в белосеребристом плаще, красных сапожках, красном же шёлковом шарфе (русые с медью волосы спадали на плечи), была хороша, и казалось, что унылая пора сумела золотом берёзовых листьев именно для её ног выстелить солнечные тропинки («Фу ты, красивости какие!» – подумал Ковригин). Но он любовался Свиридовой. И был рад ей. Хотя отчасти и растерялся.
– Время обеденное, – сказал Ковригин. – Надо накормить вас.
– Не вздумай хлопотать, – сказала Свиридова. – Мы сытые и не от мира сего. Коля вот яблоками может удовольствоваться и домой их набрать. А я обойдусь без хлеба насущного. У меня талия. И что ты стоишь болван болваном. Иди, чмокни в щёку.
Ковригин подошёл к Свиридовой, чмокнул, но не в щёку, её губы прижались к его губам, их языки нашли друг друга, и приветствие знакомых людей могло продолжиться с метаморфозами. Но Свиридова, будто вспомнив о чём-то или ощутив мечтательный интерес Амазонкина, отстранила от себя Ковригина, чуть ли не оттолкнула его от себя, сказала:
– Ну, здравствуй, Саша! Чмокнул и чмокнул. У меня к тебе дело. Забирай принтер – и к компьютеру. Времени у нас мало.
– Я могу идти? – спросил Амазонкин. Ладони его были всё ещё приклеены к штакетинам калитки.
– Идите! – приказала Свиридова.
– А почему не она… – робко начал Амазонкин.
– На это были причины, – холодно сказала Свиридова.
«Неужели она, – удивился Ковригин, – знает о Лоренце Козимовне Шинэль…»
«Напросилась, – вспомнились Ковригину слова Дувакина. – Сама напросилась».
– Сашенька, я и впрямь спешу. И машина не моя, а Театрального общества. Она ко мне прикреплена, но держать долго я её не могу.
– Ну да, ты же государственный человек…
– Я так забронзовела и постарела?
– Потом отвечу, – сказал Ковригин и отправился к компьютеру.
– Один экземпляр пьесы испеки для меня!
– С чего бы вдруг? – спросил Ковригин.
– Бумаги я привезла много, и я помню машинописный экземпляр сочинения, там над названием «Веселие царицы Московской» ручкой было выведено: «Посвящаю Н. С.»
– И что? – спросил Ковригин.
– Потом ты эти слова зачеркнул и вывел: «Посвящается моему давнему приятелю Ю. Б.» И будто бы передал ему право распоряжаться сочинением.
– Было такое, – кивнул Ковригин. – По пьяни и из сострадания к нищему Блинову. Ты хочешь, чтобы я восстановил посвящение тебе?
– Да, – сказала Свиридова.
– Для тебя это важно?
– Важно, – сказала Свиридова.
– Хорошо, – сказал Ковригин. – А пока гуляй, подставляй лицо солнцу…
– Сначала я всё же прослежу, появится ли посвящение «Н. С.»
Появилось. Ковригин взглянул на присевшую рядом Свиридову. Принтер выталкивал из себя страницу за страницей, и он был принтер-спринтер, через полчаса работу свою должен был закончить, а стало быть, и отпустить Свиридову в Москву или Эдинбург. А Ковригину отчего-то возжелалось, чтобы общение со Свиридовой продолжилось.
– Что ты на меня так смотришь? – спросила Свиридова.
– А как я на тебя смотрю?
– Я и сама не знаю как…
– Просто мне на тебя приятно смотреть, – сказал Ковригин. – И вот ещё такая странность… Последние годы я видел тебя издалека. Из зрительного зала. Или сидя у телевизора. И узнавал о тебе по премьерам. Там ты ВИП-персона. То есть существо чрезвычайно значительное и недоступное, не имеющее возраста или пребывающее в возрасте президента либо губернаторши… Так, ещё пять страниц… Раскладывай… А вблизи ты куда приятнее и моложе…
– Ещё бы! – рассмеялась Свиридова. – Я моложе тебя! – Как это? – удивился Ковригин.
– Я моложе тебя на три месяца, – сказала Свиридова. – Раньше ты помнил про мой день рождения. Теперь забыл. Просто я рано начала. В театр и в кино меня взяли на четвёртом курсе. И вот, видимо, доросла до старух.
– В Синежтуре, в суете, я тебя невнимательно разглядел. Но сейчас разглядываю. Какая же ты старуха. Ты и впрямь моложе меня!
– Подтяжек, кстати, не делала, – сказала Свиридова.
– Тело, лицо и осанка у тебя на двадцать пять лет. Ну, ты и сама знаешь… Я сейчас про другое… – Ковригин явно волновался. – Дувакин сказал, что ты сама вызвалась съездить сюда курьером… Почему?
– Болтун твой Дувакин! – нахмурилась Свиридова.
– Наврал? – удивился Ковригин.
– Ну… – замялась Свиридова. – Ну, не совсем наврал… Но неточно выразился. Ну, напросилась! Хотела тебя повидать. И в себе кое-что проверить…
– Так… – принялся постукивать ладонью по стопкам бумаги Ковригин с намерением придать экземплярам ровность типографской аккуратности. – Закончили. Хороший принтер. Четыре экземпляра. Два мне, один – Дувакину, один – тебе. Давай его.
Свиридова придвинулась к нему, струи её волос коснулись щеки Ковригина, и Ковригин понял, что печь он протопил не зря, Свиридова в его хоромине ночевать останется, и он её желанию противиться не будет, а как и где проведёт ночь водитель Коля (хоть бы и на кухонном диване), это уж его, Колино, дело. Впрочем, присутствие Коли в саду и возможность проявлений настырных интересов Кардиганова-Амазонкина порыв Ковригина пригасили. Он, к удивлению Свиридовой, отодвинулся от неё, быстро надписал на последней странице: «Милой и по-прежнему юной… (над последним словом поразмышлял и выбрал)… Наташке с Трифоновки. А. Ковригин». Свиридову, показалось Ковригину, надпись не обрадовала, будто она ожидала более пылких слов. Или вообще – неизвестно чего…
– По-прежнему юной… Комплимент этот вызван чем? – спросила Свиридова. – Вежливостью? Или милостью к старухе?
Ковригин возмутился. Искренне возмутился. Попытался объяснить своё возмущение Наталье. Да, были годы влюблённости студента Ковригина в студентку же Наташу Свиридову. Судьба столкнула их во втором номере троллейбуса. Ковригин, по утрам направлявшийся со Второй Мещанской в МГУ, на Моховую, садился в троллейбус у Банного переулка. У Рижского же вокзала, остановкой раньше, корму троллейбуса, где удачнее проходили встречи с контролёрами, забивали будущие звёзды театра и кино из знаменитого общежития на Трифоновской улице. Ковригина не раз утренняя толкотня прижимала к рослой щепкинке, русоволосой, с зелеными глазами, у Малого театра она и выходила. Выяснилось, училась она на курсе с одноклассником Ковригина Севкой Лариным. При случае Ковригин не удержался и начал мямлить какие-то слова о девице из Щепки. Выслушав их, ушлый Севка рассмеялся. «Это ты про Наташку, что ли, из Омска? Я тебя поздравляю! Неужели у вас на факультете девок нормальных нет?» – «А эта чем нехороша?» – «Очень многим и для многих хороша! – продолжал веселиться Ларин. – В преферанс прекрасно играет и людьми прекрасно играет. Далеко и быстро пойдёт. В народные артистки пойдёт. Отыщет влиятельного старичка и вперёд!» Ковригин надулся. Хотел было дать приятелю в морду, ну и что вышло бы? «Да не досадуй ты так. Ну, влюбился и влюбился, – сказал Ларин, – пройдет. Я тоже влюблялся в неё, но прошло… Потому как любовь к ней – мыльный пузырь размером с аэростат… И вообще советую тебе наперёд: не связывайся с актрисами, все мы – ненормальные и продажные!»
Однако не проходило. Ковригин ещё долго плавал и кувыркался в перламутровой ёмкости мыльного пузыря. Наваждение наваждением, говорил он себе, но муки любви (да и муки ли это были?) вызывали его удовольствия. Сейчас они и вовсе могли показаться состоянием счастья. Именно тогда он и ринулся в авантюру – сочинять пьесу для Свиридовой. Чем закончилось его безрассудство – известно. Но и после резолюции начинающей звезды наваждение продолжалось. Другое дело, что отлупленный розгами юноша не позволял себе приближаться к Свиридовой. А притихло наваждение, лишь когда Ковригин узнал, что вблизи Свиридовой возник Покровитель или Опекун, удачливый, ноздрями чующий ветры соответствий режиссёр Демисезонов, взявший Натали в жёны. «С этого дяди, – был уверен Севка Ларин, – всё у неё началось и заплясало Камаринскую»!
– Никакой резолюции на твою пьесу я не накладывала, – опечалилась Свиридова. – Извини, Сашенька, я тогда пьесу не прочла… Это была резолюция Демисезонова.
– Опекуна, – сказал Ковригин.
– Если тебе так хочется, то – опекуна, – сказала Свиридова. – Он был опытен и неглуп и много дал мне, провинциальной, но наглой барышне. А то бы я пошла по рукам. Романтики же, вроде тебя, робея, держались от меня подальше. Но он сделал меня и циничной. Твоё право осуждать мои первые киношные и театральные годы.
– Я тебя нисколько не осуждаю! Упаси Боже! – воскликнул Ковригин. – Просто удивляюсь твоей молодости. Говорю же, в последние годы чаще я видел тебя издалека, в серьёзных, порой и возрастных ролях. И ещё – какой-то попечительницей, соправителем фонда, депутатшей, Фурцевой какой-то. А ты же девчонка, почти та же самая, к какой толпа или судьба прижимала меня во втором троллейбусе на Первой Мещанской!
«До судьбы договорился!» – удивился себе Ковригин. А перед тем в запале он чуть было не вспомнил вслух о том, что оценить, как молодо и призывно её тело, он смог еще в гостинице Синежтура. Но замолчал в растерянности, признание его могло оказаться бестактным, не исключено, что Натали, по причине возбужденности местным гостеприимством организма, не держала в памяти никаких знаний о визите в номер Ковригина. Или она до сих пор думала, что посещала Василия Караваева, но не дождалась от него чтения сонетов. Так или иначе, но похвалы её юному облику заставили Свиридову разулыбаться, она даже потрепала короткие волосы Ковригина и заявила:
– Да, Сашенька, мы ещё погуляем, мы ещё поживём без всякой халтуры, без карьерной дури, а просто, как люди-человеки, с любимыми и детишками…
– Кто это мы? – осторожно спросил Ковригин.
– Чего ты испугался? – удивилась Свиридова. – Это не мы с тобой вместе. Это мы с тобой по отдельности. И чтоб у каждого – полная чаша. И гамак в саду. Я закурю?
– О чём ты спрашиваешь? Ты видишь – я одну за одной…
– А теперь, милый Саша, – сказала Свиридова, – поведай мне, пожалуйста, о том, что у вас произошло с Хмелёвой. Что за чудесное путешествие вы с ней совершили. А то ведь узнала обо всём с чужих слов.
Ковригину тотчас показалось, что тихая собеседница, мечтающая об уютах семейной жизни, об изюминах в ромовой бабе, о детишках и гамаке, отодвигается от него в даль грибную, а вместо неё присаживается властная особа, должная государственно знать обо всём и обо всех.
– Тебе это надо? – спросил Ковригин.
– Надо! – резко произнесла Свиридова и так, будто вопросом своим Ковригин её обидел. – Хотя, если не хочешь рассказывать, то и не рассказывай.
– Отчего же… – сказал Ковригин.
И рассказал.
Всё рассказал. Даже то, что не смог бы рассказать Антонине. Чувствовал, что в тесноте его рабочей комнаты возникает напряжение, что исповедь его заставляет женщину, о душевной близости с которой он еще полчаса назад помышлял, воспринимать его слова не просто существом любопытствующим и в нём, Ковригине, заинтересованным, но и будто судьей, праведным и нахмурившим брови. Ковригину бы остановиться, а он выложил всё и даже о предбрачной ночи не умолчал. Стало быть, возникла потребность выговориться, видимо, и потому, что рядом с ним сидела собеседница, вызывавшая не одно лишь доверие, а и ещё нечто важное, чему Ковригин пока не торопился подобрать название.
– Какой же ты шелапутный и ненадёжный друг, Александр, – сказала Свиридова.
– Какой есть! – с вызовом произнёс Ковригин. – И шелапутный, и простак!
Теперь ему захотелось надерзить Свиридовой, этой барыне, явившейся просветить и отчитать холопа.
– Наташа (он чуть было не назвал её Натальей Борисовной)… Я был искренен, – сказал Ковригин. – Всё же разъясни мне, ради чего ты напросилась стать курьером? Чтобы разузнать о нашем с Хмелёвой путешествии?
– И ради этого, – сказала Свиридова. – Известное бабье любопытство.
– Ну ладно я, – сказал Ковригин. – Я-то ещё могу оказаться тебе полезен. А Хмелёва?
– Мне понравилась девочка. Я обещала ей поддержку. Но её жизнь – её жизнь. А ты-то чем можешь оказаться мне полезен?
Следующие слова Ковригин долго считал одними из самых дурацких слов в своей жизни.
– А твои надежды на пьесу о Софье! – воскликнул он. – Не хочешь ли, чтобы на этот раз я вызвался стать для тебя душкой-опекуном, способным помочь продолжить подъём к вершинам?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































