Текст книги "Лягушки"
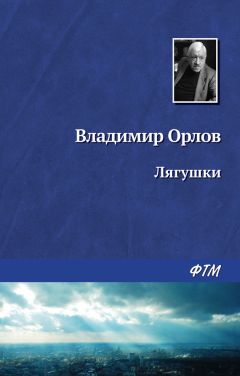
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 50 страниц)
– Это ты говоришь мне?
– Тебе! – не мог остыть Ковригин.
Свиридова вскочила, но сразу и утихомирила себя, нервические движения её снова стали степенно-пластичными.
– Дурак ты Ковригин, – сказала Свиридова. – Ещё и возомнил о себе. И ведь сам знаешь, что пьеса твоя слабая, неуклюжая, с оттопыренными боками, так, вываленный на бумагу материал, и если бы не эти чудики из Синежтура, о твоей писанине никто бы и не узнал…
– Извини, Наташа, – мрачно произнёс Ковригин. – Действительно, я не прав. Пьеса моя дрянь. Я бездарен. Чьим-либо опекуном или хотя бы поводырем стать не способен.
Свиридова стояла к нему спиной, застёгивала пуговицы серебристого плаща.
– Я писал дурацкие «Записки Лобастова» с рекламой дирижаблей, – сказал Ковригин, – и в сотый раз загонял себя в камеру самобичевания. Бездарь я. И теперь раздражение на самого себя срываю на тебе. Извини.
Свиридова застегнула пуговицы, повернулась к Ковригину. Густые волосы её по-прежнему спадали на плечи идеальными волнами («Пользуйтесь шампунем „Амаретто“»), пахли орехами, глаза были сухими (а с чего бы им повлажнеть?).
– Я прочитала «Записки Лобастова», – сказала Свиридова. – Была в редакции Дувакина, узнала о них, попросила дать почитать…
Ковригину бы промолчать, но разумного человека в нём одолел нетерпеливый автор свежего текста.
– Ну и… – в волнении произнёс он.
– Я смеялась. Очень смешно, – сказала Свиридова. И заулыбалась.
«Всё-таки как хороша, плутовка!» – подумал Ковригин.
– Особо близки мне две твои коллизии, – сказала Свиридова. – Мне бы сыграть в комедии. Хорошей. Ведь была кто-то, для кого Шоу написал «Пигмалион». А у меня… Так уж повелось, что я со студенческих лет играю трагических либо революционных дам. Будто я вторая Пашенная. Будто я родилась в кожанке и только для того, чтобы стать Любовью Яровой, комиссаршей с комиссарским телом, а теперь ещё и бабой с митинговой кастрюлей. А тут я вижу, ты мог бы написать для меня легкую комедию. Или даже текст для мюзикла. Пристыженный было Ковригиным скандалист, в угол на колени им поставленный в ожидании бича, ожил, привскакивая, начал кривляться.
– Ну вот! – обрадованно заявил Ковригин. – Одно к одному. Сначала пьесу о Софье. Потом – комедию. «Пигмалион». Бездарь, но на что-то может пригодиться.
– Всё. Хватит, – сказала Свиридова. Вышла на крыльцо и выкрикнула: – Николай! Запрягай кобылу!
Ковригину же сказала:
– Хмелёвой при встрече передай от меня. Талант легко и погубить. И надо быть самой поклонником своего таланта.
– Передать не могу, – сказал Ковригин.
– Отчего же?
– Хмелёва пропала.
– То есть как?
– Пропала и пропала, – сказал Ковригин. – Провели мы с ней ночь, сходили в ЗАГС, расписались где надо, и через два часа она пропала. Просила не искать. Но её ищут. И Острецов. И театр. И милиция, по запросу родителей. Но её нигде нет. И нет никаких документальных подтверждений, что она вообще была на Земле.
– И ты ищешь?
– Нет. Не ищу. Просили не искать. Да и в любом случае не стал бы искать.
– Вот тебе раз… – пробормотала Свиридова, и было видно, что новость удивила её всерьез. Свиридова присела даже. «Наталья Борисовна, я готов!» – услышано было из сада. Свиридова ответила вяло: «Сейчас иду…»
Но встала.
– Ковригин, в Москве обязательно доберись до Напрудной башни Ново-Девичьего. Посмотри, что там пишут на стенах…
– Непременно, Наталья Борисовна, – сказал Ковригин.
Вышел все же к калитке проводить гостью.
– Дувакин говорил, что пьесу намерен публиковать с твоим предисловием. В этом нет необходимости. И оно вряд ли было бы уместно рядом с посвящением…
– Да пошло бы твое посвящение! И пьеса твоя! И Дувакин твой! – дальше взлетели в выси выражения эмоционально-актерские, заставившие загалдеть ворон на тополях и берёзах.
– Чтоб и вам хотелось! – этими словами проводил Ковригин курьерский автомобиль.
47
Этими же словами Ковригин напутствовал полный стакан коньяка, отправленного им в глотку и подтверждённого куском сёмги холодного копчения с долькой лимона в обнимку. Сёмга, небось, была заводского происхождения, откормленная черт-те чем, из какого-нибудь фиорда вблизи Ставангера или Тромсё, а не наша, мезенская. Для продолжения хода и зигзагов мысли Ковригину пришлось налить ещё полстакана коричневой жидкости и докатиться до соображения, что и коньяк, и сёмга были закуплены им в «Алых парусах» на Большой Бронной в те самые минуты, когда Хмелёва уже «пропала», то есть отправилась (ушмыгала) неизвестно куда. «Надо же, какие временные совпадения случаются в мире, – думал Ковригин. – Марина Мнишек проживает в Самборе невестой в ту же пору, когда Рубенс предпринимает карьерные ухищрения в Риме, чтобы пробиться из обслуги сильных мира в равные с ними. И вот ещё одно совпадение – этот коньяк, фабричная сёмга и пропажа Хмелёвой…»
Тут Ковригин заснул.
И, естественно, не знал, что в Москве посетившая его Натали Свиридова не спит, заснуть не может (и не заснула), а плачет, порой и ревёт.
Ей было горько. Ей было стыдно. Ей было жалко себя.
В последние недели в ней возникли странные надежды. Её тянуло к общению с Ковригиным, явным шалопаем, а по московским слухам, вертопрахом и эгоцентриком, от того и ходит в холостяках. Ей хотелось видеть его. Беспрестанно хотелось. Конечно, в желании общаться с Ковригиным не исключалась и корысть. А вдруг он и впрямь напишет для неё пьесы, скажем, о Софье и легкомысленно-трогательную комедию, её комический дар не был проявлен ни разу, и это угнетало её, ей надоело ходить в веригах мужественных или мужиковатых «дам», с печальными судьбами, их драмы, сливаясь с её судьбой, корёжили её натуру. А она была когда-то пусть взбалмошной и капризной, но домашней девчонкой, и мечты о комфортах семейной жизни с верными людьми вокруг в ней пока ещё теплились. Конечно, пьесу о Марине Мнишек она разругала несправедливо и в раздражении. Да ещё и повторила чужие оценки. Конечно, пьеса вышла с нарушением приличий жанра, но Хмелёва Марину сыграла! Да ещё как! Впрочем, все эти корысти с упованием на выгодные роли, как понимала теперь Свиридова, были лишь по-женски лукавыми подходами к объекту известного интереса, в них размещались оправдания её тяги к Ковригину, и именно не как к литератору, но прежде всего – мужику.
Тело её вспоминало (часто и с охотой теперь вспоминало) о тех самых мгновениях, какие пришли на ум и Ковригину. О тех самых, когда утренняя толпа в троллейбусе номер два прижимала их друг к другу, а она и не думала отстранять от себя длинного ушастого парня или тем более кулаки выставлять защитой от его касаний, ей было сладко, ей было наплевать на людей вокруг, и были случаи, когда их молчаливое сближение кончалось оргазмом. А познакомились они года через два, и Ковригин, студентик с журфака, даже в разговорах с ней держался так, будто между ним и ею (её телом) был ров шириной в версту. А потом, года через три (она уже стала звездой), Натали после ужина в ЦДРИ заскочила в вечерний троллейбус всё того же Второго маршрута и увидела в пустом салоне Ковригина, ей тут же захотелось спрятаться хоть бы под сиденье. Или улететь куда-нибудь. Она отодвинулась от Демисезонова, он стал ей противен. И сама она была противна себе.
Но, впрочем, может быть, в троллейбусе сидел и не Ковригин, а Васенька Караваев, писавший ей сонеты. Да, и сколько других Васенек (и солидных Василиев Васильевичей) возникало в её блистательной молодости! В молодости всё же! А сейчас, стало быть… А сейчас гордая женщина напросилась отправить её к Ковригину курьером. И такой конфуз. Да ещё и с базарными криками. Конечно, ревность вынудила её расспрашивать Ковригина о путешествиях с Хмелёвой, и вовсе не Хмелёва интересовала её, за неё беспокоиться не стоило, эта девонька своего добьётся… Хотя, когда Ковригин заявил о пропаже Хмелёвой, Свиридова удивилась…
А Ковригин – хорош гусь! Самобичевания, несовершенство, одиночество! А она-то, Наталья Борисовна Свиридова, не обречена, что ли, на недовольство собой и одиночество?
Всё, сказала она себе. Хватит. Очередной щелчок судьбы получен. Можно жить дальше, ты – сильная женщина, и у тебя есть дела поважнее, чем промокать лицо подушкой. Тебе тридцать четыре. Вытри слёзы, опухшая ты никому не нужна.
Дела обнаружились с первым телефонным звонком.
– Здравствуй, Наташенька, солнце моё! – забасил Громов, кинорежиссёр из Первых, с «Никами» и «Золотым орлом». – Что ты сопишь? Простудилась, что ли? Или свиной грипп?
– Типун тебе на язык! – воскликнула Свиридова. – Нос пудрю!
– Это замечательно! – сказал Громов. – У меня к тебе предложение. Оно тебя удивит. Но выслушай…
48
А Ковригин всё же был вынужден отправиться в Средний Синежтур.
Но прежде пошли опята. И явились они именно в дни, обещанные Амазонкину рыболовом. Амазонкин синим утром и разбудил Ковригина, вскричав из-за забора: «Опята вылезли!» Четверговый посёлок был почти пуст, соперников не следовало опасаться, и Ковригин двинулся в лес не спеша. В ельнике, уже возле Леонихи, из ореховых кустов вырос Амазонкин и спросил, похоже, с надеждой: «А она не сестра Лоренцы Козимовны? Как похожа-то!» «Нет, не сестра!» – грубо ответил Ковригин. «А жаль», – расстроился Амазонкин, и Ковригин вскоре увидел брезентовую спину Амазонкина с провисшим капюшоном, быстро удаляющуюся в сторону заовражных просек с животворными пнями.
Сам он вслед Амазонкину не поспешил, а решил осмотреть березовый колок на опушке ельника, где с десяток лет назад пронырливые люди поставили методистскую церковь, позже сгоревшую, и где он, Ковригин, в детстве, в июльскую жарищу набирал землянику на варенье (с шеи его на веревке свисала литровая стеклянная банка), и где в поздние летние дни в траве водились лисички, сыроежки, подгрузди, а то и белые.
Стволы шести берёз были облеплены опятами. Должен заметить, что осенние опята, в особенности солёные или маринованные, не являлись любимыми грибами едока Ковригина. Скажем, жарёхи – летние опята, они же говорухи, или лисички, и уж, конечно, подосиновики и белые – были куда милее Ковригину. Но охота за осенними опятами и даже ожидание их для садоводов-москвичей, как и для жителей окрестных деревень, были делом непременным, обрядовым, захватывающим и азартным. Только недотёпы и убогие люди могли пренебречь осенней охотой и заготовкой грибов на зиму (особенно в годы пустынь в магазинах). Их сушили, солили, мариновали, жарили и укладывали в морозильники для новогодних застолий (разогреть их – и к сосудам). Ковригина же в дни явления опят гнали в лес эстетические соображения. Он и когда белые находил, не сразу срезал боровик, а если тот был живописно расположен в траве или под кустом, или сам по себе вырос хорош, подолгу разглядывал гриб и сверху, и с боков, до того радостно было на душе.
И теперь он присёл на землю и любовался разнообразием творений природы. Обычно опятами был обилен южный берег оврага (бывшего Зыкеева пруда), там они росли на пнях вырубок. Оттуда до Ковригина доносились сейчас голоса грибников с их восторгами и испугами (потерялись), лай собак. Здесь же пней не было, и опята расползлись по стволам деревьев серокрапчатыми букетами, цвели под золотом листьев, радовали Ковригина причудами своих сообществ.
Но проходившие метрах в двадцати от берёз парнишка и две женщины с корзинами в руках встревожили его. Да и козлоногий мужик, виденный Ковригиным в здешних кущах и дебрях, неизвестно чем пополнявший топку своего живучего организма, вряд ли имел причины побрезговать дарами Зыкеева леса.
Ковригин обязан был поблагодарить свою рассеянность. В здоровенном пластиковом мешке, пригодном для переноса мусора, обнаружился второй мешок тех же достоинств, прежде им незамеченный. И столько было нарезано и наломано Ковригиным опят, что не лишним оказался бы и третий мешок. На соседних берёзах уже лезли вверх малыши, крепенькие, с ножками в два сантиметра и головками с канцелярскую кнопку. Ковригину было жалко разрушать узоры-кружева осенних построений, но он был возбуждён азартом добытчика. Он даже попытался привязать платком нож к ореховому пруту – не до всех опят мог дотянуться…
Остановился, лишь когда оба чёрных мешка были забиты грибами. Платком же сцепил мешки и взвалил их на плечи. Ощутил себя Вакулой, ещё не озадаченным мыслями о черевичках. Мысли у него были приземленно-житейские, в горячности удачи возникло желание совершить вторую ходку в лес. Теперь уже с тремя мешками, секатором на длинном шесте, с веревками или – лучше! – с кушаком.
Откуда-то из елей выдвинулся Кардиганов-Амазонкин с лукошком, полным опятами.
– Коли бы не рыболов, – сказал Амазонкин, – мы бы оплошали.
– Может быть, – сказал Ковригин. – А стерлядь он поймал?
– Поймал! Ему да и не поймать!
– А он кто, рыболов-то? – спросил Ковригин.
– Не знаю, – сказал Амазонкин. – Поймал стерлядь и уехал.
– Куда?
– Не знаю! – рассмеялся Амазонкин. – Я к стерляди не допущен. А чтой-то вы столько опят набрали? Пожадничали? Не подумали, что вам придётся обрабатывать их всю ночь?
И унёсся к садам-огородам с лукошком в руке.
«Он-то за полчаса лукошко одолеет! – подумал Ковригин. – А мне и ночи не хватит…» Желание возвращаться в лес с новыми мешками тотчас пропало.
Матушка держала в хозяйстве ванну неизвестного происхождения. Ванна была заведена для хранения в ней подарочно-падшего навоза. Были сезоны, садоводы и огородники с ведрами и скребками ходили по тропам коровьего стада и конных пастухов с подпасками. Ковригина с Антониной мать не раз отправляла в экспедиции за испускавшими ещё пар удобрениями. Навозом Ковригин давно не увлекался, овощи и картошку проще было закупать в магазинах, ванна лежала в сарае пустая и чистая. Ковригин высыпал в неё опята из мешков, они разместились в ванне с горкой. Вёдер шесть, не меньше…
Темны в конце октября вечера, и холодна вода в трубах поселковой водокачки.
– Что делать, Тонь? – спросил Ковригин.
Спросил так, будто полчаса назад он говорил с сестрой о мелком житейском затруднении, а ничего серьёзного в их отношениях не было.
– А что такое? – встревожилась Антонина.
– Опята пошли, – сказал Ковригин. – Мне подфартило, и я по жадности нарезал шесть вёдер. Они молоденькие, чистые, но вода холодная. Я, конечно, готов просидеть ночь на кухне, очистить грибы, но дальше-то с ними что делать?
– Очисти, промой, – сказала Антонина. – А я с утра приеду.
И приехала. День опять был сухой, безветренный, и Антонина сняла не только куртку, но и зелёный свитер, в желании подставить тело солнечным лучам, но долго прохаживаться в топ-маечке не смогла. Ветерок с северовостока иногда приносил студёные воздушные струи.
– Гладкая ты стала женщина, гладкая, – оценил сестру Ковригин. – Отъелась…
– А сам-то! – отмахнулась от него Антонина. – И ещё навязываешь мне тонну опят… Кстати, чего это ты не убрал колышки с верёвками?
– Времени не было, – сказал Ковригин. – Дувакин озаботил заказами.
– Петечка рассказывал. Говорит, ты испёк шедевр. Почитаем. Так. Пойдём на кухню. У меня немного времени. Надо ещё школьников забирать домой.
– Машину можешь взять, – сказал Ковригин. – Мне она не нужна. Я – пешеход.
– Ты что, не увидел мой автомобиль? – удивилась Антонина. – Я сейчас разъезжаю на «ситроене» Прохорова. А он в командировке. Заканчивает объект. Надо полагать, секретный.
О подруге и дизайнерше Ирине Ковригин спрашивать не стал. Да и не успел бы. Шагнув в домик кухни, Антонина чуть ли не рухнула, издав вскрик то ли радости, то ли ужаса. Тазами с мытыми опятами кухня была заставлена.
– Ну, ты, Ковригин, даёшь! И это ты всё набрал?
– За час, – сказал Ковригин.
– Сам-то хоть жарил?
– Большую сковородку, – сказал Ковригин. – И рис отваривал. Объелся.
– Хорошо. Готовить буду в Москве. Для тебя заморожу. Давай погрузим в багажник, и я полечу. Приехать смогу теперь лишь в воскресенье. У Серёжки занятия и по субботам. А к воскресенью все опята выберут. Досадно.
– Звери, – сказал Ковригин.
– Кто звери?
– Те, кто заставляет детей сидеть в лицеях по субботам.
– Да! Погоди! Ты просил узнать у Прохорова про журинские картинки и рассказы отца. Я звонила Прохорову. Ничего вспомнить он не мог. Мол, весь в запарке и куче дел… Сказал только: «Черёмуховая пасть»!
– Какая такая черёмуховая пасть? – удивился Ковригин.
– А я почём знаю, – сказала Антонина. – Прохоров будет звонить, переспрошу. Бегу. Только бы в пробку не попасть. А ты что, снова поедешь в Синежтур?
– С чего ты взяла?
– Дувакин сказал.
А уж грибы были уложены в багажнике.
– Пусть сам и едет, – проворчал Ковригин.
– А как твоя привозная невеста? – спросила Антонина. – Как протекает её беременность? Нормально ли? Съязвила всё-таки…
– Она мне не невеста, – нахмурился Ковригин. – И она не беременна. А сейчас она вроде бы пропала.
– Вот как! – удивилась Антонина.
Какие чувства возникли тут же в благородной нынче Антонине, вызнавать Ковригин не стал. Да и не смог бы. То ли сострадание к лопуху-братцу, то ли, напротив, радость в связи с освобождением его же от чар (оков) несомненной авантюристки и пройдохи. Антонина обняла брата и расцеловала его. С минуту они стояли, прижавшись друг к другу, растроганные, очищенные от скверны сегодняшним примирением. Обиды и досады отлетели от них.
– Ну, ладно, ладно, – заспешила Антонина. – А то я сейчас слёзы пущу.
И укатил желтый «ситроен».
«Что-то я должен был запомнить… – соображал Ковригин. – Черёмуховую пасть. Вот что!»
Теперь он был уверен, что слышал эти два слова от отца. Но о чём они, вспомнить не мог.
Ночное бдение с грибами заставило его придремать, но утром азарт снова погнал его в лес. В лесу было, как на Тверской. Знающие места люди из ближайших посёлков Троицкого и Любучан заготовки на зиму произвели. Сейчас же прочёсывали лес любители из здешних садово-огороднических товариществ с собаками, гостями и малышами дошкольных лет. В общем люди бестолковые. Разговаривали громко и нагло, этакими хозяевами природы, часто матерились, пили пиво из горла и швыряли бутылки и жестяные банки на землю. Доводилось Ковригину в этой толкотне что-то срезать или сорвать, как тут же вблизи него возникала стая нахальных рыл, посчитавших, что и им тут от леса достанется. «Нет, всё, домой, – решил Ковригин. – Это не лес, это очередь в общественный туалет». Последняя мысль показалась Ковригину странной или даже коряво-боковым отростком странной мысли. Но прогонять её он не стал. А в пакете у него уже ждали кухонных преобразований килограмма два опят, увы, переросших, и штук двадцать чернушек средних величин, то есть с блюдце в окружности.
Опята были поджарены, чернушки отварены в подобающем солевом растворе, Ковригин ими закусил жидкости, так и не изошедшие и не испарившиеся со дня посещения им с красавицей Хмелёвой храма гражданских состояний, улёгся в мечтаниях на диван и стал слушать музыку позднего Римского-Корсакова, у кого в учениках ходили Стравинский и С. С. Прокофьев. Мечтания же его были кратковременные и мелкосрочные, не уходили в туманы дальше завтрашнего дня, а завтра Ковригин положил себе валяться на диване в тепле, лениво шевелить пальцами ног, ощущать себя симбирским помещиком Обломовым и читать приятные тексты. Какие же такие приятные тексты? Увидел на подоконнике стопку книг и на корешке одной из них слова – «Царевна Софья и Пётр. Драма Софьи». «Чур меня! – выругался Ковригин. – Нарочно, что ли, подсовывают? Ну, нет, никаких Софий и Петров»! Несколько лет назад на чердаке Ковригин откопал восемь томов, приобретённых, видимо, дедом, Салтыкова-Щедрина, изданных в 1918 году на дешёвой газетной бумаге, теперь жёлтой. С ятями и прочими приметами ушедшего времени. Вот завтра и можно было бы получать удовольствие, перечитывая, скажем, «Губернские записки» молодого Михаила Евграфовича, увлечённого в ту пору текстами Гоголя… К деяниям бессмысленным его призвал звонок из Москвы.
– Сан Дреич! – услышал он. – Опята-то прошли. А ты не появляешься. В гости не зовёшь, опятами не угощаешь. Так ты держишь слово. Или ты накормлен и обласкан курьерами?
– Марина, ты, что ли? – не сразу сообразил Ковригин.
– Я! А кто же?
Марина была секретарём издателя Дувакина.
– Дувакин вас ещё не разогнал?
– Он бы и разогнал! – обрадовалась Марина. – Но нас спас благодетель. Ты, Сан Дреич. Деньгами обеспечил и порадовал читателей. Читали, читали мы Лобастова. И ржали.
– Так уж и ржали? – позволил себе высказать сомнение Ковригин.
– Ты гадаешь, с чего бы я тебе звоню. Соскучилась, не вру. Но звоню я по приказу и поручению свирепого Петра Дмитриевича.
– Это что за приказ и поручение?
– Отправить тебя в командировку в Средний Синежтур. Выправить тебе проездные, суточные, квартирные, представительские. Выяснить, на сколько дней ты отправишься и как – поездом, самолётом…
– Дурижаблем, – сказал Ковригин.
– Каким дурижаблем? – удивилась Марина. – Ах да, «Записки Лобастова»…
– Его на днях не забирали в дурдом? – поинтересовался Ковригин. – А потом не выпустили ли на выходные? Этого вашего Петра Дмитриевича?
– Он так и думал, что ты его сразу обхамишь, – вздохнула Марина. – И бросишь трубку. А потому и попросил меня упредить твой гнев и упрямство.
– Считай, что упредила, – сказал Ковригин. – А этот рыцарь сидит небось рядом с тобой?
– Угадал, – сказал Дувакин. И сразу перешел в атаку: – Ты лучше скажи, что ты наговорил благороднейшей и прекрасной Наталье Борисовне Свиридовой?
– Что думал, – сказал Ковригин, – то и наговорил.
– Не знаю, не знаю, – сказал Дувакин. – А только, когда она доставила твою пьесу, вся дрожала и была в гневе!
– Вся дрожала и пьесу швырнула тебе в лицо в справедливом гневе?
– Ну, это я так, образно говоря… – сказал Дувакин. – Но предисловие к твоей пьесе писать она отказалась и потребовала снять посвящение Н. С.
– Посвящение – не её дело. Это дело автора, – сердито сказал Ковригин.
– Ладно, – сказал Дувакин. – Но тебе нужно срочно ехать в Синежтур.
– С чего бы это? – удивился Ковригин.
– Синежтур бурлит и жаждет тебя линчевать. Ты лишил город его гордости и всеобщей любимицы, актрисы Хмелёвой. Каким-то образом стало известно о твоем с ней путешествии в Москву.
– И какой же мне резон привозить самого себя на суд Линча? – спросил Ковригин.
– Ты увёз, ты и должен вернуть. Или спасти. Если, конечно, не трус.
– Это чьи слова «если не трус»? Твои или ещё кого-то? – спросил Ковригин.
– Это мнение Синежтура. И Острецова, в частности. – Острецов, как ты помнишь, – сказал Ковригин, – побывал у меня со своими подносами. Проведя перед тем следственные действия и изучив документы. Я ему выложил всё, о чём знал. Но у него засело в голове, что в Журине, в замке, кто-то сидит в тайнике, ему недоступном, и временами тяжко воет, и этот кто-то – Хмелёва. И еще засело в сознании Острецова, что именно я способен проникнуть в застенки…
– Знаю, знаю, – сказал Дувакин. – Вот и съезди. Хоть на два дня. А в командировочной бумаге цель назовём – очерк о синежтурских подносах.
– Потом вы дадите репортаж с картинками о расправе надо мной, – сказал Ковригин, – на Площади Каменной Бабы и увеличите тираж журнала…
– Не шути так, – сказал Дувакин. – Ты нам нужен как автор «Записок Лобастова».
– Ты представляешь, Петя, – сказал Ковригин, – сколько дней звучат стоны и вопли в простенке, где нет ни кухни, ни отхожего места…
– Как ты поедешь? – спросил Дувакин. – Можешь чартером, на самолёте Острецова…
– Петя, – сказал Ковригин. – Я, между прочим, лекции должен читать. Цикл их… Как раз время подошло.
– Должен тебя огорчить, – сказал Дувакин. – Я звонил твоему ректору Лукину, и он мне сообщил, что у них учебный процесс сдвигается, из-за гриппа, из-за масок, из-за кризиса, ещё там из-за чего-то, и тебе влезать на кафедру придётся в лучшем случае через месяц. Так, как ты будешь добираться до Синежтура?
– Дирижаблем, – сказал Ковригин.
– Хорошо, передам Острецову про дирижабль…
Ковригин в сердцах выключил мобильный.
И всё же Ковригин полетел в Средний Синежтур. Обычным рейсом. Из Домодедова.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































