Текст книги "Лягушки"
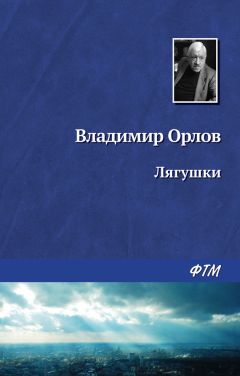
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 50 страниц)
41
«Мы длинной вереницей идем за Синей птицей…»
Но отдыхать долго Ковригину не дали.
Длиной вереницей за Синей птицей шли грузди, боровики, подосиновики, чуть отставшие от них подберезовики, подгрузди, маслята, лисички, волнушки, поддуплянки и прочие, в порядке соответствия вкусовым привязанностям Ковригина. Шествие грибов получилось многоцветным. Сама Синяя птица Ковригину не снилась. Возможно, это был не прилетевший пока дирижабль.
Что значит – не снилась? Не виделась. Ковригин уже не спал. Он дремал. По нужде выскочил из дома во двор, сейчас же вернулся в дом, нырнул в нагретую постель, с головой под тёплое одеяло, и задремал.
Блаженное состояние!
Безделье! Главное сейчас – безделье! И никаких дирижаблей и царевен Софий Алексеевн!
И тогда можно было забыть на время о растрате энергии, всякой, какая в нём, Ковригине, была, и о депрессии.
«Мы длинной вереницей идем за Синей птицей…»
И будто бы сейчас выпевал эти слова отец…
Спектакль МХАТа Ковригин почитал, но и школьником относился к нему как к несомненно мемориально-музейному показу. Дважды его водили на «Синюю птицу», случалось это в зимние каникулы на праздничные утренники, а какими бывают актёры в часы похмелья – известно, но Ковригин допускал именно к мемориалу – снисхождение. Для отца же, в его детстве, «Синяя птица» была живым действом, и её героям отец сочувствовал куда больше, нежели оступившемуся пионеру из дяди стёпиного морализаторства под названием «Красный галстук».
«Опять меня будто что-то втягивает вовнутрь отца (в шкуру отца – думать было как бы пошло), в мир его жизни и ощущений. Надо советоваться с врачами, – расстроился Ковригин. – Странность какая…» Видимо, он, рассудил Ковригин, был невнимателен к сути отца и матери, в высокомерии собственных устремлений и упований, жил эгоистом, да еще и в лёгких полётах упоительных фантазий не принимал всерьез земных мытарств отца с матерью («Эта серость – не моё. Я-то проживу иначе!»), а потому был виноват перед ними.
И Ковригин затосковал.
Стал укорять себя, бранить себя, размышлять о бессмысленности своего существования.
Звонок Дувакина не изменил его настроения. А Дувакин принялся извергать восторги. Прежде он, правда, осторожно поинтересовался:
– Ты как?
– Никак, – простонал Ковригин.
– Ну, значит, жив. И это хорошо. Тебя никто не посещал?
– Марина заезжала за рукописью, – вспомнил Ковригин.
– Это позавчера. А я про вчера и про сегодня… Ну, ладно… А рукопись я твою прочитал. Ты – гений!
– Я бездарь! – воскликнул Ковригин. – Бумажки мои разорви и сожги. Жаль, что нет проблем с туалетной бумагой.
– Бумажки твои пойдут в набор. Почему не сегодня? Сегодня они у госпожи Быстряковой. И надо будет поторговаться. Возможны большие выгоды. А у тебя, Саша, приступ самобичевания. Это мы проходили! Твоя вещь будет существовать сама по себе, вне связи с каким-либо заказом. Это литература. И читатель потребует её продолжения.
– Даже если ты уговоришь меня дать согласие на публикацию, – мрачно заявил Ковригин, – денег за эту чушь я брать не буду.
– Экие вы, Александр Андреевич, богатые. И кокеты. Вчера писал себе в удовольствие. Нынче устал и в истерике. Головку тебе надо погладить. Не хочешь, не бери. Но мы-то, коли сумеем сохранить журнал, по требованиям авторского права обязаны будем начислить тебе гонорар. И делай с ним что хочешь, стены им обклей…
– Какая же я скотина! – чуть ли не взвыл Ковригин. – Выслушиваю твои слова и не выключаю мобильник… Все ручки и карандаши в доме перекарёжу и пойду в таборы к таджикам или молдаванам. Хоть бы землекопом.
– С твоим телосложением, – сказал Дувакин, – ты можешь пойти и в стриптизёры… Но лучше начинай писать пьесу про Софью, и тебе будет не до самобичеваний. Хотя дела могут отвлечь тебя от письменного стола…
– Какие ещё дела? – возмутился Ковригин.
– Серьёзные люди ищут интересующую их вещь. Или особу. Слава Богу, что ты успел передать свой текст нам.
– Это юмор? – спросил Ковригин.
– Не совсем, – сказал Дувакин.
– Они пытали тебя, и ты на дыбе выложил, где я есть?
– Ну… – замялся Дувакин. – Пытать не пытали. Но дали понять… В пытках не было и нужды, они и так добыли сведения о твоей берлоге…
– Ну и хорошо, – сказал Ковригин, – своим графоманством я заслужил возмездие по справедливости судьбы.
– Ты прямо Сумароков. Или хуже того – Еврипид! – возрадовался Дувакин. – Кстати, откуда ты взял чертежи и рисунки для текста?
– Не имеет значения, – сурово произнёс Ковригин. – И не я взял, а Прокоп Лобастов.
– Не имеет так не имеет, – согласился Дувакин. – Они хороши, но как бы ими не заинтересовалась военная цензура.
– Ну и пусть интересуется…
– Да… Ты ещё и капризен в своем самобичевании. И оно, похоже, продолжится… Придётся навестить тебя с увещеваниями… Если только…
– «Если только тебя оставят в живых…» – Ковригин хотел было закончить эдак слова Дувакина, но был остановлен нервическими восклицаниями издателя.
– Да, Мариночка, понял, сейчас беру… Извини, Саша, по городскому звонит Быстрякова…
А Ковригин понял, что самобичевание его происходит не только с капризами, но и впрямь с кокетствами блондинки, а когда энергия в нём восстановится, ему станет стыдно и он снова усядется за письменный стол. Если, конечно, его не отвлекут от житейских и профессиональных забот всерьёз.
И надо будет продумать, как вести себя с людьми, ищущими интересующую их вещь или особу. При этом хорошо было бы узнать, с кем придётся вести разговоры – с важной персоной или с его служивыми псами.
Врать Ковригин не хотел. Да и не умел, враньё его было бы моментально распознано. Если, конечно, разыскивали вещь, то и врать или фантазировать не пришлось бы… Но если – особу… Тут возникли бы затруднения. Особа эта раздосадовала Ковригина, можно сказать, обидела, поставив в глупейшее положение. Но она по-прежнему была симпатична ему. Да если бы уже и не была симпатична? Даже не зная её замысла, обстоятельств, от которых она желала освободиться, рассказав хоть долю правды, Ковригин мог бы потерять лицо, нарушить приличия мужика, а женщину погубить (вполне допустимо, что здесь он заблуждался).
Но так или иначе он стал пособником затей Хмелёвой. И если ищут её, ему не поздоровится. Церемонии с ним разводить не станут. И позвать на помощь некого. Посёлок стоял почти пустой.
«А не уйти ли в лес?» – подумал Ковригин. «В партизаны, что ли? – тут же спросил он себя. – Нет, дойти через Леониху лесом до Алачкова, это километров пять, а там – электрички, ветка на Михнево, и покататься электричками по Московской области с ночёвками на вокзалах…»
Мысль эта показалась Ковригину трусливо-постыдной. Коли в чём виноват – отвечай. К тому же бегство вышло бы поступком дурака. Всё равно изловили бы.
«А-а-а! Будь что будет!» – решил Ковригин.
А это «будет» очень скоро на двух джипах почти бесшумно подъехало к забору Ковригина. Трое мужчин вылезли из них и ступили на землю садово-огороднического товарищества издательства «Перетруд». Дверь калитки они не открывали, а стояли перед ней смиренно, ожидая приглашения войти в сад. Ковригин рассмотрел их из дома, вздохнул и предложил гостям войти. Первым шагнул за калитку Острецов. Следом за ним прошествовали два молодца в чёрных котелках и чёрных же перчатках, одеждой и манерами схожие с людьми свиты принца Флоризеля из сериала с Олегом Далем. Сам Острецов выглядел не столь живописно, как Флоризель, наряд имел строгий, классический, будто бы намерен нанести официальный визит. Возможно, после разговора с неразумным Ковригиным ему и предстоял именно официальный визит.
– Даже и не знаю, куда пригласить вас, Мстислав Фёдорович, – размышлял Ковригин. – В комнатах теснота и беспорядок. Если только на террасу…
– Согласен и на террасу, – кивнул Острецов.
«И терраса у нас убогая», – словно бы только сейчас сделал открытие Ковригин. Единственно – в ней приятно пахло осенними яблоками, разложенными на диване.
– Да, тесновато у вас, – сказал хозяин усадьбы Журино.
– И чем угостить вас, не знаю, – чуть ли не Плюшкиным пробормотал Ковригин. А ещё оставались у него в холодильнике додирижабельные деликатесы и напитки из «Алых парусов» с Большой Бронной. Но он не знал вкусов гостя.
– Да вы не суетитесь, Александр Андреевич, не хлопочите, – сказал Острецов.
«А ведь и вправду суечусь, – сообразил Ковригин, – будто угодить значительному человеку жажду. Будто я трус и мошенник с холопской натурой».
– Это мы должны были приехать к вам не с пустыми руками, – сказал Острецов. – Но мы и приехали не с пустыми руками. Цибульского!
Один из свитских (или кто он там при принце Флоризеле) стоял на террасе, ноги расставив и руки в перчатках держа за спиной, возможно, готовый уберечь шефа от каких-либо неожиданных покушений на него Ковригина. Второй прохаживался в саду возле калитки. Эстафетой прокричали они: «Цибульского!» – и из второго джипа выскочил знакомый Ковригину Цибульский, распорядитель вроде бы второго сорта, обиженный пьяной паспортисткой, якобы назвавшей его Цибулей-Бульским, неловко и с напряжениями вытащил из машины здоровенный ящик, в метр высотой, сбитый из досок, с железной ручкой-скобой, и, согнувшись в усердии, поволок ящик к дому. Человек у калитки помогать ему не стал. Не свитское это было дело.
– Вот, – трудно дыша, доложил Цибульский Острецову. – Открывать?
– Подожди, – сказал Острецов.
Цибульский снял плащевую накидку, и обнаружилось, что он нынче во фраке с фиолетовой бабочкой на белоснежной манишке. И этот был готов к официальному визиту?
«Так… – соображал Ковригин, стараясь выглядеть спокойным. – И Цибульского прихватили для верности обвинений… Племянничек его, если тому верить, усердствовал в День бракосочетаний и не мог не запомнить озабоченную пару, в особенности приезжую невесту Елену Михайловну Хмелёву. Сейчас последует распоряжение открыть ящик, и в нём обнаружатся походные орудия пыток, дыба складная или даже гильотина, и та опустится на шею Александра Андреевича Ковригина по делам его грешным…»
– Уважаемый Александр Андреевич, – чуть ли не торжественно произнёс Острецов.
Он встал, а свитский и Цибульский замерли. Острецов был ростом с Ковригина, но тонок и шею имел длинную, отчего казался верзилой. Болельшики схожих с ним футболистов называли гусями. Но этот гусь был барин. Коротко стриженный нынче, с наползающим на лоб жестким русым клином, он вызывал мысли об известных по скульптурным портретам древнеримских полководцах. Ему бы длань сейчас простереть над посёлком садоводов и огородников.
– Уважаемый Александр Андреевич, – повторил Острецов, – вы оказали нашему городу честь, предоставив право постановки вашей пьесы и оживив культурную жизнь Среднего Синежтура.
«Экий подход с лентами и бантами к ледяной сути дела, – подумал Ковригин. – Но комедия вряд ли выйдет долгой…»
– Александр Андреевич, – продолжил Острецов, – в Синежтуре времени у вас было в обрез. Вы ненадолго заходили в наш музей и интересовались там искусством косторезов. А у нас в городе не проживают ни слоны, ни моржи. У нас главное – металл, чугун, железо. В спешке вы не обратили внимания на то, что наиболее примечательный отдел музея был закрыт. А там – литьё, ковка, разные поделки, в их числе и курьёзные…
– Самовары, замки, засовы, оси для телег, а какие прекрасные сечки для рубки капусты, – встрял в слова Острецова патриотом металлических изделий Цибульский, при этом для Острецова он остался невидимым и немым, а свитский взглянул на него так, будто цыкнул, и Цибульский, пробормотав: «Извините, не по чину…» – притих и ужался.
– А потому, Александр Андреевич, вы не увидели синежтурские подносы, их сотворяют здесь с восемнадцатого века, они не хуже жостовских, они – особенные, я их люблю и пытаюсь возобновить наш промысел, но в стране о нём мало знают. И я посчитал, коли вам будет приятно, презентовать вам четыре наших подноса. Не покажутся вам они – выбросьте, сдайте в металлолом…
– Да что вы! – воскликнул Ковригин. – Конечно, будет приятно. Заранее благодарен!
– Цибульский, открывай! – распорядился Острецов.
И ящик был открыт.
– О тесноте я посетовал не ради унижения вашего жилища, – сказал Острецов. – Синежтурские подносы крупнее жостовских, в сантиметрах – шестьдесят на восемьдесят, а то и посолиднее. И на них – не цветы, а сюжетные композиции. Сюжеты – местные, исторические, с аллегориями, их надо бы рассматривать не спеша и со вниманием. Манера лаковой живописи на них следует традициям лубка и примитива. Ванников, будь добр, помоги Цибульскому.
То есть стены и подставки под картины были заменены руками Цибульского и свитского Ванникова. Первым был показан поднос с сюжетом историческим. «Император Александр I посещает завод в Среднем Синежтуре». На зеркале подноса в левом его углу восседал император, а местные заводчики, чиновники и купцы, вытянувшись во фрунт, с почтением выслушивали слова Александра. За окном виделась Падающая башня и водная гладь, надо полагать, Заводского пруда. «Ба, а наш-то Острецов, пришло в голову Ковригину, похож на императора, такой же клин некогда золотистых кудрей, такие же залысины… Не зря, наверное, привезён в подарок именно этот поднос… Не зря, но с какой целью?»
А владелец заводов и замка подскочил к Цибульскому, из важной персоны и занудливого экскурсовода превратился в живого человека, увлечённого милым его душе промыслом, похоже, был готов приласкать представленных Ковригину персонажей, а императору Александру взъерошить остаток кудрей.
– Вот смотрите, Александр Андреевич, – с воодушевлением заговорил Острецов, – в каталогах пишут: железо, ковка, живопись, лак… И всё. А какая прелесть! Как точно выписаны костюмы, их подробности, позы и осанки времени… На таких подносах приносить к столам яства нельзя. Неловкость вышла бы… Дальше, Цибульский!
Новый поднос был с батальной сценой, опять же взятой взаймы у истории. Хотя, как сказать… Воинство, и конное, и пешее, разноцветное, неслось на врага, отступавшего за края подноса. Впереди мчалась всадница с саблей в руке, ярким пятном пламенел её красный гусарский костюм.
– Без вашей пьесы, – тихо произнес Острецов, – не возник бы в Синежтуре этот сюжет… Дальше, Цибульский!
Дальше было представлено шествие лягушек. Все они были зелёные и передвигались, похоже, без давки по коричневой глиняной тропе. Шёл дождь.
«Мы длинной вереницей идем…»
Птица на подносе была не синей и без крыльев, похожей то ли на заградительный аэростат-колбасу, то ли на дирижабль, то ли на не существующее пока средство передвижения. А может быть, и вовсе не воздушный корабль ждал прихода путешественников, а некая особенная лаборатория. «Лабораторные животные» – вспомнилось Ковригину. На одном из домиков вдоль тропы Ковригин углядел будто бы размытое: «ресторан»…
– Это идея Цибульского, – пояснил Острецов.
Ковригин с подозрением поглядел на Цибульского. А не этот ли господин по совместительству и есть мсье Жакоб (из Марселя?), владелец ресторана с французской борьбой и шахматными играми? А кто же тогда тритонолягуш Костик?
– Есть такая притча про лягушек, – обрадовался Цибульский. – Сейчас расскажу.
– Не надо, – сказал Острецов. – Нет времени. Четвёртый.
Четвёртый поднос был аллегорией Триумфа. «Победа под Халкин-Голом». В центре подноса нерушимо стоял пограничный столб, но не с союзным гербом, а с двуглавой птицей. На столб пытался залезть явный японец, второй японец, видимо, уже свалился со столба и теперь лежал на спине, сконфуженно улыбаясь. Высокий русский с петлицами на гимнастёрке и малорослый батыр укоризненно грозили японцам пальцами. А вдалеке стеной громоздились танки.
– Взято с подносов о Крымской войне, очень хорошо покупают восточные люди. И те, что южнее Амура. И те, что в океане, – сказал Острецов. – Конечно, наивно, но и в наивности своя прелесть. А колорит какой!
Про танки не было произнесено ни слова.
– Да, колорит… – кивнул Ковригин.
– А форма какая. Края – фигурные, приподняты и отогнуты, по ним вьются рокайльные диковины, и ручки тоже диковинные у наших подносов. Но они, повторюсь, не для застолий. В Музее у нас выставлено сто восемь подносов. Всё это произведения искусства.
– Да как же я смогу принять ваш подарок! – воскликнул Ковригин.
– Сможете, – уверил его Острецов. – Это вещи не музейные и созданы они для вас. У нас хорошее художественное училище, одно из лучших в России, ему за сто пятьдесят лет, зря его теперь обозвали Академией прикладных искусств, но у нас сейчас такое количество Академий, писательниц и баронесс… Преподает рисунок там, кстати, Вера Алексеевна Антонова, на неё вы произвели самое приятное впечатление…
– Поклон ей… – смутился Ковригин.
– И есть в нашем преподношении несомненная корысть. Вдруг вы увлечётесь синежтурскими поделками и в журнале «Под руку с Клио» появится очерк о них…
– Журнал вот-вот закроется, – сказал Ковригин.
– Думаю, нет, – сказал Острецов. – Я посетил Петра Дмитриевича Дувакина и понял, что кризис ваш журнал не погубит. И много надежд на публикацию вашего сочинения о дирижаблях.
– Это ложные надежды, – буркнул Ковригин.
– Во всяком случае, наш презент искренний. И закончим с подносами. Они ваши. Если они, конечно, повторюсь, вам приятны… Перейдём к делам более важным. Вы человек проницательный и, конечно, поняли, что я здесь не только из-за произведений лаковой живописи. Я хотел бы, что бы вы… Как это точнее назвать… Скажем так, проявили понимание и оказали нам содействие…
– В чём?
– У нас пропала актриса, – сказал Острецов. – Елена Михайловна Хмелёва.
42
Ковригин нахмурился.
«Выслушать, – решил Ковригин. – И ни о чём не спрашивать. Сами должны всё выложить».
– Вы, Александр Андреевич, вправе поинтересоваться, почему мы не обращались в милицию с просьбой о розыске.
Ковригин молчал.
– Обращались! – сказал Острецов. – И театр, и частные заинтересованные лица. Розыск с ленцой начали, но деликатно разъяснили, что среди нас нет лиц, юридически имеющих право хлопотать о розыске. Хмелёва – человек взрослый, и следует обождать…
– Есть вроде у неё мать с отцом в Воткинске, – сказал Ковригин.
– Хмелёва пропала, скорее всего, в Москве, – сказал Острецов. – А в Москве были вы…
– Да, я был в Москве, – подтвердил Ковригин.
– Нарушением приличий вышло бы предложение показать мне ваш паспорт, тем более что меня никто и не уполномочивал сделать это. И всё же… Если ваш паспорт здесь, не могли бы вы дать заглянуть в него?
– Отчего же и не заглянуть, – сказал Ковригин. – Сделайте одолжение…
Паспорт лежал в ящике письменного стола, Ковригин не спешил, стоял, перекладывал бумаги и рукописи, ворчал недовольно, будто паспорт куда-то запропастился, был взволнован, что, несомненно, было прочувствовано Острецовым, сейчас бы – в окно, как Гришка Отрепьев, и на литовскую границу! – наконец, поднес документ к глазам и принялся исследовать государственные листочки. И теперь не спешил. И никакого листочка с поминанием Елены Михайловны Хмелёвой не обнаружил.
– Нате взгляните, – Ковригин протянул паспорт Острецову. – Подозрения не соответствуют реалиям. Я для Елены Михайловны Хмелёвой – никто… А о том, что она пропала, я не знал…
Острецов изучил паспорт, поглядел на Цибульского.
Цибульский развел руками.
– Но вы видели её в Москве? – спросил Острецов.
– Конечно, видел, – сказал Ковригин. – Мы прилетели в Москву вместе…
– Обстоятельства вашего путешествия мне известны, – махнул рукой Острецов. – И привратница Роза Эльдаровна в вашем подъезде, дама – чрезвычайно наблюдательная.
«И общительная», – подумал Ковригин.
– Действительно, – сказал Ковригин, – было поздно, город Хмелёва не знала, я её пригласил переночевать в Богословском переулке… Слава Богу, дома у меня в ту пору находились моя сестра Антонина и её подруга…
Острецов будто поперхнулся, закашлялся. Выпив предложенной ему воды, спросил:
– А дальше?
– Утром, пока я закупал продукты в магазине «Алые паруса» на Большой Бронной, Хмелёва из дома ушла. При этом оставила записку со словами благодарности, мол, помог ей не потеряться в чужом городе. Просила её не разыскивать. Затея её мне не ясна. Никаких догадок я не смог выстроить. Но раз женщина попросила её не разыскивать, следствия я не затевал, полагая, что у неё есть долговременные планы, мне не открытые. Не буду врать, Хмелёва произвела на меня впечатление, я мог увлечься ею, но в моём увлечении не было у неё нужды. Я общался с Хмелёвой несколько дней. Ко всему прочему она совместилась для меня с Мариной Мнишек. Судить о её натуре и её проблемах я не могу, вы, синежтурцы, должны иметь более разумные соображения о её действиях…
Острецов снова быстро взглянул на Цибульского, и Ковригин догадался, что Острецова более интерсуют не разумные соображения мелкого администратора, а показания его племянничка. Цибульский опять лишь развёл руками, пробормотав, правда:
– Ничего этакого он не помнит… В ЗАГСе он их не наблюдал…
А ведь кто-то из следопытов вызнал о том, что Хмелёва и Ковригин посещали ЗАГС, но и там, видимо, никаких конфузных бумаг и искомых подписей на них не обнаружили, а в памяти младшего Цибульского впечатления о гражданской записи озабоченной пары отчего-то не задержались.
– Ну, хорошо, – сказал Острецов. – Допустим, Александр Андреевич, всё так и было, как вы описали. Хотя… Ну, ладно. Главное – для меня! – в ваших словах то, что вы не знаете, где искать Елену Михайловну и каковы её намерения…
– А может, и не надо её искать? – высказал предположение Ковригин.
– Для меня, при моих обстоятельствах и чувствах, – строго сказал Острецов, – это просто необходимо. К тому же театр остался без первой своей актрисы, а обещаны гастроли…
От того, что не случилось ни детектора лжи, ни складной дыбы, ни тем более гильотины, у Ковригина, ощутившего вдруг сострадание к Острецову, возникло желание произвести устный выговор самому себе: мол, если бы знал, чем всё обернётся, не проявлял бы себя безответственным простаком (простаком ли?)… Но Острецов сказал:
– Всё. О Хмелёвой достаточно. Ею займутся профессиональные искатели. А теперь, господа Ванников и Цибульский, попрошу вас прогуляться по саду, яблоки откушать. У меня есть необходимость приватно побеседовать с Александром Андреевичем. Если Александр Андреевич не возражает.
– Не возражаю, – сказал Ковригин.
Усевшись за столом на террасе, Острецов ерзал, смотрел на яблони в саду, достал трубку, но не зажёг её и словно бы не знал, с чего начать приватную беседу. Не из-за неё ли он и прибыл в посёлок товарищества «Перетруд»?
– Вы внимательно прочитали записные книжки вашего отца? – спросил Острецов.
– У меня для этого не было времени, – сказал Ковригин. – Полистать – полистал.
– Нашли его чертежи и рисунки?
– Ничего существенного или нового пока не обнаружил… Всё те же сделанные в спешке небрежные наброски…
– Что значит «пока»?
– В детстве я видел почти профессиональные рисунки и чертежи отца. Некоторые из них мне иногда даже снятся. В ту пору мы с сестрой Антониной по подсказкам отца увлеклись игрой в пиратские клады. Здесь же на нашем участке прятали всякие вещицы, игрушки или вкусности, при этом посылали друг другу пиратские письма с чёрными метками и картами предлагаемых поисков. Некоторые тайники были ложными, но в них могли находиться промежуточные записки или подсказки, якобы зашифрованные. Часа по два уходило на игру. Отец при случаях помогал нам выстраивать сюжеты поисков кладов. Тогда он и рассказывал о своих приключениях в дни эвакуации в Журино. Фантазировал, конечно, он вообще был выдумщик. Он мастерил для нас и наших игр макеты дворцовых помещений, цветные, из ватмана и картона. В частности – и подземных ходов, и внутренних потайных лестниц.
– Сколько лет было вашему отцу, когда его вывезли в Журино? – спросил Острецов.
– Десять.
– То есть он был не младенец, а осознающий реалии жизни человек. Это существенно. Макеты не сохранились?
– Сам бы хотел увидеть их, но не нахожу. Может быть, их забрал Прохоров, муж сестры, он архитектор. Но и не обязательно…
– Позвоните ей! – чуть ли не приказал Острецов.
Это «позвоните!» покоробило Ковригина.
– Сейчас мы с ней в конфликте, – сказал Ковригин, – и я не могу позвонить ей… Скажу только, что отец с таким увлечением и точностью рассказывал о дворце, что я будто сам путешествовал рядом с отцом по всем закоулкам здания… То есть даже и не рядом, а происходило как бы совмещение меня с отцом… Иногда мне даже казалось, что именно я и был в эвакуации в Журино… Странные ощущения, странные…
– Это важно, – быстро сказал Острецов. – Очень важно.
– Так что я, пожалуй, сам мог бы составить вразумительные чертёжики…
Ковригин быстро сходил за листами бумаги и фломастерами. Рисунок вышел у него моментальный и не корявый.
– Вы, естественно, знаете, что дворец состоит из двух зданий – замка и усадебного дома. А между ними – стена. На самом же деле – две стены, а между ними простенок. С тайниками, секретными комнатами и прочим. Ну, вы сами знаете…
– Нет, о тайниках простенка не знаю, – сказал Острецов, и было видно, что слова Ковригина его удивили и взволновали. – И архитекторы не обратили на это внимания. Дармоеды!
– Я уже рассказывал вам, со слов отца, что в начале войны в замке проживали молчаливые мужчины в штатском и чем-то там занимались. Эвакуированных же разместили в приречном усадебном доме. Потом суровые мужики замок покинули, осталось их с десяток. Думаю, что их занятия на судьбу простенка не повлияли. Он существовал изначально. Я… то есть отец с двумя своими ровесниками, если ему верить, обследовали подземные ходы к реке и к замку, а в особенности – башни и чердаки, и в простенок проникали, и хотя сообразили, как и куда из него выходить, два или три раза чуть ли не остались в нем замурованными. Я помню… то есть не я, а отец, как… Чёрт-те что! У меня какая-то блажь. Или болезнь. И надо идти к психиатру!
– Это не блажь и болезнь, – сказал Острецов, – это способность, данная судьбой. Вы ведь были и Колумбом, и Мариной Мнишек, и собираетесь стать царевной Софьей. Это – радость, и это неподъёмная для других ноша. Вы обязаны – и сейчас же – поехать вместе со мной в Синежтур.
– Вы, Мстислав Фёдорович, возможно, полагаете себя всесильным повелителем, а меня держите за желающего услужить вам. Может быть, и ящик с подносами доставили сюда в качестве предоплаты за мои услуги. Если это так, прикажите Цибульскому отнести ящик в автомобиль. Кстати, кто в вашем городе тритонолягуш? Острецов будто отшатнулся от Ковригина. Глядел на собеседника с испугом. Прошептал:
– Не знаю, что вы имеете в виду… Но я не…
Потом, похоже, пришёл в себя. Заговорил спокойнее, но иногда всё же с горячностью:
– Уносить ящик с подносами нет надобности. Это – не предоплата. Это дань города творцу, подарившему нам радость. Дань с надеждой на то, что вы, Александр Андреевич, когда-нибудь ещё раз погостите в Синежтуре и посетите наш музей. И прошу извинения, прощения даже, за свою бестактность. Я, видимо, действительно избалован своими деньгами. И желаниями многих услужить им. Простите ради Бога! А горячность моя вызвана странным обстоятельством, возникшим в Синежтуре. Пропала Хмелёва, и именно мне приписывают её исчезновение, будто я и есть чудовище, запершее Хмелёву в потайных подвалах, чтобы не сбежала в московские театры, а ублажала с другими крепостными актёрами исключительно меня, и наконец, произвели меня в Синюю Бороду, пятнадцатый век какой-то, а к тому же у меня и жён-то не было…
– А в чём необходимость моего срочного приезда в Синежтур? – спросил Ковригин.
– В упомянутой вами стене, то есть, оказывается, в простенке, завелось какое-то существо. Он то ли молит о помощи, то ли смеётся или даже издевается над кем-то. Чем оно там питается и дышит, неведомо, но оно живое. Хмелёву вы видели в Москве, найдены и другие свидетели её пребывания в столице, но тут-то она и пропала. Хотя доступа за заборы Журинской усадьбы нет, в Синежтуре укоренилось мнение, что в замке в воспитательных целях прикована к камням и замурована хотя бы на время именно Хмелёва. И главный злодей во всей этой истории я. Раз человек обеспеченный, владелец заводов и замка, значит, он и злодей. Это главное доказательство моей вины. Клянусь вам, я никого на цепь не сажал и не замуровывал. Тем более Хмелёву, которую я не только почитаю, но и…
– А от меня-то что в этих обстоятельствах зависит? – выразил удивление Ковригин.
– Понимаю, что моя репутация и мои чувства от вас на расстоянии, как от Земли до Сатурна, – вздохнул Острецов. – Но неужели вам совершенно безразлична Хмелёва? Хотя, конечно, вы любите другую женщину…
– Какую другую женщину? – чуть ли не испугался Ковригин.
– Вы сами знаете какую…
– Не иначе как каменную бабу с привокзальной площади Синежтура, – предположил Ковригин. И сейчас же пожалел Острецова. – Мне вовсе не безразлична судьба Хмелёвой. Но с чего вы взяли, что у вас томится или сама забавляется Хмелёва? У вас есть специалисты и уникальные инструменты, вы из космоса можете вызнать, кто там завёлся у вас в стене.
– Есть и специалисты, есть и всяческие устройства, – согласился Острецов, – но никакого толка от них пока нет.
– А мне-то зачем к вам ехать? Не для экскурсии же в заново открытый отдел металлических поделок и не для восторгов по поводу подносов, засовов, замков и сечек?
– Вы себя недооцениваете, – сказал Острецов. – Мы проверяли. Вы на самом деле обладаете способностью совмещения с натурами интересующих вас людей, недавних ваших современников, а порой – и личностей исторических. С напряжениями, конечно, ваших чувств. Эта способность – рискованная, на острие ножа, вы редко ею пользуетесь. Но в нынешних наших с вами обстоятельствах вы, совместившись с сутью вашего отца, сможете проникнуть в открытый им… вами… простенок. Тем более что ни в одном из архитектурных чертежей авторов проекта никаких простенков нет.
– Нет, – сказал Ковригин. – В Синежтур я с вами не поеду. У меня сейчас много дел. К тому же я устал, и у меня скверное настроение. Хандра.
– Ну, что же! – встал Острецов. – Унижать себя уговорами я не стану.
– Полагаю, что ваши специалисты разберутся во всём расторопнее и толковее меня. А за подносы ещё раз спасибо, – сказал Ковригин, – я их отвезу в редакцию «Под руку с Клио». Там на стенах им найдётся достойное место.
– Александр Андреевич, – тихо и, пожалуй, печально произнёс Острецов, – как бы не пришлось вам потом пожалеть о своём отказе участвовать в поисках Елены Михайловны…
– И Вера Алексеевна Антонова считает, что Хмелёва изюминой запечена в стене? – задумался Ковригин.
– С ней у меня разговоров не было. Я передам ей от вас приветы. Если вы, конечно, не возражаете…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































