Текст книги "Лягушки"
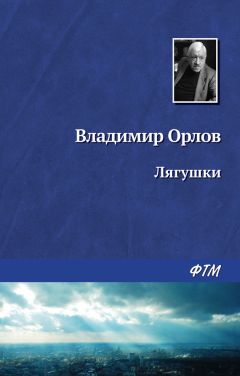
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 50 страниц)
– Буду вам очень признателен…
И минут через пять джипы бесшумно и как бы кротко отъехали от калитки Ковригина.
43
«Больше недели без еды и жидкостей! Цепью прикована в простенке! – размышлял Ковригин. – А на чистейшей репутации Острецова расплываются пятна. Чушь какая!»
Вовсе не собиралась, полагал Ковригин, Елена Михайловна Хмелёва возвращаться в Синежтур и уж тем более – к цепям секретных комнат.
Впрочем, пойми попробуй направления мыслей нынешних баб и их игры!
Сюжет приключений синежтурской примы, на время пожелавшей стать и китаянкой, толкованиям не поддавался.
Но, может быть, сюжет этот он, Ковригин, принялся толковать неверно. Или не с того бока. Следопыты Острецова наверняка всё разнюхали о пребывании Хмелёвой в квартире в Богословском переулке, возможно, и записки её нашли, а Острецова для какой-то собственной пользы интересовал сейчас человек, способный вспомнить путешествия своего отца по каменным коридорам замка?
Тогда получается, что Хмелёву отловили в Москве и специально поселили в каземате приманкой для человека, необходимого Острецову (по его ошибочной блажи) для решения его проблем и загадок. Но и это было бы глупостью. А Острецов не давал поводов думать о себе как о чудовище. Или как о личности неразумной. А если он Хмелёву ещё и истинно любил, то устраивать выгодные ему опыты он мог только с её согласия. И, конечно, с обеспечением комфортного пребывания Елены Михайловны в простенке, то есть с подачей туда еды и питья, с устройством там хотя бы душа и туалетов местного водоканала.
Нет, решил Ковригин, в Синежтур и Журино его не заманишь.
Возбуждение, вызванное визитом господина Острецова (мог бы явиться в лосинах, в охотничьих сапогах, со стэком в руке), прошло, и Ковригин снова затосковал. К подвигам призвал мобильный. По дороге к мобильному Ковригин вдруг понял, что на свете есть только две дамы, разговоры с которыми не вызвали бы сейчас его раздражения. Одна из этих возникла в его сознании неожиданно, и уж совсем неожиданно стала равнозначною с сестрой Антониной.
Это соображение удивило Ковригина и чуть ли не расстроило.
Нет, звонил мужик, и именно издатель Пётр Дмитриевич Дувакин.
– Ковригин, ты спишь? – спросил Дувакин.
– Нет, – сказал Ковригин. – Я выторговал для стен редакции «Под руку с Клио» четыре подноса, они побогаче жостовских…
– Что ты несёшь! Какие подносы! – обиделся Дувакин. И тут же прокричал: – Тебя прочитала Быстрякова! Пляши! Она в восторге!
– Значит, она дура! – сказал Ковригин.
– Она не дура. И она красавица.
– Вот и женись на ней, – сказал Ковригин. – А я не разрешаю печатать моё дерьмо.
– Завтра нам необходимо подписать контракт. Спасём журнал. Если он, конечно, тебе дорог. И тебе заплатим за твоё, как ты считаешь, озорство.
– Платить за озорство безнравственно, – сказал Ковригин.
– Хорошо, не будем тебе платить. Как скажешь, – Дувакин произнёс это голосом психотерапевта, посчитавшего необходимым успокоить пациента. – И фамилию твою снимем. Заменим псевдонимом. Как скажешь, так и будет.
Ковригин не ответил. Молчал.
– Быстрякова желает с тобой познакомиться, – сказал Дувакин.
– Какие у неё глаза? – спросил Ковригин.
– Зелёные! – обрадовался Дувакин. – Изумительной красоты глаза!
– Зелёные… – пробормотал Ковригин. – К одному случаю – зелёные, к другому – фиолетовые, к третьему – дымчатые, нынешние линзы это позволяют…
– Что ты там бормочешь? – обеспокоился Дувакин. – Я плохо слышу…
– Это я так… – спохватился Ковригин. – Как же она не дура, если она приняла всерьёз все мои шальные выдумки?
– Она всё поняла, – сказал Дувакин. – Она – смешливая, с чувством юмора, от твоих страниц получила удовольствие. И им совершенно не нужны истории воздушных аппаратов и фантазии по поводу будущих межгалактических путешествий. Я не знаю их планов и расчетов, но вижу, им нужна реклама в самом неожиданном виде. Помнишь «Серенаду солнечной долины»? Что это, как не реклама нового горнолыжного курорта? Но какая!
– То есть я дорос до уровня рекламщика? – сказал Ковригин. – Ну, Петя, спасибо! Но я не продаюсь.
– А что ты думаешь о Глене Миллере? – спросил Дувакин.
– Музыка живёт сама по себе, – сказал Ковригин. – Она не подвластна никаким заказам. И кем-то выведено: «Музыка – предел объяснения мира». А слова – грешны, блудливы и корыстны. Мне плохо сейчас, потому что я не понимаю, ради чего живу и зачем что-то писал и пишу.
– Ты влюбился в синежтурскую приму, – сказал Дувакин. – А она тебя отвергла.
– Если бы… – вздохнул Ковригин. – Если бы…
– Да… – протянул Дувакин. – Случай запущенный. Придётся завтра или послезавтра заехать к тебе и поглазеть на подносы.
– Если желаешь потратить время впустую, – сказал Ковригин, – приезжай…
– Вдруг, кстати, пойдут опята…
На опятах разговор и был закончен.
Ковригин позавидовал женщинам. Тем вольно было бы сейчас уткнуться носами в подушки и пореветь от души. Или хотя бы похныкать. Всё легче бы стало. Он ходил по саду, под деревьями, колышки его не раздражали, денег на постройку нового дома всё равно не было ни у него, ни у Антонины. Ходил и повторял: «Бездарь! Бездарь! Бездарь!».
А если бы и не бездарь?
Если бы его сочинения были блестящие, умные, с остротой свежайших мыслей, заставляющие удивляться, относиться к ним с почтением и ушлых профессионалов, и простака-обывателя с Мещанских улиц?
Что бы тогда изменилось?
Вполне возможно, что и ничего.
И в медную категоричность его оценок своей личности врывались недоумения и растерянность соображений.
И самым талантливым людям, известно, присущи часы сомнений и самобичеваний. Только для самодовольных дураков хороши все их дела и опусы. Чего же он-то разнылся? Но через месяцы, а то и через годы ему приходилось перечитывать свои битые розгами тексты, и к нему являлось удивление: «А ведь ничего. Неплохо. И не стыдно…» Но необходимо было время, чтобы успокоиться и найти разумные доводы себе в оправдание. Сейчас же Ковригин успокоиться не желал. Сам понимал, что ему сладко ощущение (впрочем, и раньше так бывало) одиночества неудачника, кого никто не любит и кого никто не может искренне пожалеть. Подносами он награжден. Вот и всё. Но как награждён? Будто подачка ему доставлена со сверхзадачей. Вынудить его услужить журинскому барину, исполнить для того технический трюк. Шиш! Пусть сам поползает по винтовым лестницам и в подчердачьях!
«По каким винтовым лестницам, в каких подчердачьях! – тут же как бы удивился Ковригин. – Нет, записки отца надо упрятать куда-то с глаз долой».
«Я – промежуточный человек, – решил Ковригин. – Вот кто я».
Промежуточный человек! Прежде такая оценка собственной натуры Ковригину в голову не залетала.
Ну, ладно. Ну, бездарь. Ну, промежуточный человек. Ладно. Сиди себе, коли ты мужик, тихо, помалкивай, постанывай по поводу своих несовершенств, ты же обречён быть одиноким, и не загружай своими вселенскими печалями других людей. Петю Дувакина, в первую очередь. У него дела, что ли, лучше твоих? Ты-то – вольный наездник, можешь топором разнести письменный стол и пойти в грузчики или пекари. А Пётр Дмитриевич – невольник, ответственный за судьбу своего детища, издания, в пору разливанного моря бескультурья и наглости, несомненно полезного.
Кроме всего прочего, он, Ковригин, не только публично постанывал, не только нагружал Дувакина своими проблемами, но и явно выкаблучивался, выкобенивался и капризничал. И где же тут логика? Раз признал себя бездарью и графоманом, отчего же не отдавать в печать свои тексты, если они кому-то приглянулись, а Дувакину были необходимы для дела?
И всё же понимал, что особенности его натуры не позволят ему сейчас же перебороть собственную гордыню и упрямство и хотя бы приняться за чтение материалов о царевне Софье.
А вечером на редакционном автомобиле прибыл в посёлок Пётр Дмитриевич Дувакин.
К тому времени Ковригин протопил печь. С полудня подул Сиверко, гнал облака со студёной картины Остроухова, застелил садовые дорожки и землю под яблонями мокрыми жёлтыми листьями берёз. Берёзы раскачивались, в средних своих ветвях – пока зелёные и густые. Но были в саду уже и другие цвета – покраснели листья черноплодной рябины, багрянцем вились плети дикого винограда, совсем лимонными стали лианы актинидии. Капли дождя холодили голову Ковригина, и не исключалось, что к утру они станут мокрым снегом.
– С ночёвкой или с деловым издательским набегом? – спросил Ковригин.
– Как скажешь…
– Печь протоплена, в комнатах тепло и пахнет дымком.
– Ну, значит, с ночёвкой, – сказал Дувакин.
Был отпущен водитель с указанием прибыть за начальником завтра в двенадцать.
– Ну, пойдем посмотрим твои подносы, – сказал Дувакин.
В напряжении чувств находился Пётр Дмитриевич, посчитал Ковригин. Разговор с ним был для Дувакина важен, но он, видимо, побаивался резкостей Ковригина, какие могли привести к долговременным обидам или даже к разрыву отношений.
– Пойдём. Но прежде хоть чем-нибудь украсим стол, – сказал Ковригин.
– Здесь есть, – Дувакин похлопал по чёрному, кожаному боку «дипломата», – если не для украшения стола, то хотя бы для его уважительного состояния…
– Сейчас я наберу на кухне, в холодильнике, закуску, – сказал Ковригин. – Впрочем, прежде я могу экспонировать в Детской комнате синежтурские подносы.
И он притащил с террасы ящик, сбитый из досок, и расставил в Детской подносы.
– Скатертью я устилать стол не стану, – объявил Ковригин. – Но мы можем разместить напитки и закуску на одном из подносов.
– Да ты что, Ковригин! Кощунство предлагаешь! – возмутился Дувакин. – Это ведь и впрямь произведения искусства!
– Ты уверен в этом? – спросил Ковригин.
– Уверен! – решительно заявил Дувакин. – К тому же выйдет нарушение требований жанра.
– Каких требований жанра? – удивился Ковригин.
– По легенде Литинститута, – сказал Дувакин, – шалый, но изобретательный студент Николай Рубцов при торжествах души снимал со стен коридоров в общежитии портреты классиков – Пушкина, Лермонтова, ещё кого-то, относил их в свою комнату и пил, чокаясь с ними. Это и называлось – пить с портретами. А ты предлагаешь пить не с подносами, а пить с подноса…
– Действительно, эко я попал впросак… – сказал Ковригин. – Ну, всё. Кушать подано.
А Дувакин ходил от подноса к подносу, губами шевелил, высказывался:
– Именно произведения искусства. Примитивного, простодушного, смешного, схожего с лубком, но искусства.
– Замечательно, – сказал Ковригин. – Но давай устраивайся на диване. Рюмки на своём месте.
Дувакин, спохватившись, вспомнил о предназначении «дипломата» и достал бутылку коньяка «Старый Кёнигсберг». А уже украшала низенький столик, бывший детский, запотевшая бутылка «Флагмана».
44
– И кто же одарил тебя столь ценным презентом? – спросил Дувакин.
– Господин Острецов, – сказал Ковригин. – Предприниматель и меценат. Владетель замка Журино. Если, конечно, он и есть владетель. Его презент. Якобы за мои культурологические опусы. Он читает «Под руку с Клио». И якобы за честь, оказанную Синежтуру, предоставлением права на постановку «Маринкиной башни»… Но есть тут некая уловка. Или ловушка. Я должен для господина Острецова нечто в Журине отыскать… То есть ему так хотелось бы… Давай выпьем. И вот вдогонку шпроты и вот селёдка с луком…
– Считалось, что синежтурский промысел лаковой живописи утих ещё в конце девятнадцатого века, – отправив селёдочный кус в желудок, заговорил Дувакин, – а он, оказывается, жив…
– Не иначе как стараниями мецената Острецова. Не бескорыстными. Нынешние подносы, в особенности с сюжетами «броня крепка, и танки наши быстры», охотно, с его слов, покупают в странах Тихоокеанского бассейна. Японцы берут и подносы с пейзажами. Так я думаю. Вот этот, коричневый с зелёным, поход лягушек, – явно для них.
– Мы длинной вереницей идём за Синей птицей, – пропел Дувакин.
– И мне эти слова пришли в голову, – сказал Ковригин.
– И что это за птица такая? – задумался Дувакин. – Явно не синяя.
– Откуда я знаю, – сказал Ковригин. – Может, воздушный корабль, дирижабль, предположим, старомодный, – раз похож на сигару. А может, и какая несусветно-межпланетная посудина, ковчег какой-то для переселения в благостные просторы.
– Слушай, Сашка! – в воодушевлении воскликнул Дувакин (а и ещё выпили). – А эта-то картина украсит твой текст! Дадим в цвете!
Он сейчас же замолчал, глядел на Ковригина настороженно, в ожидании, что приятель его возмутится и заявит, теперь уж окончательно, что печатать своё дерьмо никому не позволит.
Но не последовало от Ковригина окончательного заявления.
– И что ты будешь делать с этими подносами? – спросил Дувакин. – Где разместишь?
– Это я объяснил и господину Острецову, – сказал Ковригин. – Принять его презент я отказывался. Но в связи с тем, что он читатель «Под руку с Клио», я пообещал передать подносы журналу для украшения стен, если там посчитают это приемлемым.
– Посчитаем! – воскликнул Дувакин, глаза его горели. – Конечно, посчитаем!
Тут же он, видимо, сообразил, что столь пылкое выражение радости подтвердит мнение о нем как о человеке с руками загребущими. (Впрочем, чьё мнение? Сашки Ковригина, который и так знал о нём всё, как о куре в ощупе, да и какой издатель мог существовать нынче без рук-то загребущих?) Но так или иначе Дувакин замялся, рюмку с водкой поднёс ко рту и принялся проявлять великодушие и даже широту натуры.
– Спасибо! Спасибо! Завтра же обрадуем коллектив. Но ты себе хоть один поднос оставь. Вещи ведь музейные!
– Н-е-е-е-т! Ни единого! – заявил Ковригин, угощая себя красной рыбой. – А музейные подносы, числом – сто восемь, висят именно в музее Среднего Синежтура.
– Ну, вот хотя бы этот с вереницей и воздушным кораблём. А то совесть будет меня угнетать…
– И этот пусть будет у вас, – сказал Ковригин. – Тем более что с него вы намерены делать иллюстрацию к запискам Лобастова…
Слова последние по своей воле, не спросив разрешения у Ковригина, вылетели из него.
– Значит, ты даёшь добро, – вскричал Дувакин, – на публикацию записок Лобастова! Так понимать?
– Завтра решу, – пробормотал Ковригин. – На предварительных условиях. Гонорар брать не буду.
– Какие мы щепетильные! – усмехнулся Дувакин. – А рыбу красную едят. Малосольную! Гонорар-то тебе будет платить журнал, а не Быстрякова, не её фирма и фонды.
– Но откуда у журнала деньги возникнут? Не от сил ли неведомых, не от крыс ли каких водяных или тритонолягушей?
– Ты, Ковригин, меня обижаешь! – запыхтел Дувакин и резко отодвинул от себя рюмку с водкой. – И надоел ты со своими капризами! Зря я отпустил водителя с машиной. Уже темнеет, и вряд ли я доберусь до электрички. Но, наверное, как-нибудь доберусь. Всё. Противно. Буду искать новых авторов и инвесторов.
И Дувакин встал.
Вскочил и Ковригин. Дувакин обижался редко, но сейчас, видимо, обиделся всерьёз, и, стало быть, в их многолетней дружбе мог случиться обрыв.
– Погоди, Петя, погоди! – поспешил Ковригин. – Печатайте все мои тексты, как сочтёте это нужным. Я сам себе противен в своих раздрызгах и капризах. Я – промежуточный человек!
– Что значит – промежуточный человек? – Дувакин присел.
– А то и значит, – сказал Ковригин. – Живу чужими жизнями. Оказываюсь ещё и толмачом этих чужих жизней и получаю за это деньги. Стыдно.
– Шекспир рассказывал чужие истории. Фёдор Михайлович отыскивал сюжеты в газетных публикациях…
– Ты, Петя, хватил! – вскричал Ковригин. – Они-то – кто? А я всего лишь Ковригин. Популяризатор.
– Не вскипела ли в тебе, Саша, планетарная претензия? – сказал Дувакин. – После спектакля в Синежтуре? И чем же плохо или постыдно популяризаторство? И Моруа был популяризатор. Чем он плох? Представляю, каким надменным творцом ты выслушивал просьбы господина Острецова.
– Его просьбы как раз и были связаны со вторичностью моей натуры.
– То есть?
– Ему взбрело в голову, – сказал Ковригин, – что я могу совместиться с личностью моего отца. Острецов уверен, что я в Журине вспомню всё мне рассказанное, во мне возродятся ощущения отца, подробности его воспоминаний, и я помогу разгадать некую тайну. Главное, я дал ему повод так считать… В Журине я был в первый раз, но почувствовал, будто бы это не я хожу по замку, а мой отец, то есть я, но внутри сути моего отца…
– Но ведь ты и сам говорил, что тебя заносило в тела и души Колумба, Рубенса и уж, конечно, Марины из Самбора…
– Ну… – смутился Ковригин. – В тех утверждениях – преувеличение и бахвальство. Хотя… Во всяком случае там ситуации были мысленные, известные по свидетельствам и документам или созданные моим воображением, я мог быть в них свободен. Сейчас же Острецов желает вогнать меня в болезненную реальность, чуть ли не в шаманство, а тут и до дурдома недалеко… Но я не намерен скакать в чьей-то длинной веренице. Я – человек. Я – самодержавен. То есть моя держава во мне самом. И никто не может меня купить или заставить делать что-либо, для меня неприемлемое…
– Хорошо! Хорошо! – взволновался Дувакин. – Успокойся, Саша, успокойся!
Дувакин явно встревожился, как бы Ковригин не распалился вновь и не отменил своё согласие на публикацию «Записок Лобастова». Но опасения его вышли напрасными.
– Саша! – воодушевился Дувакин. – Тебя всегда тянуло к действиям авантюрным! К приключениям! Вот и поезжай в Синежтур. Я тебе командировку с бонусами оформлю по поводу открытия публике синежтурских подносов. Могу и фотографа послать. В придачу. И не возникнет неловкости явиться пред очи господина Острецова. Или ты боишься?
– Я ничего не боюсь, – мрачно сказал Ковригин. – Но не люблю, когда меня дурачат. Не собираюсь стать вспомогательным инструментом в руках Острецова.
– И не становись! Будь похитрее его! – воскликнул Дувакин. – Вот ты полагаешь себя промежуточным человеком. А ты не будь им. Хотя многие творческие люди – именно промежуточные. И в этом ничего унизительного нет. Но ты-то желаешь жить самодержавно. Или самоуправно. И живи так. А случай с Острецовым, его замком и крепостной актрисой может попасть в строку. То есть, если всё сложится удачно, продолжить самым неожиданным образом поэму о дирижаблях. Озоруй, играй! Некто Диккенс чуть ли не год носил в газету главы о некоем мистере Пиквике, и для меня – это лучший роман Диккенса. Ты же дерзай! К тому же твой Лобастов высказал предположение, что часть лаборатории из усадьбы Воронцова была перед подходом Бонапарта отправлена обозом к востоку от Москвы. Подумай, тут может быть лихая сюжетная линия…
Дувакин будто бы сейчас сам вязал кружева продолжения записок Лобастова.
– Подумаю, подумаю… – пробормотал Ковригин, он сидел уже притихший, умиротворённый, разливал водку по рюмкам.
– Кстати, – спросил Дувакин, – откуда взялись два адреса изготовления оружия против Бонапарта? Ты нафантазировал, что ли?
– В том-то и дело, что нет! – возбудился Ковригин. – Случайно наткнулся на упоминание о них – строчек по пять о каждом – в таком уважаемом издании, как «Памятники архитектуры Москвы» под редакцией Комеча. Там не должны врать. У меня же, конечно, включилось воображение. И инженера Шмидта я не придумал. Но источники информации там не названы. Где-то они есть, и их надо отыскать.
– Не надо отыскивать, – сказал Дувакин. – Доверься воображению. И съезди в Синежтур.
– Не имею желания, – сказал Ковригин.
– А может, ты всё же влюбился и оттого раскис? – предположил Дувакин.
– В кого?
– В актрису Хмелёву, в кого же ещё, а она от тебя упорхнула…
– Дня три действительно ходил увлечённый ею, потом некое волшебное облако рассеялось, но, возможно, я не понял её, она – женщина иной породы и из иного времени, нежели я, и пришла грусть. Или даже тоска.
– Одиноки мы с тобой, Саша, – опечалился Дувакин. – Одиноки!
– С чего бы – одиноки? – попытался возразить и крыльями взмахнуть Ковригин. – Вовсе я не одинок!
– Одиноки. И ты, и я! – осадил его Дувакин. – И нечего лицемерить. Конечно, каждый художник и артист в высшем смысле – одинок, но я говорю о простом земном одиночестве.
– Ах, о простом и земном одиночестве, – пробормотал Ковригин. – Ну тогда, конечно…
Тут он посмотрел на нынешнего вечернего Дувакина повнимательнее, тот был на три года старше его, но выглядел так, будто уже отметил первый круглый юбилей. Не то что бы лыс, но близок к тому, с серыми выцветшими глазами, неловок, одутловат, костюмы, при крупном его теле, дорогие и будто бы расположенные создавать элегантные формы, казались на нём провисшими и чуть ли не мятыми, а брюки собирали пыль и грязь выше каблуков, отчего Пётр Дмитриевич выглядел если не растрёпой, то хотя бы богатым неудачником. Да, Петя Дувакин, от благосклонности которого зависели судьбы, может быть, и сотен красоток любых сортов и окрасов, жил одиноким, и одиночество его было вызвано болезненной игрой природы, цепями приковавшей его к избалованной вниманием мужеского пола сестре Ковригина Антонине.
– Да, и я одинок! – с горячностью поспешил согласиться Ковригин.
И началось их братание, умиление друг другом и их чувствами, сопровождаемое позвякиванием стеклянных сосудов. И жалко стало Ковригину себя, а в особенности стало жалко своего несуразного приятеля Дувакина. Он-то, Ковригин, казалось ему, всё же жил ожиданием перемен, какие непременно должны были произойти в его судьбе. К лучшему ли, к худшему ли – не имело значения. Но – за пределами длинной вереницы.
– А почему ты не позвонишь Антонине? – спросил вдруг Дувакин.
– Не желаю! – резко произнёс Ковригин. И тут же удивился самому себе.
Впрочем, чему было удивляться? Поначалу он был намерен разыскать Антонину и просить прощения, но после демонстративного возврата автомобиля мужем Алексеем намерение это отменил. Хотел было рассказать Дувакину о визите Алексея, но сообразил, что напоминание о Прохорове вряд ли обрадует Дувакина.
– А она меня просила отыскать тебя.
– Взяла бы и позвонила, – сказал Ковригин. И понял, что опять капризничает.
– Сто раз звонила! – сказал Дувакин. – А ей отвечают: «Пошел в баню!»
– Чего? – удивился Ковригин.
– Или: «Пошла в баню!», – сказал Дувакин. – Я, может, не так понял…
– Надо же! Я же расколотил старый мобильный и утопил его! Будь добр, если еще позвонит, дай ей мой новый номер…
Выпили за здоровье прекрасной дамы и двух её мальчишек.
– На твоём месте, – сказал Дувакин, – я всё же поехал бы в Синежтур. Чем быстрее, тем лучше.
– А пьеса?.. Ты же просил экземпляр пьесы… Якобы для сдачи в набор…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































