Текст книги "Лягушки"
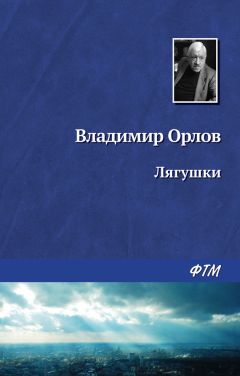
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 50 страниц)
– То есть ты намерен выставить нас из дома, – сказала Антонина, – так ничего и не объяснив?
Губы её снова дрожали.
– Ну, почему выставить? – воскликнул Ковригин. – Но мы и впрямь устали и голодны. Приглашаю и вас с нами в ресторацию. Хотя бы и в ливанскую. Она в соседнем переулке. А от объяснений сегодня увольте.
– Я могу обойтись стаканом чая, – сказала Хмелёва. – Заварка наверняка в доме найдётся. Зачем, Саша, обижать людей…
– А я не могу обойтись стаканом чая! – раздражённо заявил Ковригин. – И ни в чём оправдываться сейчас не желаю! Ко всему прочему нам завтра рано вставать!
– Почему?
– В ЗАГС идти с утра! В ЗАГС! Ты что – забыла? Или передумала?
– К чему такая спешка? – спросила Антонина.
– А к тому, – тихо, будто успокоив себя, произнёс Ковригин, – а к тому, что Елена Михайловна ждёт ребёнка.
Словами этими удивил и Антонину, и себя, и Елену Михайловну. Одна лишь подруга Ирина немедленно поинтересовалась:
– От кого?
– От Тушинского вора, – сказал Ковригин, – от Лжедмитрия Второго.
– Сразу от двоих? – Ирина уста свои не смогла сомкнуть.
– От одного, – сказал Ковринин.
Ирина задумалась. Похоже, выискивала в памяти нечто забытое и смутно известное. Но не выискала. И сегодняшние тушинские воры и лжедмитрии не приходили ей в голову.
– Сашенька шутит, – сказала Хмелёва.
Ковригин напрягся. Но и интересно ему было: что возьмёт да и выкинет сейчас Хмелёва?
– Шутит Сашенька, – повторила Хмелёва. – Никакой он не Тушинский вор и, стало быть, не Второй Лжедмитрий.
То есть этими словами ожидание ребёнка Хмелёвой как бы потверждалось, а он, Александр Андреевич Ковригин, признавался (или «принародно» был объявлен) отцом этого самого ожидаемого ребёнка. Замечательно! Но вдруг и вправду Хмелёва беременна? Вот тебе и ква-ква! Барышня еще в Синежтуре обязана была объявить ему об этом. А стало быть, и предупредить об усложнении условий её же житейской задачи. Но теперь он имел причину отменить экстренные походы в ЗАГС и в милицию за пропиской. Или всё же стоило ему и дальше вляпываться в приключение?
– Да, дарлинг Тони, – протянула как бы в печали подруга Ирина, – твой братец этак потеряет всю квартиру…
– Давайте завершим обсуждение чужой для вас ситуации, – сердито произнёс Ковригин. – В особенности натощак.
– Согласна, – сказала Хмелёва.
«Согласна»! С чем она согласна? Во что втягивает его, Ковригина, эта лицедейка? Но сам-то он кто в этой истории? Увлёкшийся женщиной отрок (а в его возрасте – дурак) или азартный игрок (не исключено, что и охотник), задремавший было в сидениях над книгами и архивными листами?
Разберёмся. Позже разберёмся.
– Да, Ирина, – сказала Антонина. – Мы здесь лишние. И не только лишние, но и, как объявлено, чужие. А потому, Саша, я оставляю ключи от твоей квартиры. Держать мне их нет теперь никакой необходимости. А на письменном столе уже лежит твоя бумага с заявлением в правление садоводов о передаче мне всех твоих дачных прав и полномочий. Мне в этих правах и полномочиях нет нужды. Извини за то, что бестактно проявила беспокойство из-за твоей… из-за твоего отъезда. И счастливо. Совет вам с Еленой Михайловной да любовь. И не провожай меня до двери…
32
Ковригин присел на стул у письменного стола.
Только теперь ощутил, как устал за день.
«Какая же я скотина! – думал. – Обидел самого близкого мне человека! Шваброй бы погнать из дома эту синежтурскую красавицу и броситься за Антониной! Но куда же её погнать?»
– Александр Андреевич, – рука Хмелёвой нежно легла на голову Ковригина, снять её Ковригин не нашёл сил, а надо было бы, – вы расстроились. Из-за меня… А сестра у вас хорошая… И какая в ней порода… А я… Как всё дурно вышло… Надо было мне сразу устроиться в какой-нибудь гостинице…
– Жалеть о чём-либо поздно и бессмысленно, – сказал Ковригин. – Это я пригласил вас в свой дом, и располагайтесь в нем хозяйкой. Но, конечно, если вам здесь некомфортно, и этому имеются причины, то сейчас же могу сопроводить вас и в гостиницу…
– Что вы, Александр Андреевич, – воскликнула Хмелёва, – мне здесь комфортно!
Руку нежную свою, возможно, уловив ощущения Ковригина, она при этом с его головы убрала.
– Ну и ладно, – буркнул Ковригин. – А порядок мы наведём вместе. После ужина. Единственно о чём хочу спросить… Это важно… Для вашего… Для нашего с вами дела… Вы действительно ждёте ребёнка?
– О чём вы говорите, Александр Андреевич! – рассмеялась Хмелёва. – Это же вы придумали! А я поддержала вашу игру.
– Ну да, – пробормотал Ковригин, – ну да…
– Ребёнок мне сейчас вовсе ни к чему, – сказала Хмелёва. – Но теперь можно и я задам вам вопрос?
– Естественно…
– А ваше объявление о том, что вы женитесь на мне и утром поведёте меня в ЗАГС, тоже игра?
Ковригин заговорил не сразу. Сказал:
– Нынешний случай – весь игра. Для вас, возможно, чрезвычайно серьёзная игра, для меня – подыгрыш, надеюсь, дающий повод для развлечения. Я человек увлекающийся и, мягко сказать, не идеальный. Часто и неразумный. Сюжет и правила вашей игры, с преображениями в китаянку в частности, мне неизвестны. Если пожелаете, объявите мне о них, если не пожелаете, ну и ладно. Сам выстрою догадки. Если вас устраивает мое предложение завтра же отправиться в ЗАГС, а у вас, как я понял, возникла необходимость немедленно решить формальности, то завтра и отправимся. Тем более что штампы в паспортах нам в Москве поставят не раньше, чем через полтора месяца. А потом начнутся тяготы с пропиской. Другие варианты, то есть варианты с другими женихами, так их назовём, ещё более затянут дело. Или необходимость в поспешности ваших действий отпала?
– Нет, не отпала, – сказала Хмелёва.
– Ну и отправимся завтра с заявлением…
– Это вы не ради меня… – печально произнесла Хмелёва.
– Что значит, не ради вас? – удивился Ковригин.
– Это вы из-за неё…
– Из-за кого?
– Из-за сестры своей Антонины… Она вам дорога, но что-то между вами происходит, вот вы и разыграли перед ней номер с обязательностью женитьбы на беременной женщине… А вы ведь ещё час назад и не помышляли о какой-либо женитьбе, то есть о собственной несвободе, да ещё и с хлопотами о прописке чужого человека на своей суверенной территории, вы лишь обещали, возможно без всякой охоты, способствовать моей затее… И вдруг такой поворот… Конечно, эта женщина, дизайнерша, вас раздражала и подзуживала, бестактная, с амбициями, вам неприятная и неизвестно кто при вашей сестре…
– Вы, Лена, наблюдательны, – сказал Ковригин.
– Многие из артистов, на радость режиссёрам и администрации, глупы или глуповаты, – сказала Хмелёва, – но в наблюдательности нам не откажешь.
– И что же вас теперь опечалило?
– То, что вы ввели в заблуждение сестру. То, что вы сами находитесь сейчас в сомнениях, как бы от меня отвязаться, не потеряв при этом лица.
– Ну, это мои дела, – хмуро сказал Ковригин.
– Не только ваши, Александр Андреевич, – покачала головой Хмелёва, – но и мои…
– Вот что, Лена, – сказал Ковригин, – нам надо всё же перейти на «ты». А то получается, что мы дурачили людей, или сами дурачились, а когда они ушли, между нами возникла дистанция холодного расчёта. А во мне, поверьте… а во мне, поверь, нет сейчас холодного расчёта. Сплошная житейская импровизация. И нет корысти. Какие тут могут быть корысти!
– А во мне, Саша, – сказала Хмелёва, – есть и расчёт, и корысть, но нынче они в наших с тобой отношениях на глубоком дне Тускароровой впадины, или какие там ещё есть бездны в Тихом океане, и пусть они там и останутся. Хотя бы сегодня и завтра. Но мне неловко, стыдно даже, подлой я себя готова признать из-за того, что вынуждаю тебя к поступкам мушкетерским. И давай договоримся: я приму только те твои решения, какие будут для тебя искренними и приятными. И уж, конечно, не опасными.
– Первое такое искреннее решение, – сказал Ковригин, – созрело столетие назад. Немедленно отправиться ужинать. А там посмотрим…
– Согласна, Сашенька, – сказала Хмелёва.
Чтобы, пусть и на время, придавить в себе мысли о серьёзном, Ковригин взялся обсуждать с Хмелёвой, в какое сытное заведение им стоит пойти. Но прежде был обговорен вечерний наряд прибывшей в мегаполис провинциалки. Узнав о том, что Хмелёва не забыла в Синежтуре платье британской принцессы, Ковригин обрадовался и стал уговаривать Елену Михайловну, Леночку, удивить публику именно этим платьем. Но Хмелева отчего-то нахмурилась, сказала нет, потом добавила: «Это платье может быть опознано». Почувствовав недоумение Ковригина, она объявила, что это платье никак не для ресторана, а вот завтра, в ЗАГС, она, пожалуй, его наденет. Названный прежде ливанский ресторан она не одобрила, а вот предложенный ей духан у Никитских ворот с кавказскими блюдами вызвал её воодушевление. «Раньше там был знаменитый „Эльбрус“, – просветил Хмелёву Ковригин. – А рядом театры – Розовского, „Геликон-опера“, ГИТИС и Консерватория». Отчего-то думал, что Хмелева сейчас же воскликнет радостно: «Ого!», но она отнеслась к его сведениям холодно, зато поинтересовалась, танцуют ли в кавказском духане или не танцуют. А Ковригин и не помнил, танцуют там или не танцуют, давно не заходил в заведение, обозванное им духаном. Сам же никакого желания приглашать даму, условно говоря, на тур вальса (какие нынче вальсы!) не имел. И потому, что устал. И потому, что будто опасался сейчас прикосновений к женщине, какую обещал завтра отвести в ЗАГС. Даже под руку её на улице не взял. «С чего бы вдруг? – удивлялся себе Ковригин. – Отчего такие странности?». Ну да, сообразил Ковригин, завтра поход-то в ЗАГС будет с заявлением по поводу фиктивного брака, и надо соблюдать эту фиктивность. Однако понимал, что и без этой глупейшей ситуации с фиктивным браком, и в случае совершенно независимого друг от друга их с Хмелёвой существования он заробел бы и маялся бы в несвободе действий. Это его озадачивало. Впрочем, он соображал, к чему всё идёт. А потому и старался не подбирать своему состоянию словесные определения.
Не помнил Ковригин, и были ли в кавказском ресторане какие-либо костюмные ограничения. То есть его прежде всего волновало, не вызовет ли гусарский наряд его спутницы возражений распорядителя пиршеств или хотя бы его ухмылок. Не вызвал. Да и какие могли возникнуть возражения, если ресторан был почти пуст. И вместо усатых горцев официантками и уборщицами суетились здесь широкоскулые уроженки Киргизии. Хорошо хоть метрдотель и, как выяснилось позже, мужчины с кухни были при достоверных усах и вполне живописно воспринимались бы в кепках-аэродромах времен застойного процветания их солнечной страны.
Но полупустой зал, похоже, Хмелёву расстроил. Даже в случае её явной конспирации служительнице Мельпомены требовался аншлаг. Не исключалось, правда, что в Москву она явилась вовсе не служительницей Мельпомены. Сейчас это не имело для Ковригина значения. Он поплыл. И всё же он нашел в себе силы повести разговор с Хмелёвой в строгом или даже суровом стиле. Во всяком случае, в деловом. Елена Михайловна, сказал он в ожидании заказанных блюд, можно было бы, конечно, им отправиться сейчас в какой-нибудь приличный ночной клуб, посидеть и покувыркаться там, перекинуться словами с лаковыми физиономиями, полюбоваться их подтяжками и силиконовыми холмами, это завтра или послезавтра – пожалуйста, а нынче – никаких расслаблений, никаких притопов с прихлопами, у нас здесь только ужин с дороги, а впереди…
– Брачная ночь, – подсказала Хмелёва, вкушая поданное уже сациви.
– Ты так не шути! – возмутился (или испугался) Ковригин. – У нас впереди завтрашний утренний поход!
– Значит, предбрачная ночь! – рассмеялась Хмелёва.
– Ну и шуточки у вас, Елена Михайловна, – пробормотал Ковригин, хотел было возмущение выказать, но лишь укоризненно покачал головой и налил Хмелёвой и себе коньяку.
Выпили. И были доставлены к столу шашлыки на рёбрышках.
– Не обижайся, Сашенька, – сказала Хмелёва. – Я девушка шаловливая и озорная. Но глупая.
Сама же глядела на Ковригина плутовкой.
Впрочем, не только плутовкой. Во вспыхивающих порой глазах Хмелёвой (отвлекалась от утоления голода и жажды) Ковригину мерещилось восхищение им (или хотя бы обожание его), и эти предполагаемые чувства Хмелёвой были ему приятны, лестны, пожалуй, что и необходимы теперь… «Дурак самонадеянный! – бранил себя Ковригин. – Просто в ней звенит эйфория, попала в Москву, одолела какую-то важную для неё промежуточную цель, и любой мужик, оказавший ей вспоможение, был бы для неё хорош, а ты, эгоцентрик, переводишь её воодушевления на себя. Надо успокоиться и соблюдать в отношениях с ней дистанцию разумного расстояния…»
– Сашенька, не держи себя в напряжении, – сказала Хмелёва. – Ни брачной, ни предбрачной ночью я не отравлю тебе жизнь. Дурно пошутила. Блондинка. Сегодня блондинка… И вообще, даже если завтра мы и вправду сходим в ЗАГС, у нас, у тебя в особенности, еще будет полтора месяца испытательных размышлений. А номер в гостинице я завтра сниму. Подскажешь в какой…
– Елена Михайловна… – начал было Ковригин.
– Ну вот! Опять Елена Михайловна! – будто бы опечалилась Хмелёва. – А уже вроде стала Леночкой. И снова церемонии. Значит, я тебя раздосадовала. Или даже прогневала? Извини, я провинциалка…
– Меня извини, – строго сказал Ковригин. – Просто я ко всем своим студентам, пусть и семнадцатилетним, обращаюсь по имени отчеству. И к шалопаям с бездельниками, и к тем, к кому испытываю симпатию. Университетская привычка… А сейчас, Елена Михайловна, предлагаю помолчать. И закончить ужин. Тем более что сейчас принесут цыплят и бутылку «Хванчкары».
– Ещё и цыплят… – вздохнула Хмелёва.
– Осилишь, – сказал Ковригин. – За милую душу.
– Сашенька, – снова глаза Хмелёвой стали плутовским, – а ты бы взял меня в свои студентки? И кто я – шалопай с бездельником? Или же…
– Помолчи, – сказал Ковригин. – Когда я ем…
– Грубиян! – проворчала Хмелева. – Ладно, помолчим…
И ведь замолчала.
А Ковригину сосредоточенность молчания была сейчас необходима для неотложных мыслей об Антонине. Впрочем, не только о ней. Искать себе какие-либо оправдания он не был намерен. Но они являлись без приглашений. «Это из-за дизайнерши Ирины, – думал Ковригин. – Из-за неё…» Хмелёва тем не менее сумела ввинтиться в его тишину и в его мысли. С извинениями она испросила у Ковригина совета, как приличней есть цыплят табака, то есть как полагается в Москве есть цыплят табака, обязательно ли вилкой с ножом? «Раз в птице есть кости, то позволительно и руками», – буркнул Ковригин, при этом и глазами выразил недовольство вмешательством в его мысленное уединение. Хмелёва сразу съёжилась, сидела будто бы испуганная, нисколько не напоминая о недавней королеве Журинского замка. «Это всё из-за наглой подруги Ирины!» – снова явилось Ковригину. Не только из-за неё самой, но и из-за её присутствия вблизи Антонины, и в особенности из-за её присутствия в его, Ковригина, квартире, а стало быть, и в его независимо-единственном мире. Если бы сегодня рядом с Антониной не было внезапной подруги Ирины, если бы не прозвучало снова «дарлинг Тони», всё бы пошло иначе, он не стал бы обижать Антонину, не стал бы дерзить ей, не стал бы сгоряча и по дурости натуры блефовать перед ней (а вышло, что и перед подругой Ириной, впрочем, и перед Хмелёвой тоже), и нести всякую чушь о беременности Хмелёвой и о необходимости ему, Ковригину, исполнять правила порядочного человека. И знал: раз произнёс слова, ни шагу теперь – назад ли, в бок ли – не сделает. Иначе – шпагу ломайте над его головой. А надо было, если бы Антонина ожидала его в квартире одна, пусть и неизвестно зачем, но одна, обнять сестру, прижать её к плечу, дать ей, если была бы нужда, высказать свои беспокойства и даже выплакаться. Или самому уткнуться лицом в её грудь, в её теплоприимную жилетку, и выговориться ей о своих пустых обидах, о своём побеге от неё и о своих путешествиях. Может, и о походе за пивом и о шествии земноводных в мокрый сентябрьский день. Сразу же сообразил, что о многом рассказывать Антонине всё же не отважился бы, о якобы сгинувшей, по свидетельству фермера Макара, ещё до его отъезда в Синежтур курьерше Лоренце Козимовне Шинель, в частности, да и подробности синежтурской жизни, породившие его удивления или недоумения, не должны были бы теперь (да и вообще!) вызывать тревоги и сумрачные фантазии некогда нежно-поэтической натуры сестрицы. Хотя – именно некогда… Впрочем, и в пору нежно-поэтическую Антонина безрассудной не была, а была хваткой, игры любила затевать с расчётами, дела проводила с толком, иные из них и сама организовывала с умом. А потому и ощущала себя старшей сестрой легкомысленного братца. Как было бы замечательно, если бы сейчас рядом с ним сидела Антонина, а никакой Ирины-Ирэн и в помине не было. Но рядом с ним, поливая блюдо чесночным соусом, сидела и жевала курятину будто бы и не измотанная перелётом женщина в красном бархатном костюме. («Странно, но звуки её жевательных усилий меня нисколько не раздражают, – подумал Ковригин. – Они мне даже приятны. Впрочем, из-за чего я дурью маюсь! Хмелёва – вовсе не Каренин, а я тем более – не его супруга Анна, мечтающая о разводе. Нам до развода ещё…»). Да пусть бы и сидела за столом Хмелёва. Но была бы ещё рядом и Антонина! Тоску ощутил Ковригин по Антонине. И тут же – ещё одна смутно-выраженная женщина моментально промелькнула в соображениях Ковригина, недавняя встреча с ней Ковригина всё же, видимо, взволновала, но кто она, Ковригин, уточнять не стал, хотя и знал, кто она, ему хватило сейчас тоски по Антонине. Можно было обойтись и без томлений по поводу моментально промелькнувшей женщины, промелькнула и ладно… Как хорошо им с Антониной было в детстве и позже, в студенческие годы! И сейчас Антонина наверняка могла изучить его тупики, вымести веником паутину из их сумеречных углов и подсказать, как жить дальше. Другое дело, последовал бы он, Ковригин, её советам или нет… Это не имело бы значения. Важно было ощутить любовь и теплоту сестриной душевной близости… Завтра же утром, умилился Ковригин, он отыщет сестру и племянников (о том, как и что с ними, даже не поинтересовался, скотина!), попросит у неё прощения и о своих делах ей поведает…
Главное – завтра утром…
– Где же ты моя Сулико…
На невысокой, шаг от ресторанного пола, эстраде возник «Живая музыка» (так в меню) – худой, узкий в плечах, выбритый, но с чернотой щёк печальник лет сорока. Ковригин видел его при загляде на кухню, тот, в белом халате и белом же колпаке, суетился у разделочного стола поваром. Ничего странного в поющих поварах не было, особенно при свирепостях кризиса и совмещениях профессий, другое дело, что поиски пропавшей Сулико были неожиданно и громко поддержаны невидимым оркестром. А потому движениям мышц лица и рта совмещённого повара вполне доступно было совместиться и с голосом какого-нибудь раскрученного Сосо, или Ираклия, или скандального Отарика, или даже самого Бубы-Вахтанга. Но смотрел Ковригин не на печальника с берегов Куры, а на Хмелёву. Девушка, не проявляя сострадания к ищущему Сулико, оживилась, тело её явно требовало эмоциональных проявлений. А две пары уже танцевали неподалёку от певческого помоста. «Ну? Сашенька! Ну, что же мы сидим! Не мне же приглашать тебя!» – призывали глаза Хмелёвой. А публики, пока Ковригин уводил себя в размышления об Антонине, в ресторане прибавилось. И, слава Богу, никого из знакомых Ковригин за столиками не углядел.
Отчего же – слава Богу? Чему тут радоваться? Выходит, он опасается быть замеченным в компании с Хмелёвой? Стыдится, что ли, её? Или нутром (натурой) чувствует грядущие затруднения (мягко сказать) и конфузы и не желает иметь свидетелей своих глупостей?
«Э-э-э нет! – сказал себе Ковригин и хлебнул коньяку. – Пусть видят, какая красавица нынче при мне, пусть шепчутся, глядя на меня с завистью: „Повеса!“. Хотя кто будет шептаться, коли знакомых нет?.. Ну и ладно. Мне сегодня на всё наплевать! У нас сегодня брачная ночь!»
Какая брачная ночь, возмутился Ковригин, какая ещё такая брачная ночь!
Ему бы сейчас жестко постановить: никаких брачных ночей! Но он лишь пообещал себе быть осмотрительным и не допустить очередных пустодурий. Полагал, что и на этот раз его не подведут инстинкты самосохранения и самообороны. Были случаи, правда без опасностей капканов, когда он ради удовольствий утишал их (инстинктов) боеспособность, но сегодня они обязаны были быть на чеку и в сборе сил.
– Тбилиссо… Мтацминда… Тбилиссо… – донеслось до Ковригина.
На этот раз голос совмещённого повара расслоился и стал двуполым. Возможно, отыскалась Сулико.
– Сашенька… – длинные пальцы Хмелёвой легли на руку Ковригина.
– Танцор я дрянной, – соврал Ковригин. И вдохнул. – Но на какие подвиги не пойдешь ради милых дам…
– Невесты, Сашенька, – прошептала Хмелёва. – Ради милой невесты…
Кроткий ропот сопротивления возник в Ковригине и тут же утих.
Ковригин нахмурился.
– Ты сыта? – спросил.
– Сыта, – удивившись, ответила Хмелёва. – Объелась даже.
– Тогда один танец, – командно заявил Ковригин. – И всё. И домой. У нас завтра трудное утро. И главное, чтобы оно не стало хмурым.
Вместо одного танца вышли три. Снова Ковригин ощутил воодушевление добравшейся до столицы Вселенной провинциалки, снова начали мерещиться ему обожание и чуть ли не влюблённость в него женщины, к плоти которой он не решался прикоснуться (не смог взять на Большой Бронной под руку), а тут прикоснулся, и как бы не по своей воле: в будто бы испанском танце (гремевшая в ресторане музыка к разновидностям исполняемых здесь танцев не имела отношения) Хмелёва силовым движением прижала его к себе, и он ощутил (и до конца танца ощущал) желание её крепкого и жаркого тела. Выглядели они, видимо, хорошо, люди за столиками им захлопали. Метрдотель же счел нужным преподнести красавице в красном бархате три розы от заведения. Хмелёва выслушала его комплименты, откинув голову чуть назад и вытянув свою длинную белую шею. Жаль, что посреди ресторана не разлетались брызги самборского фонтана. Случились и ещё два танца, один – условно быстрый, чудище ночных клубных танцполов. И медленный, опять с прикосновением тел и желаний, с исходом из Ковригина всяческих разумных суждений.
– Всё, – сказал Ковригин. – Домой.
– Ну, Сашенька… Ну, милый… – взмолилась Хмелёва.
На помощь Ковригину и режиму дня пришло грузинское хоровое пение. Кавказское мужское многоголосье всегда было приятно Ковригину. И сейчас, будто бы в Кахетии, в застолье был поднят рог с давленной и перебродившей ягодой алазанской лозы, и басы с тенорами принялись славить гостей стола. А совмещенный повар один открывал перед микрофоном на эстраде рот. Так увлёкся. Или, может быть, дама в красном бархате заставила его забыть об особенностях ресторанного певческого искусства. Наконец, до него, видимо, дошла неловкость положения, и он вспомнил, что он не только «живая музыка», но ещё и дирижёр. То есть он не прекратил открывать рот, но, выдернув из подставки микрофон, начал с воздушно-жонглёрскими фигурами манипулировать им, будто особенной музыкальной палочкой, отчего басы и тенора за столом в Кахетии, явно ополаскивая глотки жидкостью из рога, взъярились и зазвучали ещё громче. Это было красиво и приятно слуху, но не располагало к танцам. А располагало к заказу новых мясных блюд и сосудов с живительными напитками. К одному из столов старательными киргизскими девушками был доставлен и рог.
– Нам тоже рог, – поинтересовался Ковригин, – на полтора литра наполнения? Могу заказать.
– Нет! – испугалась Хмелёва.
– Домой.
– Но, Сашенька… А если сейчас хор замолкнет?
– Не замолкнет, – сказал Ковригин. – Успокойся. Он теперь долго не замолкнет. Домой.
И двинули домой.
И снова Ковригин не смог взять женщину под руку. Так и шли они Тверским бульваром друг от друга независимые и поначалу молчали. Проще всего молчание Хмелёвой было бы объяснить досадой темпераментного существа из-за того, что он, Ковригин, столичный самодур и собственник, не дал барышне как следует разгуляться. А ведь и публика уже хлопала, и были преподнесены первые в Москве цветы.
– Не печальтесь, Елена Михайловна, – выдавил наконец из себя Ковригин, – вы за полтора месяца так наразвлечётесь и накувыркаетесь в ночных клубах среди сливок общества, я вам обещаю, что в тундру собирать морошку сбежите. И цветами тебя, Леночка, завалят.
– Уж если меня, Сашенька, что-либо сейчас и печалит, – вздохнула Хмелёва, – так именно эти полтора месяца.
– Ну, извини, – сказал Ковригин, – здесь я не в силах что-либо изменить…
Остановились напротив многоцветного (всего – будто в пятнах) дома Ермоловой, к тому же подсвеченного. То есть остановилась Хмелёва, а Ковригин дальше не пошёл. Хмелёва стояла, думала о чём-то, вспоминала…
– Пошли, – сказала Хмелёва. – И снова, Сашенька, возникает необходимость в деликатном разговоре…
– Слушаю, – сказал Ковригин.
– Я знаю, деньги за так называемую фиктивность ты с меня не возьмешь.
– Не возьму, – кивнул Ковригин. – И зря ты об этом напоминаешь.
– Извини, Сашенька, извини!
Она будто бы растерялась. Замолчала. Но нет, не растерялась… И всё же заговорила.
– Сашенька, – вот что сказала Хмелёва, – я понимаю: тебе неприятно слушать про эти гадкие фиктивные деньги, но и мне противно говорить о них. Однако они есть, они реальность, и их присутствие в нашем деле тоже реальность.
– И что? – спросил Ковригин.
– Ну, понимаешь, Сашенька, – Хмелёва замялась, – ну, понимаешь… А нельзя ли эти деньги, или какие – потребуются, пустить на то, чтобы наши полтора месяца укоротить?
– То есть как?
– Ну, не знаю, Сашенька, – Хмелёва пожала плечами, и в жесте её Ковригин уловил каприз и досаду. – Я не знакома с правилами и течениями вод в Москве, да и не приезжей женщине верховодить в хитроумных отношениях с московскими дьяками.
– Однако именно приезжая женщина, – сказал Ковригин, – знает, в чём её затея и как её осуществлять.
– Ты шутишь, Сашенька, – обиженно произнесла Хмелёва. – А мне не до шуток.
– И я не шучу, – сказал Ковригин. – В отношения с московскими дьяками никогда не вступал и вступать не буду. Умасливать их я не умею и не стану.
– Как же быть? – Хмелёва выглядела расстроенной всерьёз.
– Не знаю, – сказал Ковригин. – Твои бы завоевательные деньги да какому-нибудь сообразительному дельцу со связями!
– Откуда же я его сыщу?
– Да что на тебя так давят эти полтора месяца! – сказал Ковригин. – Попробуй вытерпеть их. Нина Заречная всё готова была вытерпеть!
Они прошли мимо окаменевшего Есенина и теперь проулком с церковью Иоанна Богослова и южным боком бывшего театра Таирова и Коонен выходили к Большой Бронной.
– Полтора месяца… полтора месяца… – бормотал Ковригин, – они пролетят мигом… И ты о них забудешь…
При этом думал, как бы ему самому вытерпеть полтора месяца (кстати, почему именно полтора месяца, а не два или не два с половиной?), вечерний бульварный променад становился ему тошен. «Изведёт она меня своими нетерпениями. Если бы только нетерпениями…» Впрочем, её нетерпение даже обнадеживало. Вдруг она не выдержит, вцепится в какого-то умельца творить чудеса с прохождением документов и увлечёт его неслыханным гонораром… Но и сама при этом увлечётся.
– Сашенька, – сказала Хмелёва, – а нет ли среди твоих приятелей или даже приятельниц, эти-то посмышлёней и в быту толковее будут, какой-нибудь особы, способной чиновника на гвоздик повесить?
«Мысли читает! – вздрогнул Ковригин. – Был бы такой, или была бы такая, сейчас же пересадил бы Хмелёву на их плечи».
– Нет, – сказал Ковригин, – таких особ в моём распоряжении нынче нет. Тем более что возгорелась новая волна борьбы с коррупцией.
– А вот ты говорил (чуть ли не прозвучало: «Хвастал»), – не могла успокоиться Хмелёва. – Мол, есть вокруг тебя отчаянные кавалеры, какие ради красивой женщины… Ведь говорил…
– Говорил… Бахвалился. Цену себе набивал… Можно, конечно, поскрести по сусекам… Сегодня позвоню двоим…
Соврал. Никуда звонить не собирался. И не позвонил. Пусть сама впихивается в столичную жизнь. Интересно будет понаблюдать, какие проворства сумеет она проявить. Придётся терпеть её полтора месяца.
А если и не полтора месяца? А если и долгие годы? Это ведь и повеситься он в конце концов пожелает…
– Хватит кукситься, – сказал Ковригин. – Пообещал позвонить, сейчас и позвоню. И спать. Утро вечера, сама знаешь… Придём домой и сразу спать!
– А как же, Сашенька, брачная ночь? – спросила Хмелёва.
– Какая ещё брачная ночь! – рассердился Ковригин.
– Обыкновенная, – сказала Хмелёва. – То есть должна выйти необыкновенной. Я ведь предупреждала тебя.
В голосе её не было лукавства, присутствия игры, не было блажного каприза, но ощущалось волнение и неуверенность в себе, даже страх перед ближайшими часами её московской жизни, можно было предположить, что Хмелёва всерьёз относится к своим словам или к своему решению.
– Я ещё не привык к твоим шуткам и твоей логике, – сказал Ковригин (подумал: «И хорошо бы не возникла нужда привыкать!»), – но есть обиходная логика. Брачная ночь происходит после заключения брака. Ко всему прочему наш брак фиктивный, и, стало быть, никакой необыкновенной ночи у нас быть не может.
– Ты зануда, Ковригин, – остановилась Хмелёва. Схватила Ковригина за отвороты куртки, притянула к себе, нашла губами его губы. – Мало ли что будет сегодня и мало ли что будет завтра! А я хочу тебя сейчас! Считай, что у тебя, как у моего московского сюзерена, есть право первой ночи.
Ковригин всё ещё стоял на углу Большой Бронной и Богословского переулка. И будто бы что-то соображал в нерешительности и недоумении. Сказал, наконец:
– Но так или иначе фиктивность брака будет отменена. В нарушение наших договорённостей. А я человек слова.
– Я тебе, зануда Ковригин, талдычу о правах сюзерена на первую ночь! – рассмеялась Хмелёва, но, впрочем, не слишком радостно. – А ты цыпляешься за свои договоренности и понятия о чести.
– В Москве я твой опекун, – сказал Ковригин, – и взялся быть здесь твоим заступником и охранителем…
– Ты, Ковригин, – сказала Хмелёва, – не только зануда, но и дурак. Я хочу тебя. И вовсе не из благодарности… Но, может, я вызываю у тебя теперь чувство брезгливости?.. Тогда другое дело… Тогда ты во всём прав…
Она зашмыгала носом, возможно, уже мокрым, ладонью убрала влагу с глаз и нашла в себе силы скомандовать:
– Всё, Ковригин, под крышу и высыпаться!
При этом она взглянула на Ковригина, а стояли они на тротуаре под надзирающим за вечерней жизнью столицы столбом, и в высвеченных химическим светом коммунальных ламп снова увиделись Ковригину в веницейской зелени глаз Хмелёвой чуть ли не обожание его и уж точно – бескорыстие, а главное – её очевидный призыв к слиянию натур и тел. Ковригин сейчас же ощутил желание обнять Хмелёву и вышептать: «Я люблю тебя!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































