Текст книги "Лягушки"
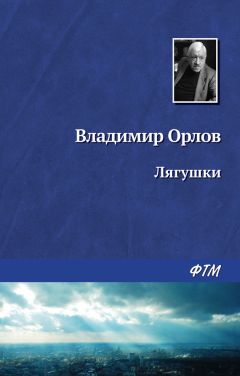
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 50 страниц)
39
– Ковригин, – произнёс Дувакин то ли с угрозой, то ли с мольбой о спасении, – ты подумал о дирижаблях?
– Думаю, – проворчал Ковригин.
– Поспеши, – сказал Дувакин. – Даю неделю. Неделю. Не больше. Подожди, не выключай телефон. Уже не о дирижаблях. Тебя разыскивают.
– Кто? – спросил Ковригин.
– Люди из Синежтура.
– Какие ещё люди? – встревожился Ковригин.
– Разные. Из театра. Директор и режиссёр. Ещё кто-то. Даже китайцы. Или японцы. Я не понял. Эти являлись в редакцию. Вежливые.
– Почему звонят и являются именно к тебе? – спросил Ковригин.
– Ты вроде бы сотрудник журнала… Просят дать номер твоего мобильного…
– Посылай их подальше, – посоветовал Ковригин.
– Толку-то что? Один из заинтересованных во встрече с тобой имеет службу безопасности с разведкой, он и без чьей-либо помощи отыщет тебя.
– Кто таков? – спросил Ковригин.
– Синежтурский заводчик, меценат и воротила. По материнской линии в частности, и из рода Репниных. Просвещенный феодал, наши институты, Кембридж, Сорбонна, купил замок на берегу Реки.
– Он тебя напугал? – спросил Ковригин.
– Мне-то с какого бока его пугаться? А вот тебе следует поосторожничать… Но, может, я и не прав… Впрочем, мне сейчас не до твоих синежтурских приключений. Допекли дирижабельные заказчики! Слёзно прошу, поспеши…
– А не чёрный ли человек приходил к тебе с заказом? – поинтересовался Ковригин.
– Какой ещё чёрный человек? – удивился Дувакин. – Ах, этот… Прости, Саша, но ты не Моцарт…
– Да, я не Моцарт, – согласился Ковригин. – Но я должен знать, кого ты намерен ублажать и чем пахнут их деньги.
– Их действиями мне дадено понять, – сказал Дувакин, – что они люди серьёзные, но и капризные, и твоё перо входит в число их капризов. Мне произнесено: за исполнение каприза деньги выложат, какие меня удивят, за отказ – лысину побреют вместе с головой.
– Бедолага ты, Дувакин, – вздохнул Ковригин. – Неделю, говоришь? Ладно, через неделю и звони. Но не боишься, что я своим текстом, если такой возникнет, тебя в ещё более жёсткую передрягу втяну? Чужие капризы капризами, но у меня и свой каприз есть. Это я говорю и для тех, кто нас теперь слушает.
– Не боюсь! – произнёс Дувакин, явно волнуясь. – А если и боюсь, то за отечественную культуру и за наш с тобой журнал.
Интересоваться судьбой своих писанин в журнале Ковригин не стал. Во первых, мог вынудить издателя темнить или даже врать. А во вторых, что хуже, дал бы повод для торгов – вот исполнишь заказ… Петя был друг, но и коммерческий человек…
– Ну ладно! – сказал Ковригин. – Поговорили и хватит. Пойду сейчас варенье варить. Из золотой китайки. Знаешь, такие ломтики с золотом на просвет получаются. Ну, и, может, придут какие-то идеи по поводу дирижаблей… А синежтурским про меня ничего не открывай… Привет!
Ковригин находился сейчас в беспечном, искристом, праздничном состоянии пузырьков шампанского. Что ему страхи хозяина журнала! Если уж и было отчего тревожиться, так это из-за сыска, какой вполне мог затеять владелец (или арендатор) Журина. Естественно, и Ковригина интересовала судьба якобы пропавшей актрисы Хмелёвой, хотя эта женщина и знала, ради чего живёт, а его, Ковригина, и одарила мимоходом досадами. Впрочем, некоторые из этих досад вышли сладкими и нет-нет напоминали о себе. Вот чего не ожидал Ковригин, так это скверностей от заказчиков восхваления дирижабля. Они-то стали для него будто бы свои.
То есть Ковригин находился пока внутри своего сочинения (так и прежде случалось), а внешние или земные обстоятельства оставались для него лишь полупрозрачной воздушно-пластиковой упаковкой. Дрыхнуть неделю или бродить по лесам в поисках грибов, да ещё и в мокрые, ветреные дни, он не собирался. У кого-то в посёлке наверняка имелся принтер, надо было слёзно выпросить его на день-на два и перенести слова о дирижаблях на бумагу. В Москву ехать не хотелось, хотя бы из опасения увидеть у своего дома синежтурского олигарха Острецова или главного режиссёра театра имени Верещагина Жемякина.
Через улицу проживала переводчица Шепетилова, возилась теперь с вареньем из черноплодной рябины, по запаху догадался об этом Ковригин. Дама была из молодящихся, но рискованными нарядами своими не раздражала. Выслушав просьбу Ковригина, обрадовалась:
– Ну, конечно, Сашенька. Бери хоть на неделю. У меня пора заготовки. Варенье, грибы, огурцы, помидоры. Тонечка-то как?
– Нормально, – сказал Ковригин.
– Ну и хорошо. Что-то я её давно не вижу.
– Дети и их школьные радости. И у самой работы много.
– А у меня работы мало, – вздохнула Шепетилова. – В издательствах число изданий резко сократили. Впрочем, ты и сам знаешь…
– Знаю, – кивнул Ковригин.
Прежде чем начать распечатку сочинения, перечитал его. Не терпелось. Оказалось, что за шесть дней азарта, куража, возможно, и страсти им было написано не меньше сорока страниц! Целая поэма, рассудил Ковригин! Элементы и приёмы в поэме были использованы разнообразные. Интонацию сказителю и событийному информатору, плуту, суетливому, но не слишком удачливому рекламному агенту, ироничному обывателю, впрочем, авантюристу и фантазёру, Ковригин дал свободную, отметающую занудство и монотонность. Собственно, это был целый венок интонаций, сплетённый живым и органичным. Всё это позволяло, так полагал Ковригин, таинственному информатору вести свой рассказ с сюжетными ловушками и приметами детектива. Даже сухие будто бы страницы с техническими терминами и гипотезами (необходимые для оснащения серьёзностью или видимостью исторической правды лирических или фантазийных эпизодов), даже эти страницы не должны были снижать остроту сюжета.
Тайны, какие возникли в 1812 году, предположим, на даче С. Бекетова и в усадьбе Воронцово, в рукописи сохранялись и имели продолжение вплоть до наших дней. Как и задумывал Ковригин, они были вмещены в записки бедной Лизы К. и князя С. Репнина. С Репниным было проще. Репниных случалось в России много, и приписать любому фрукту с фамильного древа Репниных можно было всё, что хочешь. А вот бедная Лиза… Как только ручка Ковригина начала описывать жизнь Лизы в 1812 году, Ковригин сообразил о своей оплошности. Бедная Лиза сиганула в пруд лет за пятнадцать, а то и раньше, до французской кампании. А Ковригину уже было жалко убирать симпатичную и высоконравственную барышню из интриги с коварными бонапартистами, старавшимися помешать созданию секретного оружия, то бишь дирижабля с реактивным, надо полагать, двигателем. Но, может, и не с реактивным. А с таким, что о нём и у нас с вами соображения возникнуть не могут. Крутился, крутился Ковригин в творческом бессилии вокруг своей оплошности, пока не нашёл выход. Николай Михайлович Карамзин, патриот, знаток секретов империи, провидец, вполне возможно, имел доступ к военным тайнам, и его «Бедная Лиза» была актом дезинформации. Мол, какая тишь и провинция эта Тюфелева Роща, и ничего в ней, кроме тонко чувствующих барышень, не водится… А уже водилось… Чувствительную Лизу Карамзин утопил, а она взяла и выплыла. Но уже в иные времена и в нарядах стиля ампир. И когда распрямилась пружина (или дубина?) народного гнева, новая бедная Лиза не могла лишь щеки увлажнять по поводу любови и её краха, а согласилась участвовать в борьбе с промышленным шпионажем. А мнимый Эраст со своей агентурой на себе ощутил силу её натуры.
Оценил прелести Лизы и романтически настроенный князь Сергей Львович Репнин, будто бы увлекавшийся садоводческим искусством, сам же занятый известно чем… С целью координации секретных работ он наверняка наезжал из усадьбы Воронцово на дачу в Тюфелеву Рощу, там повстречал бедную Лизу, там и начался их роман.
Был он долгим, драматичным, осложнённым сословными предрассудками, недоразумениями и, конечно, каверзами изобретательных врагов Российской империи. Но, в конце концов, были причины назвать его благополучным, нежели ошибочно-горьким. Кстати, в пору их благополучия по велению феодальной старухи погибла в водах Москвы-реки известная собака. Кого-то в отечественной истории необходимо было утопить.
Записки бедной Лизы и князя Репнина шли с разрывами, методом параллельного монтажа, использованного в голливудских сценариях первых звуковых фильмов, но на них, как на шампурах, были нанизаны остальные элементы сочинения. По ходу вождения ручки по бумаге Ковригину являлись соображения, и для него самого неожиданные, и чаще всего – озорные. Скажем, он решил пристроить куда-нибудь костяные пороховницы («чтобы добро не пропадало») и пристроил. О Репниных хоть мелочи просил выискать в архивах олигарх Острецов. Пожалуйста! И без всяких архивов. Тем более что у рассказчика не было времени на сидение в архивах. Да и помешали бы архивы его фантазиям… Так вот, Сергей Львович Репнин был в родстве с Шереметевыми и наверняка гостил в Журине. Можно предположить, что при приближении к Москве супостата часть секретного оборудования решили вывезти обозами в тыл, а именно в Журино, за его крепостные стены. Естественно, обозами, чем же ещё! А невдалеке от Журина есть город Средний Синежтур, на гербе коего имеется телега, из обоза, и над ней нечто летящее, будто надутая колбаса. И тут же прикладывалась картинка с костяного бока пороховницы родом из Синежтура: замок, рыцари в латах и над ними несомненный воздушный корабль. Что за обозы строили в Синежтуре в давние времена, возможно, в городской башне неизвестного назначения и что за обозы строят теперь, нам с вами неведомо, да и ведать об этом не наше дело…
Прочие истории, обтекающие сюжеты с секретным оружием и приключениями Лизы, князя Репнина и немецкого инженера Шмидта подавались рассказчиком (именно рассказчиком, а не Ковригиным, Ковригин лишь наблюдал с высот птичьего полёта за плетением словес своего информатора) не только увлекательно, но опять с умением детективщика держать читателя в напряжении. Даже эпизоды с описаниями технических характеристик дирижаблей – мягких, полужестких, жёстких, особенностей первых газовых баллонов из кожи слепых кишок отборных коров и прочее не должны бы вызвать зевоту. «Ай да Понтряжкин! – почему-то Ковригин назвал своего автора Понтряжкиным. – Ай да молодец!»
Ковригин отнес Шепетиловой принтер, обменялся с ней любезностями и решил, что теперь будет спать, ходить по грибы, квасить капусту и варить варенье. Не получилось. Не успокоился…
Надо было что-то менять в Понтряжкине. Объединить в нём бескорыстного плута, сующего нос порой, куда не надо, искателя истинных обстоятельств дел, с Мюнхгаузеном взлетающем на ядре в поисках острых гипотез. И надо было раскрошить сочинение на главы с заманными, как в старых романах, названиями: «Из этой главы читатель узнает о том, как Воздушный Корабль без команды был доставлен Бонапарту…» Ну и т. д.
Жил Ковригин в возбуждении. Но сам звонить Дувакину не собирался. Может, отпала нужда в Похвальном слове. А он, Ковригин, вроде бы осознал выгоду в предложенном ему деле. Но Дувакин позвонил.
– Подумал, Петя, подумал. И надумал… – утомлённым жизнью тоном произнёс Ковригин, зевнул даже, артист. – Так какие дирижабли, Петя, нам требуется прославлять: мягкие, жёсткие, полужёсткие? И к каким мачтам готовые причаливать?
– Ты… Ты что, издеваешься надо мной? – воскликнул Дувакин.
– Почему издеваюсь? – удивился Ковригин. – На самом деле дирижабли бывают разных конструкций: мягкие, полужёсткие, жёсткие, а потому и разных габаритов, мягкие – небольшие, для частных прогулок…
– Прекрати! – Дувакин уже кричал. – Ты шутки шутишь! А у меня серьёзные проблемы!
– Ладно, – обиженно заявил Ковригин. – Я сделал некие наброски, но ехать в Москву из-за всякой ерунды не имею желания… Являйся ко мне за набросками.
– Не могу, – сказал Дувакин. – Сижу под надзором.
– Всё так серьёзно? – спросил Ковригин.
– Да! Да! А ты этого не хочешь понять! Хорошо, пришлю курьера!
– Не Лоренцу ли Козимовну Шинэль? – обеспокоился Ковригин.
– Какую ещё Лоренцу Козимовну? – удивился Дувакин. – Не помню никакой Козимовны! И нет у меня денег на курьеров. Пригоню к тебе Хорошилова. Никуда не отлучайся. Жди.
– Слушай, если всё так серьёзно… И ты напуган… Я обязан тебя предупредить… У меня в сочинении есть шутки, какие могут вызвать раздражение твоих заказчиков, в особенности если они злые и шуток не понимают… А то ещё нарвёшься на их непонимание…
– Это уже моё дело! – мрачно сказал Дувакин. – Ничего не остаётся…
Хорошилов – фотограф моды, один из лучших, оказался и лихачом, прикатил чуть ли не через час, принял листочки Ковригина и отбыл в Москву.
Ковригин бродил по саду, а потом и по посёлковым улицам, возбуждение будоражило его, мобильный он держал в кармане, и вышло, что не зря.
Дувакин вечером (телефоном же) нагнал его возле участка Кардиганова-Амазонкина, кстати, в посёлке пока ещё по возвращению Ковригиным не замеченного. – Ковригин, ты гений! – услышал Ковригин.
– Ты так считаешь?
– И не только я.
– Кто ещё?
– Заказчики! Приняли на «ура»! У одной из влиятельных дам твой текст вызвал даже пупочный смех!
Ковригин пожелал узнать, каким Дувакин представляет себе пупочный смех влиятельной дамы, но его волновало другое:
– Мы не договаривались о чтении текста посторонними. Я просил прочитать мои намётки лишь тебя. Я тебя предупреждал, что ты можешь вляпаться…
– Ну и что?
– Как что? Разве ты не понял, что перед тобой туфта, враньё, игра ума, продукт фантазии, забава стареющего озорника. Если заказчики поймут это, тебе не поздоровится.
– А тебе?
– Мне-то с чего бы? Я не подносил им обман на блюде.
– Ты думаешь, они дураки? Нет. Они сразу оценили суть сочинения. Но что им, летал ли Бонапарт на Воздушном корабле, создавали ли против него секретное оружие. Главное для них – напомнить о дирижаблях.
– И что, – спросил Ковригин, – они не высказали ни одного замечания?
– Никаких замечаний! – весело, победителем, заговорил Дувакин. – Вот пожелание было высказано той самой влиятельной дамой, какую твой текст довёл до пупочного смеха, её слова. Мелкое пожелание. Упомянуть где-либо, хоть бы мимоходом, о ресторане-дирижабле «Чудеса в стратосфере». Правда, с выносом рекламы в самостоятельную картинку.
– И какова фамилия этой влиятельной дамы? – спросил Ковригин.
– Полина Львовна Быстрякова.
– А не Лоренца Козимовна Шинэль?
– Что ты пристал со своей Лоренцей Козимовной!? Не знаю такой. Повторяю – Полина Львовна Быстрякова.
– А про лягушки и виноградные улитки она ничего не пожелала?
– При чём тут лягушки и виноградные улитки! – раздраженно сказал Дувакин.
– В своей забаве я полагал, что дурачу кого-либо. А выходит, что дурачили меня…
– Я тебя не дурачил, – запыхтел Дувакин. – Деньги ты получишь такие, о каких и предположения не строил. Сочинение твоё мы дадим кусками в трёх номерах. Будто роман. И о продолжениях его объявим.
– А в Рубенсе, Марине Мнишек, царевне Софье Алексеевне нужды уже нет?
– Ну, понимаешь, Саша, сейчас главное – спасти журнал. А мне выкарабкаться из долговой ямы… И неси, сделай милость, свою пьесу о Мнишек…
– На всякий случай? – спросил Ковригин.
– На всякий случай… – вздохнул Дувакин. – Теперь всё зависит…
– От процветания ресторана-дирижабля «Чудеса в стратосфере», – сказал Ковригин. – Или целой сети ресторанов. Посоветуй Полине Львовне Быстряковой заводить жесткие, металлические дирижабли, но не мягкие, мягкие – чаще горят. И главное. Никогда не собирался писать строки: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». А потому пьесу, Петя, я тебе не принесу, а эту дурость про дирижабли я заберу и сожгу над газовой горелкой.
40
Ковригин и на самом деле пожелал сейчас же черновик и второй экземпляр чистовика с принтера Шепетиловой сжечь над газовой горелкой. Но и с места не встал.
Экий пафосный поступок! Не возведёт ли он себя в Николая Васильевича Гоголя, а продукт забавы – в «Мёртвые души»?
Да и с чего бы вдруг именно над газовой горелкой?
Опять ведь из воздухоплавания. Воздушные шары – корабли без управления… А встать он не смог потому, что осознал: несмотря на презрение к добытчикам коммерческих чудес, несмотря на бессмысленность своей писанины, он её продолжит.
Нетерпение графомана подзуживало его. Настоящему литератору, и уж тем более – творцу, должно быть присуще терпение, всегда полагал Ковригин, а тут – на тебе! – его словно бы колотила лихорадка, трусея какая-то особенная. Нет, и не лихорадка, и не трусея. Он любовником ненасытным жаждал продолжить удовольствие. И продолжил.
Ничто не могло отвлечь его. И когда выходил из дома на кухню с требованием организма пожевать чего-либо, жевал машинально, а сам думал о приключениях дирижаблей (ему казалось теперь, что и в Москву из Среднего Синежтура он вместе с актёркой Хмелёвой добирался в чреве грузового дирижабля). И когда рука тянулась к кружке пива, стоявшей на его письменном столе, движения её происходили как бы сами по себе и не отрывали Ковригина от постепенно записываемого на бумаге текста.
Не отвлёк Ковригина и звонок Натали Свиридовой.
– Ковригин, – быстро произнесла Свиридова, – я на секунду, я на ходу, я в гриме… Просто напоминаю. По поводу Софьи Алексеевны я говорила всерьёз. Думай, думай! Я тут в одной книжке наткнулась на соображение Ключевского, ну да – историка. Об Елизавете Петровне. Я выписала. Слушай: «Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть ли половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорнрдорфа и Кунерсдорфа, но с правления царевны Софьи никогда не жилось так легко и не одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания». Понял, Ковригин! При Софье жилось легко! Когда ещё на Руси жилось легко? Сейчас! Сейчас! Это я не тебе. На сцену кличут… И Софья, между прочим, переводила Мольера!
– Слышал, – буркнул Ковригин.
– Если ты будешь мне бурчать букой, ты снова станешь Караваевым и начнёшь писать сонеты! – воскликнула Свиридова. – А Софья переводила Мольера!
– Софья сейчас не в моде, – сказал Ковригин. – И никому не нужна.
– Мне нужна! – сказала Свиридова, так сказала, будто сидела на троне, а Ковригин перед ней упирался коленом в пол. – И что же нынче в моде?
– Дирижабли, – сказал Ковригин.
– Ну, прикупи Софье дирижабль, – сказала Свиридова. – Пусть она катает стрельцов и испытывает поднебесную любовь с Голицыным и Шакловитым… Сейчас, сейчас иду… Я готова… А у меня, Сашенька, есть потребность с тобой поговорить… Не бойся, как влюблённый юнец ты мне не нужен. Всё. Бегу на выход! Перезвоню. Как-нибудь. Целую! Не забывай, при Софье в России жилось легко!
«Что значит – легко? – сейчас же озаботился Ковригин. – Крови, что ли, проливалось меньше прежнего? Или весело было? Или сытно? Или тревоги отодвинулись?»
«Нужна мне и впрямь сейчас эта Софья со Свиридовой впридачу! – ворчал про себя Ковригин. – Видите ли, у неё возникла потребность поговорить со мной. Глубины, что ли, души своей пожелала открыть?..» И тут же понял, что ворчит он на Свиридову беззлобно. Скорее добродушно. Вспомнился Средний Синежтур, гостиница, ночной приход к нему подгулявшей Натали, и Ковригину стало стыдно.
Взглядом Ковригин уткнулся в строки из интернетовской справки о дирижаблях. «…дирижабль подходит к мачте с подветренной стороны, и с его носа также сбрасывают канат… Чтобы завести дирижабль в ангар при сильном ветре, требуются усилия до двухсот человек…» «Это не наш случай, – подумал Ковригин, – все эти мачты, канаты, причаливания…» Хотя там, у платформы «Речник», на месте ресторана-дирижабля уже поставили металлическую мачту. Их дело! И их технический уровень. Кстати, в первом разговоре с Ковригиным местный бизнесмен Макар, поставщик виноградных улиток, назвал бывшую владелицу ресторана-дирижабля «Чудеса в стратосфере», взрывом унесённую в небеса, именно Лоренцой Козимовной.
Но Дувакин-то имел дело с Полиной Львовной Быстряковой.
И если Быстрякова была в реальности и была именно той самой влиятельной дамой, которая поняла ехидство его, Ковригина, и одобрила его, можно было посчитать её личностью разумной. Пусть она искала выгоду себе или своему увлечению, да мало ли чему или кому, Ковригин уговорил себя относиться к её пожеланиям со вниманием. Или даже уважительно.
«А между прочим, – озарило Ковригина, – тут можно наворотить исторический детектив на триста страниц! Или авантюрно-плутовской роман!..» Сразу же возникло желание переписать уже возникший текст и добавить в него сюжетные ходы и новые персонажи, какие в его воображении уже вызрели, заговорили и требовали своего житейского пространства на бумажных листах. Фамилия Понтряжкин ему уже не нравилась. Она напоминала о всяческих Пупкиных или Пилюлькиных. Нет, в рассказчики ему был нужен человек с заскоками и причудами, но поумнее автора письма к учёному соседу, с чудными идеями, но лобастый. Вот! Лобастов! Почему бы и не Лобастов? Именно Лобастов! Он же, Ковригин, согласился быть публикатором текста Лобастова и их комментатором. Причем не только оценивать суждения Лобастова, но и оспаривать их. Надо же было время от времени ставить этого завиралу Лобастова на место.
Тут же Ковригин посчитал, что у него будут и запасные фамилии. Алебастров и Стёганый.
Почему Алебастров и Стёганый, и зачем ему «запасные» фамилии, объяснить Ковригин не взялся бы, как не стал бы сейчас и самого себя просвещать, в чём смысл и сверхзадача его сочинения. Да ни в чём! Просто увлёкся. Озорство подгоняло его, пинками под зад коленом, колобком заставляло его катиться дальше, озорство! Он придумывал новые сюжетные повороты, тайны, любовную историю Лобастова (Алебастрова, Стёганого) без всякого расчёта угодить кому-либо, читателю, например, и уж тем более заказчикам, просто желал применить свои усилия профессионала. Именно от собственного озорства Ковригин и получал удовольствие. Даже в случае издательской удачи (авантюры), постановил Ковригин, денег он брать не станет ни от заказчиков, ни от Пети Дувакина. В удовольствиях озорства и был ему уже определён гонорар.
Иногда, правда, отталкивая страсти и поиски Лобастова, врывались к нему мысли посторонние, лишние, а потому и вредные. «Натали-то Свиридова вряд ли потянет на Софью, эту любимицу стрельцов, бабищу кровь с молоком. И Хмелёва для Софьи, пожалуй, слишком утончённая… Вот Ярославцева, возможно, подошла бы…»
«При чём тут Софья! При чём тут Натали! – негодовал Ковригин. – И всякие Хмелёвы с Ярославцевыми! Вообще все бабы, вместе взятые. Думать я могу лишь о тех женщинах, чьи судьбы связаны с историей воздушных кораблей…»
Стало быть, и о Полине Львовне Быстряковой?
А Дувакин уже неделю, как деликатным образом подталкивал Ковригина к знакомству с Быстряковой и душевному разговору с ней.
– Нет, Петя! – возмущался Ковригин. – Уволь! Единственно, с Антониной надо поговорить… А все остальные…
– Как знаешь, – говорил Дувакин. – Твоё дело… Но польза от этого разговора вышла бы…
– Тебе польза! – сказал Ковригин. – И журналу. Но что бы ни выгорело, денег я не возьму. Эту вещицу я напишу для себя, не на продажу.
«Возьмёшь! Возьмёшь как миленький! – Ковригин будто бы услышал невысказанное Дувакиным. – Не на продажу, видите ли…»
– Кстати, – сказал Дувакин, – ты хоть какие-либо деньги за свой синежтурский спектакль получил?
– Нет, – сказал Ковригин. – Не было времени. Сам же подлез ко мне с дирижаблями.
– Напрасно. Поспеши выбить, – наставительно произнёс Дувакин. – А то ведь сошлются на кризис и зажмут. Удаление твоё из Москвы по-своему рассудил Блинов. Замечен в хождениях по судам, совершил походы в литературный музей и архив. Неугомонен. Узнал от кого-то, что наш журнал намерен публиковать твою пьесу, прислал мне письмо, обещает устроить скандал и взорвать бомбу.
– Прохиндей! – воскликнул Ковригин.
– Прохиндей-то прохиндей, но будет ходить оболганным и обкраденным страдальцем. Грозит снятием завесы с некой мелодраматической тайны.
– А Свиридова? – взволновался Ковригин.
– А что Свиридова? Она документ, что ли? – сказал Дувакин. – К тому же сейчас она в Москве, а потом улетит на полгода сниматься в Париже…
Ковригин отругал себя. Вот уж кого не следовало упоминать сейчас, так это Свиридову. Взрослый мужик, жизнью учёный, а всё же, пусть и подпольно, уповает на поддержку особенной в его судьбе женщины. Да хоть бы и не особенной. В любом случае Свиридова должна была оставаться вдалеке от его забот. А слова Пети Дувакина с призывом к упреждающим действиям были справедливыми…
– Нет, – мрачно сказал Ковригин. – Пока не закончу текст о дирижаблях, с места не тронусь.
– Легкомысленный человек ты, Ковригин, – сказал Дувакин. – А между тем в Москве снова появился человек по фамилии Острецов.
– Ну, появился и появился, – сказал Ковригин. И вздохнул. – Вот вышло бы примирение с Антониной. Это важно…
– Можешь не волноваться, – сказал Дувакин печально. – Антонина Андреевна занята сейчас новыми лирическими отношениями.
– С кем? – воскликнул Ковригин. – Неужели с этой? С…
– Успокойся, – сказал Дувакин. – Всего лишь с Прохоровым Алексеем, своим бывшим мужем…
– Ну, слава Богу! – сказал Ковригин. И вскочил. Идея, совершенно не связанная с семейным устройством сестры, заставила его подняться на чердак. На днях он наткнулся там на скрученные в тубусы бумаги. В одном из них он обнаружил рисунки молодого тогда Алёши Прохорова и чертежи к его проекту то ли спортивного зала, то ли культурного центра. Рядом лежала связка (с шёлковой лентой) писем влюбленного воздыхателя к прекрасной синхронной переводчице. Воздыхания Прохорова были Ковригину не нужны, да и читать бы он их не стал, а вот рисунки и чертежи, в особенности сфер, так и не украсившего отечество здания показались Ковригину в его затее уместными.
Молодец Алексей Юрьевич Прохоров. Угодил! Будет на что взглянуть создателям воздушно-безвоздушного корабля! А его лирические возвращения к жене Антонине и детишкам в истории человечества – дело молекулярное, с блюдами из амёб на четыре персоны.
Так и жил Ковригин ещё неделю. Почти не спал. Кувыркался в небесах, то сам по себе, то в летательных аппаратах, срывался в чуть ли не погибельное пике, но с чудесными кружениями снова взмывал в небеса. А то и никуда не летал, а сидел в ельнике на пне и играл на двойной свирели, и его, голого до пупка, до мохнатых бедер и ног с козьими копытами, не трогали комары и прочая гнусь, зато с ёлок и сосен спрыгивали белки, расчесывали шерсть на ногах, а те, что посметливее, приносили слова, и собственные, и услышанные от грибников.
Никто его не трогал, не теребил, не приставал к нему с требованиями или пожеланиями. Телевизионные болтуны удалились в беззвучие. Телефон не дребезжал. Никого на Земле вообще не было. То есть кто-то был. Кардиганов-Амазонкин появился наконец, проходил иногда мимо забора с шахматной доской в руке, но был робок, печален и молчалив. Где-то жили Антонина с детьми, но за них Ковригин был спокоен. Однажды мелькнула в сознании (и в чувствах) Ковригина Натали Свиридова, но опять – бестелесная, и всего лишь частью мысли о том, что никакие пьесы ни о каких Софьях писать он не будет. Единственно с кем Ковригин имел общение, себе в удовольствие, – это с персонажами забавы, и в особенности с её рассказчиком Прокопом Лобастовым, шалопаем, отчасти интриганом, но при этом человеком романтических устремлений (или заблуждений), фантазёром и глазастым наблюдателем. Нынче история Лобастова становилась почти авантюрно-детективной, с любовями и элементами космической мистики.
Пришлось снова идти к Шепетиловой, та сушила яблочные дольки, внукам – на жвачку и компоты, и выпрашивать принтер.
Пачка хорошей бумаги у Ковригина была, и сочинение выползло из принтера в двух экземплярах. Шестьдесят страниц. На три номера с продолжением.
На четыре листа Ковригин наклеил поставленные на попа или вовсе перевёрнутые рисунки Алексея Прохорова, то бишь неизвестного конструктора невиданных кораблей, тайну которого, в частности, пытался разгадать дотошный Прокоп Лобастов. Ручкой Ковригин под проектами приписал пояснения, снабжённые техническими терминами, Ковригину недоступными. Потом он выдрал из рукописи, своей же, рисунки, среди прочих – с женскими лицами и кораблём-лягушкой, и их приклеил-пристроил в стопку сочинения Прокопа Лобастова с названием, в котором Ковригин ещё не был уверен: «Поэма о воздушных кораблях». Не – ещё, а уже был неуверен.
– Присылай курьера! – позвонил Дувакину.
– Сам привози, – Дувакин был суров.
– Не могу, – сказал Ковригин. – Устал. Опустошён. Энергия вышла. Начинается депрессия.
А ведь и впрямь был опустошён. Не обеспокоился даже тем, что курьером снова могла оказаться Лоренца Козимовна. Хотя она взорвалась и сгорела. Пожалуй, и на разговоры с ней был неспособен. Но прикатила на красной «тойоте» хохотушка Марина.
– Сан Дреич! – воскликнула Марина. – Соскучилась! Могу рукопись отвезти завтра утром! И депрессию снимем!
– Марин, – сказал Ковригин, голос у него отчего-то был осипший. – Я сейчас бревно. Я засыпающий крокодил. Вот отдохну, вот пойдут опята, вернусь, вот тогда… Не обижайся, чаем даже не берусь угостить…
– Никаких обид! – рассмеялась Марина. – И Дувакин меня завтра бы уволил. Нас и так мало осталось. А ты назначен в наши спасители. Велено тебя не трогать, не щекотать и не утруждать физическими упражнениями…
– В какие такие спасители… – пробормотал Ковригин. – Мало ли что тебе велено… Может, я захочу ночью внести поправки…
– Никаких поправок! – заявила Марина. – К тому же ты в кого-то влюбился…
– В кого я влюбился? – удивился Ковригин.
– Не знаю. Но говорят. Кого-то ты привёз из Аягуза. Всё, всё! Бегу и улетаю. Скорей бы пошли опята! Отдыхай…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































